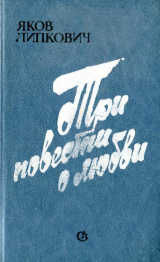
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Светлана скосила на него смеющиеся глаза – дала понять, что шутка дошла.
Ипатов снова потянулся к ней.
«Ой! – вдруг воскликнула Светлана. – Совсем забыла! – Она взяла сумочку, висевшую на подлокотнике, вместительную шведскую сумочку из плетеной кожи. – Тут тебе…»
Достала один большой пакет и два поменьше. По комнатке разнесся аромат отборных яблок из «Елисеевского».
«Зачем? Зачем столько?» – начал отказываться он.
«Чтобы быстрей поправлялся!»
«Куда мне столько? – пакеты едва умещались в руках. – Нет, один я не буду… Подожди, – сказал он, заметив, что она порывается встать. – Сейчас мы устроим пир на весь мир!»
«Ты не обижайся, но мне надо идти».
«Куда?»
«К тете Дусе… ну, к моей портнихе…» – почему-то смущенно добавила она.
«Не пущу! – Ипатов взялся за оба подлокотника. – Подождет твоя тетя Дуся!»
«Она-то подождет, только я ждать не могу!»
«Странно, тебе что, носить больше нечего?»
«Нечего», – подтвердила она.
«Как нечего?» – удивился он, вспомнив, как много у нее дорогих красивых платьев.
«Это у меня единственное», – сказала она.
«Как ед… – и не договорил. Как он мог забыть! – Все, все украли?»
«Угу… Кроме этого. Оно было на мне…»
«Это все я! Как я тогда не догадался? А? – запоздало корил себя Ипатов. – Ты очень переживаешь?» – он смотрел на нее виноватым искательным взглядом.
«Все равно через год-два они бы вышли из моды… Так что я даже в выигрыше оказалась», – мило пошутила она.
Он притянул ее к себе. Она заслонила лицо руками.
«Ты заразный», – посмеиваясь, сказала она.
«Не больше, чем ты», – заметил Ипатов, пытаясь прорваться через заслон ее рук. Когда наконец ему это удалось, ее губы уже ждали. Он не помнил еще такого долгого и опасного поцелуя. Расстояние от кресла до кровати было настолько коротким, что оба не заметили, как очутились на ней. Первой опомнилась Светлана.
«Не надо!.. Пусти!..» – она выскользнула из его объятий и села на кровати.
Во время короткой возни покрывало наполовину сползло, открыв взорам страшные постельные тряпки.
Ипатов лихорадочно, пока Светлана не обернулась, не увидела, натянул его на одеяло.
Светлана молча одернула платье, поправила прическу.
«Больше не надо так, хорошо?» – вдруг сказала она Ипатову.
«Хорошо», – послушно согласился он.
Она встала.
«У меня сильно платье помято?»
«Нет… чуть-чуть».
«Где?»
«Вот здесь…» – Ипатов виновато дотронулся до подола.
«У вас есть большое зеркало?» – спросила она.
«Да, в той комнате…» – ответил он и весь внутренне сжался. Комната родителей была такой же тесной, неуютной и убогой, как эта.
«Можно?»
«Конечно. Идем покажу…»
Обе комнаты – его и родителей – когда-то были одной, но потом их разделили тонкой деревянной перегородкой, в которой оставили дверной проем, постоянно завешенный старой бабушкиной портьерой.
Ипатов приподнял пахнущую пылью, выцветшую от времени тяжелую ткань, пропустил Светлану.
По пути щелкнул выключателем. Под тряпичным, еще довоенным абажуром вспыхнула сорокасвечовая лампочка, осветив всю скудость и убожество обстановки. Ипатов готов был провалиться сквозь землю. Он ожидал, даже не сомневался, что Светлана будет неприятно удивлена. Одно дело – его закуток, запущенный, как она могла решить, по причине обычной мужской неряшливости. Другое – комната родителей. От одной мысли, что она вдруг подумает о них с брезгливым недоумением, кровь кинулась ему в голову. Но Светлана только скользнула взглядом по старым портретам, разбросанным по стенам, и уже больше ничего не разглядывала. На ее лице не было ни любопытства, ни удивления, ни брезгливости. Лишь некоторая озабоченность тем, что стало с ее платьем. Словно она уже была здесь не раз и все это видела.
Ипатов не без смущения открыл дверцу шкафа, на обратной стороне которой находилось большое – почти в рост человека – зеркало.
Светлана повертелась перед ним, осмотрела платье со всех сторон. Пригладила рукой едва заметные морщинки на подоле.
«Ничего, сойдет», – сказала она.
И в этот момент ее взгляд упал на мамину шляпку с вуалью, лежавшую на верхней полке шкафа с краю.
«Можно примерить?»
«Примерь!»
Светлана надела шляпку, опустила вуаль с мушками. Мамина шляпка так ей шла, что Ипатов залюбовался.
«Ну как?» – спросила она лукаво.
«Фантастика!» – только и сказал Ипатов.
Она подняла вуаль, открыла лицо.
«А так?» – в ожидании ответа глаза ее посмеивались.
«Еще лучше!»
«Слышал: не родись красивой, а родись счастливой?»
«Ты это к чему?» – насторожился Ипатов.
«Ни к чему, – ответила она, положив шляпку на место. – Ладно. Я пошла!»
«А по-моему, одно другого не исключает!» – горячо заверил он.
«Не знаю», – пожала она плечами.
Он обнял ее.
«Ты придешь завтра?»
«Приду», – ответила Светлана, помедлив.
«Я буду ждать».
«Я приду», – повторила она и вышла в прихожую. Ипатов последовал за ней. Он хотел помочь ей надеть шубку, но тут же на него напал кашель. Минуты две-три он никак не мог справиться с ним.
«Прости», – с трудом проговорил он.
Одеваясь, Светлана смотрела на него жалостливым, участливым взглядом.
Когда он кончил кашлять, она заявила приказным тоном:
«Закрой за мной дверь и сейчас же ложись в постель!»
И, улыбнувшись, добавила:
«Вот видишь, до чего доводит сидение на каменных ступеньках?»
Ипатов еще не добрался до кровати, как вернулась мама. Она отпросилась с работы, потому что на сердце было неспокойно, в голову лезли всякие мысли. Как это уже было не раз, мама стала жертвой своего пылкого, неуемного воображения. Увидев сына определенно идущим на поправку, пребывающим в отличном настроении, она сразу успокоилась.
«Знаешь, – вдруг вспомнила мама, – на нашей лестнице, когда я поднималась, мне навстречу попалась одна очень милая девушка».
У него мгновенно загорелись щеки.
«Это она?» – тут же сообразила мама.
Скрывать от нее правду было бессмысленно. Кивком головы Ипатов подтвердил мамину догадку.
«Я так и подумала, – сказала мама. – Мы еще с ней переглянулись. Она очень внимательно на меня посмотрела. По-моему, она догадалась, что я твоя мама…»
«Возможно, уловила семейное сходство? Я у нее спрошу…»
«Да, жаль», – сказала мама.
«Что жаль?» – поинтересовался он.
«Если бы я чуточку раньше вышла, то, наверно, застала бы ее здесь… Прямо бы и познакомил нас… Или?» – мама заглянула ему в глаза.
«Что ты? – успокоил ее Ипатов. – Все было безумно нравственно. Она примеряла твою шляпку!»
«Уже?» – насмешливо произнесла мама.
Задетый маминым тоном, Ипатов немедленно вступился за Светлану:
«Можешь быть спокойной, никто на твою шляпку не посягает. Она вышла из моды сто лет назад!»
«А ты…» – с обидой начала, но не договорила мама.
«Что я?» – встрепенулся Ипатов.
«Ничего», – отрезала мама.
«Ты что, обиделась?» – забеспокоился он.
Когда мама обижалась, лицо у нее становилось холодным и непроницаемым. Стало оно таким и сейчас.
Ипатов хотел погладить мамину руку, но мама убрала ее.
«Вот те раз!.. Ты же первая начала и еще обижаешься! Кто сказал «Уже?», я, что ли?»
Мама по-прежнему молчала. Она всегда остро реагировала на малейшие посягательства на свое достоинство.
Сердце у Ипатова дрогнуло от жалости.
«Ну?.. Ну?.. Ну?.. – ласково заюлил он. – Хватит дуться?.. Ну… хочешь я попрошу у тебя прощения? Или стану на колени? Вот здесь, прямо на холодный пол?.. Ну что, мир?»
Мама оттаивала медленно. Наконец она перевалила за плюсовую температуру и обратилась к нему с коротким напоминанием:
«Я ничего не имею против твоей девушки. Она мне даже нравится… по первому впечатлению, – добавила она на всякий случай. – Но если я и отец почувствуем с ее стороны хоть какое-нибудь неуважение к себе, то у нас хватит ума и решимости держаться от вас на расстоянии. Вот и все, что я хотела сказать».
«Слушаюсь и повинуюсь!» – лежа козырнул он левой рукой.
«Дурачок», – нежно сказала мама…
Из пакета с яблоками выполз муравей. Можно было только гадать, каким образом он забрел в «Елисеевский» магазин, а оттуда попал в один из пакетов? Одинокий, зимний, возможно даже неленинградский муравей… Он сполз на письменный стол и, перевалив через край, исчез где-то под столешницей. Память сохранила все, что имело отношение к Светлане. Запомнилось и это…
Опять муравьи… По пригретой июньским солнцем асфальтированной дорожке двумя цепочками движутся муравьи. Одни спешат на ту сторону, к заливу, другие – на эту, к лесу. Но те полтора метра открытого, ничем не защищенного пространства каждую минуту уносят десятки муравьиных жизней. Почти никто из прохожих не глядит себе под ноги. И давят, и давят упрямо ползущие существа. Но вот однажды утром все увидели на асфальте воткнутую в трещину палочку с аккуратно привязанной фанеркой, на которой детским почерком было написано: «Астарожна мурави». И люди, благодарные за науку, преподанную им неизвестным малышом, умиленные своей человечностью, уже смотрели, куда ступить, и осторожно, с запасом, перешагивали муравьиные тропы.
А восьмилетняя Машка, довольная своей находчивостью, в это время сидела в хибарке, именуемой дачей, и уплетала за обе щеки пшенную кашу на молоке…
Уже пошел третий день, как Ипатову разрешили ходить. Сперва он передвигался по палате, держась за спинки кроватей, потом принялся обживать коридор и холлы.
Сегодня Ипатов намеревался усложнить маршрут. Спуститься на лестничную площадку этажом ниже и оттуда по телефону-автомату позвонить обоим своим чадам – Машке и Олегу.
Готовясь в путь, он поделился своими опасениями с Алешей:
– Как бы не сосчитать все ступеньки.
– Если успеете, – иронически заметил Алеша и вызвался сопровождать.
– Не беспокойся, Алешенька, все будет в порядке! – сказал Ипатов, отказываясь от предложенной помощи.
– В момент приземления? – весело осведомился тот.
– Нет, полета! – в тон ему ответил Ипатов. – Надо же когда-то, дружище, начинать самостоятельную жизнь?
Сказал и вышел из палаты.
Путь его пролегал мимо главного пульта, соединенного со всеми палатами. За перегородкой сидели дежурная сестра и ее подруга из соседнего отделения – обе молодые, высокомерные, болтливые. Они громко, не стесняясь проходивших больных, судачили о каких-то общих знакомых.
Тон задавала дежурная сестра:
– Танька, ты бы поглядела на нее – страшна, как Хиросима! Чего он в ней нашел? Ну я ей и говорю: смотри, Наташка, широко берешь, не споткнись! А она возьми и выйди из берегов. Говорит мне: ты завидуешь. А чего мне завидовать – захочу, хоть завтра в манекенши пойду. Косой до сих пор звонит, не надумала еще, спрашивает?
– Да, любить – так королеву! – поддакнула по друга.
Ипатов улыбнулся. Он вспомнил вчерашнюю историю. Машка вывела его впервые в коридор на прогулку. Мимо проходила вот эта самая сестра, которая сегодня дежурила. Ипатов вежливо поздоровался с ней. Она покосилась на него и не ответила. Ипатов удивленно пожал плечами, сказал Машке: «Неужели она меня не узнала? Сколько раз колола в задницу!» Машка с ее острым, как у бабушки, язычком тут же нашлась, что ответить: «Па, она вас всех не по лицам, а по задницам узнает!»
И оба рассмеялись. Услышав тогда у себя за спиной смех, сестра резко обернулась, сердито посмотрела на них…
Шел Ипатов потихоньку, осторожными, размеренными шагами. И это неторопливое прохождение по длинному коридору позволяло ему попутно слушать разные разговоры.
Сейчас его внимание привлекли несколько больных, стоявших у открытого окна и ведущих пустой разговор о том, сколько метров отсюда до трансформаторной будки. В основном горячились двое, остальные с глубокомысленным видом поддакивали то одному спорщику, то другому.
– Я тебе говорю, больше трехсот метров не будет!
– Нет, тут и четыреста потянет!
– Ну ты даешь, откуда здесь четыреста? Вон до того здания будет четыреста, а тут больше трехсот не потянет!
– Хочешь, поспорим?
– Стану я с тобой спорить, больше мне делать нечего!
– А сам, елки-палки, споришь.
– Кто спорит?
– Да ты!
– Я спорю?
– А кто, я?
Ипатов был уже далеко от спорщиков, а до него все еще долетало:
– Нет, триста!
– Нет, четыреста!
– Триста!
– Четыреста!
И хотя бы один уступил или предложил полюбовно сойтись на трехстах пятидесяти, чтобы наконец выбраться из этого нескончаемого, бессмысленного спора. Ипатов горько подумал: боже, сколько тем для разговоров – острых, волнующих, жгучих – то и дело подбрасывает людям жизнь, а вот эти часами стоят и спорят о какой-то ерунде. Гоголя бы на них!
Ипатов вышел на лестничную площадку перед служебным входом в отделение и увидел внизу длинный, человек, может быть, десять-двенадцать, хвост к телефону-автомату. Наверно, он повернул бы обратно, если бы его не позвал Александр Семенович, стоявший не то шестым, не то седьмым.
– Я для вас занял очередь! – крикнул он.
Испытывая неловкость перед остальными больными, которые, как он опасался, могли уличить их с Александром Семеновичем в мелком жульничестве, Ипатов медленно, держась за перила, спустился на первый этаж.
– Вы не смущайтесь, – громко произнес Александр Семенович. – Я действительно занял для вас очередь. Спросите товарищей?
Те, кто стоял рядом, к удивлению Ипатова, подтвердили:
– Занимал…
– Предупредил, что придут…
– Раз занял, об чем речь?..
Ипатов бросил на Александра Семеновича короткий, вопрошающий взгляд.
– Становитесь, – сказал, чуть попятившись, тот.
Ипатов встал, все еще не понимая, что побудило его соседа по палате занять для него очередь. Когда тот заявил, что пойдет звонить жене, Ипатов только подумал, что неплохо бы поговорить с Машкой и Олегом по телефону, но вслух ничего не сказал. Решение позвонить пришло потом, когда Александра Семеновича уже не было в палате. Неужели так легко было прочесть на его лице еще смутное и во многом неясное желание?
– Как вы догадались, что я приду? – тихо, чтобы никто не слышал, спросил Ипатов.
– Вы когда о чем-нибудь задумываетесь, – ответил Александр Семенович, – слегка поджимаете верхнюю губу. Вот я и занял на всякий случай.
– Слегка поджимаю губу? – удивился Ипатов.
Александр Семенович кивнул головой:
– Это не так трудно заметить…
– Но мне никогда никто об этом не говорил, – пожал плечами Ипатов. – Возможно, появилось с годами…
– Возможно…
Впрочем, за столько дней пребывания в одной палате они имели полную возможность приглядеться друг к другу. Ипатов тоже неплохо изучил своего соседа. Больше всего поражало в Александре Семеновиче несоответствие волевого, мужественного лица с неуверенными, нерешительными руками. Несомненно, это в значительной мере отражало его изрядно закомплексованный, интеллигентский характер…
Времени у больных было много, поэтому никто никого не торопил: говорили помногу, обстоятельно, с уймой нужных и ненужных подробностей. Ипатов с Александром Семеновичем отошли к распахнутому окну и уселись на широкий подоконник. Внизу в небольшом сквере шла обычная летне-парковая жизнь. На скамейках сидели и вели свои нескончаемые разговоры пенсионеры. Деловито и сосредоточенно возились в песочницах малыши. Нежно поскрипывали детские коляски, которые задумчиво и в то же время ответственно катили перед собой молодые мамаши. Носились, упиваясь свободой, запахами и встречами, пудели и таксы. Сквозь густые кроны деревьев мигало солнце…
– Какая благодать! – с блаженным выражением лица произнес Александр Семенович.
– Да, хорошо, – подтвердил Ипатов. Он чувствовал, что с годами становится все больше похож на отца, и, как тот, предпочитал восхищаться молча. Или, на худой конец, сдержанно, как сейчас.
– Вот вам и семейная драма! – кивком головы показал Александр Семенович.
По ближней аллее быстрыми, неверными, рассерженными шагами уходил из сквера мужчина. На нем был сильно помятый костюм и такая же помятая кепчонка. Натуральный выпивоха, каких немало ошивается у пивных ларьков. Из-за высокого детского терема выскочила и побежала за ним женщина в распахнутой куртке, в наспех накинутом на плечо платочке.
– Женя, стой! – кричала она. – Ты ведь знаешь, что мне нельзя бежать!
Он продолжал идти, не оборачиваясь и не отвечая. В страхе, что он может уйти, женщина из последних сил рванулась за ним. Задыхаясь, она наконец догнала мужчину и схватила его за рукав. Он пытался вырваться, но женщина вцепилась в него мертвой хваткой. Они долго и противно ругались, выясняя отношения. Впрочем, ругался в основном он, она же только жалобно упрекала.
– Знаете, – вдруг печально признался Александр Семенович, – а я ему завидую!
– Ему? В чем? – опешил Ипатов.
– Посмотрите, как она его любит. Готова бежать за ним хоть на край света. И побежала бы, поверьте!..
– Сомневаюсь, – возразил Ипатов, а сам подумал: бедный, бедный Александр Семенович. Можно представить, как мало перепадает ему женского тепла и ласки, что он позавидовал этому поганцу – вон как матерится!
Нет, он, Ипатов, в несколько лучшем положении. Госпожа продюсер хоть делает вид, что он ей дорог, что она просто ах как стосковалась по нему. Когда он был помоложе, он еще пытался вывести ее на чистую воду, но с годами смирился, даже перестал ревновать…
– Вы будете звонить? – вдруг услышали они. За разговорами и не заметили, как подошла их очередь.
– Ваша очередь, – сказал Александр Семенович Ипатову.
– Нет, ваша, – уступил тот.
– Я быстро! – губы Александра Семеновича сложились в жалкую, вымученную улыбку.
– Говорите, сколько надо. Мне не к спеху!
– Не знаю, – как-то неопределенно ответил Александр Семенович, опуская в прорезь автомата монетку.
Ипатов деликатно отвернулся, переключил внимание на сквер. Он понимал, что теперь, когда Александр Семенович, сам того, может быть, не желая, открылся перед ним, признался в самом сокровенном, будет верхом бестактности развесить уши.
Но, как Ипатов ни старался не слушать, полностью изолировать себя от чужого разговора ему не удалось. Долетали отдельные слова. Поражали просительные, заискивающие нотки в голосе Александра Семеновича. Он разговаривал с женой так, как будто был кругом виноват. Не хватало ему еще ощущать на себе осведомленный, сочувствующий взгляд Ипатова. Остальные в очереди хоть не знали.
Разговор оборвался на полуслове. Александр Семенович даже не договорил фразы. Смущенно улыбнувшись, он повесил трубку.
– Уже поговорили? – Ипатов сделал вид, что ничего не заметил.
– Да, да, пожалуйста…
Трубка еще хранила тепло от вспотевшей ладони Александра Семеновича.
Ипатов сперва позвонил домой. Услышав его голос, теща первым делом пожаловалась, что засорился унитаз.
– Позовите сантехника, – как можно спокойнее посоветовал Ипатов и спросил, где Машка.
Оказалось, что всех школьников бросили на сбор макулатуры. Затем теща вспомнила, что уже второй день из почтового ящика крадут газеты. На этом они закончили разговор, и Ипатов, попросив у очереди разрешение сделать еще один короткий звонок, набрал служебный телефон Олега. Сына на работе не было. Чей-то очень милый смешливый женский голос сообщил, что Олег Константинович с утра на совещании в райкоме. Последнее время он что-то зачастил туда: похоже, старался быть на виду…
– Поползли? – сказал Александру Семеновичу Ипатов, повесив трубку.
– Поползли, – ответил тот.
Медленно, отдыхая почти на каждой ступеньке, начали они свое первое после инфаркта восхождение по лестнице…
Сколько голубей на крыше клиники, где когда-то умерла мама. Ипатов увидел их, проходя по коридору, через открытую дверь и открытое окно шестой женской палаты. Они сидели на самом краю и казались непомерно большими на фоне светлого неба…
Нет, нет, только не думать… не вспоминать… оберегать сердце от излишних эмоций…
Машки еще не было. Зато его дожидались сразу трое: «ясновельможный пан» Жиглинский и двое с работы: Шорохов и Ирулик. То, что к нему одновременно заявилось столько посетителей, оказалось, вызвало недовольство дежурной сестры. И только после того, как Жиглинский «задействовал» (выражение Ирулик) свое обаяние, их пропустили.
Ирулик говорила без умолку. Она, очевидно, намеревалась рассказать Ипатову все последние институтские новости. Остановить ее было невозможно, и поэтому оставалось лишь набраться терпения и дождаться, когда наконец иссякнет источник. Несмотря на то что Ирулик имела высшее образование (редакторское отделение Заочного полиграфического института), она не отличалась ни умом, ни знаниями. Откуда-то взяв, что у нее незаурядные математические способности, она однажды заявила всем, что, если бы захотела, стала бы второй Софьей Перовской. Когда же ее поправили: «Софьей Ковалевской!», она тут же возразила: «Ну это как посмотреть!» О себе она часто говорила в третьем лице: «Ирулик побежала домой!», «Ирулик что-то себя плохо чувствует», «Ирулик хочет ам-ам!». Было же Ирулик (по паспорту – Ирине Петровне Татарниковой) сорок два года, и Ипатов, проработавший с ней в одной «конторе» целых десять лет, уже давно смирился с тем, что эта добрая, энергичная, старательная женщина глупа как пробка. Второй сослуживец – редактор отдела Шорохов (по паспорту – Герц-Шорохов Павел Борисович) был правой рукой Ипатова, его неофициальным замом. Поначалу многие недоумевали: что за нужда заставила пойти работать к ним профессионального литератора, члена Союза писателей? Поговаривали даже, что он устроился сюда, чтобы, по примеру некоторых своих коллег, внедрившись в коллектив, описать его потом в художественных произведениях. Чтобы потянуть на главную героиню, Ирулик целую неделю ходила на работу в бархатном платье. Следом за нею принарядились и другие женщины.
Все прояснилось в день выдачи аванса. Получая свои кровные семьдесят пять рэ, Герц-Шорохов дрожащими руками пересчитал купюры и взволнованно признался: «Уже полгода как не держал в руках столько денег!» Оказалось, что последняя его книга вышла семь лет назад, а новая еще только пишется и неизвестно когда напишется. Между тем у него большая семья (жена, двое детей, мать), а есть-пить надо каждый день.
В отделе только Ипатов знал, что привело к ним Шорохова. Он же устраивал его на работу, преодолевая чудовищное сопротивление кадровиков. «Шолохова, может быть, еще и взяли, – бурчали те, – а то Шорохов, да еще Герц… Сами посудите, на кой ляд нам писатель? И без него хватает писак!»
Но работы в отделе было невпроворот, под угрозой срыва находилось то одно, то другое, а найти подходящего человека на должность редактора быстро никак не получалось. И тогда Ипатов уговорил заместителя директора по кадрам взять писателя хотя бы временно – на два месяца. Так он незаметно и прижился.
Выглядел Герц-Шорохов старше своего начальника, за шестьдесят, хотя был моложе на несколько лет. Он ходил всегда в сером, обтерханном, помятом костюме, в старых потрескавшихся ботинках и походил больше на чеховского героя, чем на советского писателя.
Щадя его самолюбие, Ипатов всячески избегал начальственного тона, разговаривал с этим замотанным, растерявшимся человеком неизменно уважительно, дружески-непринужденно. Того же он требовал и от коллектива отдела. А Шорохов быстро сориентировался в своих многослойных обязанностях и буквально за два-три дня стал незаменимым. Работать с ним было одно удовольствие, потому что он все схватывал на лету и с любым заданием управлялся в срок.
Конечно, сейчас Ипатов с бо́льшим интересом послушал бы его, а не Ирулик. Но намеков она не понимала, а сказать прямо, пусть даже в вежливой форме, чтобы помолчала, дала поговорить и другим, значит, нанести ей жестокую обиду. Ирулик считала, что она неотразима, что нет мужчины, который мог бы устоять перед ее чарами, и вдруг такой конфуз! Ведь кроме своих – Шорохова и Ипатова, с нее, как она была убеждена, не сводили восторженных глаз еще четыре представителя сильного пола, включая обаяшечку Жиглинского.
Жаль, что Ирулик не видела этого обаяшечку, вальяжно восседавшего на табуретке за ее спиной. На его холеном породистом лице была написана такая скука, что Ипатов даже попробовал втянуть приятеля в общий разговор, если можно назвать общим разговором нескончаемую Ируликину болтовню.
Ни к чему не привела к попытка Ипатова обращаться напрямую к Шорохову. Ирулик тут же перебивала, встревала в разговор и вскоре опять брала инициативу в свои руки.
Поэтому у Ипатова и Шорохова не оставалось другого выхода, как переговариваться с помощью коротких взглядов, быстрых улыбок, скупых жестов. Так уточнялись и корректировались сообщаемые Ирулик новости и сплетни.
Но и без этой всеподавляющей болтовни однокурсники в лице Жиглинского и сослуживцы в лице Шорохова и Ирулик почти не стыковались между собой. Одной болезни Ипатова, видимо, было мало, чтобы объединить их общим интересом.
Чтобы убить как-то время до ухода Ирулик и ее бессловесного спутника, Жиглинский взял с подоконника старый-престарый «Огонек» и принялся его листать…
Ждать ему пришлось довольно долго – еще полчаса. За первую половину визита, пока верховодила Ирулик, он не сказал ни одного слова, если не считать выразительного «гм», когда Ипатов пытался подключить его к общему разговору. И только после того, как за Шороховым и Ирулик закрылась дверь, он торжественно возвестил своим неповторимым бархатным голосом:
– Я делегирован к тебе твоими бывшими сокурсниками, – Жиглинский вскинул на колени черный «дипломат» и, одновременно щелкнув обоими медными замками, откинул крышку, – чтобы вручить наш скромный адрес…
Он подал Ипатову зеленую папку с золотым тиснением.
– Мне? Адрес? Зачем? – Ипатов ничего не понимал.
– Загляни…
Ипатов раскрыл папку и увидел два листа мелованной бумаги, исписанных крупной старославянской вязью. Золотом и серебром горели заглавные буквы. В конце послания теснилось много набегавших друг на друга подписей…
И в самом деле, адрес предназначался ему…
«Многоуважаемый Константин Сергеевич! Наш дорогой Костя! Мы все честной компанией сердечно поздравляем тебя, нашего славного правофлангового, лихого гвардейца, гвардейца не только званием, но и ростом («Господи, до сих пор помнят, что длиннее его на курсе никого не было!..»), с высокоторжественной датой – с 60-летием со дня рождения…»
А он забыл, что послезавтра ему шестьдесят. То есть помнил, но в последнее время перестал думать: решил, что все равно не придется отмечать. В лучшем случае поздравят одни домашние. Еще не было ни разу, чтобы они позабыли, не поздравили. Но им, как говорится, и карты в руки. Но откуда однокурсники узнали? Не удержался, спросил об этом Жиглинского.
– Грош цена была бы нашему оргкомитету, – посмеиваясь, ответил тот, – если бы мы не располагали досье на каждого. Среди них есть прелюбопытнейшие…
– Мое, в частности?
– В частности, и твое…
Значит, готовясь к предстоящей встрече, члены оргкомитета добрались и до университетского архива. Там они, очевидно, познакомились с личными делами бывших студентов, получили точнейшую информацию о каждом из них. Точнейшую… Ипатов усмехнулся. Он был уверен, что вранья в этих анкетах и автобиографиях не меньше, чем правды. Сам он тоже заливал где надо и где не надо. Но что касается дня рождения, там он был точен…
И все-таки в оброненной Жиглинским фразе таился намек на какое-то неординарное обстоятельство из жизни Ипатова, обнаруженное в бумагах. Скорее всего, что-нибудь забавное, иначе Жиглинский не решился бы столь открыто интриговать приятеля. В увлекательных, праздничных играх взрослых, именуемых встречами однокашников, также были свои неписаные правила. И первым из них значилось: ни под каким видом не упоминать то, что было бы кому-нибудь неприятно. Полагалось говорить только хорошее, по возможности окрасив его, это хорошее, мягким и необидным юмором.
– Тронут до слез, – искренне поблагодарил за адрес Ипатов. – Нет, правда, приятно, что поздравили… поздравил, – поправился он, понимая, что инициатором, больше того – организатором этой затеи был не кто иной, как Жиглинский.
– Разве можно тебя не поздравить? – насмешливо сощурив глаза, ответил тот. – Ты был одной из наших колоритнейших фигур. Дон Кихот и Дон Жуан одновременно.
– Ни больше ни меньше…
– Тебя даже Петренко помнит…
Петренко был тот самый знаменитый министр, чье присутствие должно было украсить их сбор.
– Меня? Петренко? – приятно удивился Ипатов. – А я совершенно не помню его… Если бы показали на наших первых студенческих фотографиях, может быть, и вспомнил. А теперешние его портреты мне ничего не говорят… Что, его подпись тоже здесь? – взгляд Ипатова заметался от одной подписи к другой.
– Нет, конечно. Я разговаривал с ним только по телефону. Я тебе когда-нибудь расскажу, как мы – это целая эпопея – добывали номера его телефонов… Сперва он удивился, а потом обрадовался. Обещал непременно быть. И что самое фантастическое, он многих помнит. В том числе тебя. Он сам первый заговорил о тебе. Был у нас, говорит, такой Ипатов. И описал твою внешность. Я засек на часах – двадцать две минуты разговаривали… Правда, ходят упорные слухи, что его скоро попросят на пенсию… по состоянию здоровья, как принято сейчас говорить… Но в любом случае – он наш, – с легким вздохом заключил Жиглинский.
«Впрочем, если снимут Петренко, – невольно подумал Ипатов, – все равно останется Захарчук (Захарчук была фамилия выдающегося кинорежиссера). Того уж никто и никогда не снимет. Приписан, как говорит моя милая женушка, навечно к кинематографу. Так что оргкомитет утешится быстро…»
– А Захарчук подписался?
– А как же! Вот его подпись! – Жиглинский безошибочно ткнул пальцем в размашистое «Зах».
– Он что, тоже помнит меня? – Ипатов почувствовал, что у него горят щеки.
– Откровенно?
– Откровенно.
– Откровенно, нет. Но это не имеет значения. При встрече вспомнит.
«Значит, некоторые подписали, не помня меня, по его просьбе, так сказать, авансом», – сделал вывод Ипатов. Мгновенно прояснились и причины, побудившие Жиглинского заняться столь хлопотным делом. Этим адресом он, как человек практичный и деловой, сразу убивал двух зайцев. Делал приятное Ипатову и еще до встречи возобновлял знакомство с массой нужных людей. Даже те, кому, казалось бы, не очень повезло в жизни, хоть чем-нибудь да могли быть ему полезными. «Но может быть, я думаю о нем хуже, чем он есть?» – подумал Ипатов.
Жиглинский, видимо, все-таки заметил тень, пробежавшую по его лицу, и решил раскрыть карты.
– Чтобы тебя не мучили сомнения, – пробасил он, – еще трое не помнят тебя. И двое попросили подписаться за них. А в остальном, можешь мне поверить, адрес как адрес…
– Я вижу, тут приложили руку художники-профессионалы, – сказал Ипатов, любуясь причудливым шрифтом и живописными виньетками. К тому же, он, чувствуя себя немного виноватым перед Жиглинским, хотел сказать ему что-нибудь приятное.
– Моя благоверная. Когда-то она окончила Мухинское училище, – с явным удовольствием сообщил тот.








