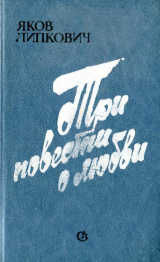
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
PRO MEMORIA
ПРОЛОГ
Из записных книжек, от случая к случаю служивших мне дневником
10 июля 1984 года
Признаться, я всегда опасался, что кто-нибудь уронит эту статуэтку и разобьет. Так оно и случилось. Я опасался, я и уронил. К счастью, разбилась она всего на несколько крупных осколков, и в обычной мастерской по ремонту антикварных изделий ее быстро и незаметно склеили. Там же мне сказали, что это хоть и саксонский фарфор, но весьма низкого качества, обыкновенный немецкий ширпотреб начала двадцатого века и поэтому особой ценности не представляет. А все эти синие бантики, алые розочки, белые кружевца рассчитаны на самый невзыскательный вкус. В ответ я молча пожал плечами. Она и раньше мне дорога была лишь как память и ничем больше.
Написал «дорога как память» и задумался. Просто я привез эту забавную куколку еще с войны. Во всяком случае, так считалось в нашей семье. На самом деле никакого отношения к войне она не имела. Мне ее подарила одна славная девчушка по имени Ганна. Вернее, не подарила, а незадолго до моего отъезда, украдкой, когда я на минутку вышел из хаты, сунула в вещмешок. Я думаю, сделала она это тайком от своих родителей. Были они люди прижимистые, чистые куркули, как говорили наши солдаты, и вряд ли бы согласились по доброй воле расстаться с этой, как они, видимо, полагали, дорогой безделушкой, выменянной ими, тут уж нечего сомневаться, на продукты питания у горожан. Обнаружь я фигурку раньше, еще на месте, я бы сразу вернул ее. Но возвращаться с дороги из-за такого пустяка я, конечно, не стал. Да и кто бы разрешил мне, старшему военфельдшеру отдельного мотоциклетного разведывательного батальона, покинуть на несколько часов свою часть? Наш танковый корпус как раз перебрасывался на другой участок фронта, и от того села, где мы стояли, нас уже отделял не один десяток километров. Так статуэтка и осталась у меня – то ли подарок, то ли нечто похуже. Я нисколько не сомневался, что, заметив пропажу, хозяева первым делом подумали обо мне, своем постояльце, и сказали вдогонку несколько крепких слов… если, разумеется, у четырнадцатилетней Ганны не хватило духу вступиться за меня, признаться во всем. Именно во всем, потому что за первым признанием от нее, несомненно, потребовали и второе: зачем она это сделала?
Однако меня тогда мало беспокоило, сказала ли она правду или же промолчала. Совесть моя была чиста. Да и, откровенно, мне было не до Ганны: по причине, о которой я, возможно, когда-нибудь расскажу, я не хотел жить и впервые безучастно, с холодной отрешенностью ждал начала боевых действий. И думал: убьют, туда и дорога…
27 октября 1984 года
Сколько я себя помню после войны, я все время собирался, но не решался рассказать на бумаге о своей первой любви. При одной мысли, что придется переживать все заново, раздирать в кровь с таким трудом зажившую и отболевшую рану, меня охватывал страх. И я, щадя себя, писал о другом.
Но вот сегодня произошло нечто, возможное только в произведениях фантастов. Только я встал, позавтракал, как неожиданный сердечный приступ уложил меня в постель. Боль скоро прошла, но я решил отлежаться. Мы были в квартире вдвоем с моей младшей дочерью Машей. Она сидела рядом и рисовала незнакомые женские профили. Рисовать по воображению женские лица – ее любимое занятие. Я с интересом смотрел, как из хаоса линий и пятен рождается очередное женское лицо. Но портрет чем-то не удовлетворял мою родную художницу, и она, поочередно пуская в ход карандаш и резинку, стирала одни штрихи и наносила другие. Лицо на бумаге все время менялось. Поначалу оно было очень красивым, но холодным, даже злым. Потом постепенно теплели глаза, смягчался овал, открывался высокий задумчивый лоб. Еще через несколько минут зажила улыбка – чуткая и озорная. Заиграла едва приметная ямочка на левой щеке – то ли ямочка, то ли складка. Огибая небольшие, с короткими мочками уши, спустились на плечи густые темные волосы. Чем больше я вглядывался в портрет, тем сильнее испытывал какое-то неясное беспокойство. Похоже, я где-то видел это лицо. Я с тревогой следил за карандашом, нервно метавшимся по бумаге, но он сам шел навстречу моей памяти и ни разу не сбился.
– Разреши, – попросил я Машу. Она удивленно посмотрела на меня и протянула рисунок. Да, это была Таня.
– Ты кого рисуешь? – сдерживая волнение, спросил я.
– Не знаю…
Я чувствовал, как у меня предательски трясутся руки.
– Что с тобой, папа?
– Ничего… ничего…
Как, какими путями передалась Маше моя бань, моя память? Ведь она никогда не видела Таниных фотографий – они остались в машине, которую я вынужден был бросить, выходя из окружения под проклятым городом Лаубаном в Силезии. И я ни ей, ни кому из близких не рассказывал о своей первой любви…
Я не буду скрывать, что эпизод с рисунком произвел на меня сильнейшее впечатление. Конечно, я понимал, что это чистая случайность, редчайшее совпадение. И все же, несмотря на скептический голос рассудка, я воспринял обе эти истории – с портретом и статуэткой – как своего рода знамение, как сигнал к работе.
Очевидно, пришла очередь писать и о Тане. Да и где та сила, которая могла бы остановить разбуженную память?
ГЛАВА ПЕРВАЯ
…Шесть дней мы не вылезали из окопов. Держали нас там на случай, если немцы, окруженные в Т., надумают прорываться на нашем направлении. Правда, мы сильно сомневались, что из всех направлений они выберут именно наше: надо было окончательно потерять рассудок, чтобы выходить на соединение со своими дальним кружным путем. Мало того, что здесь их тоже поджидали сильные заслоны, но еще из-за больших расстояний был бы утрачен элемент внезапности, без которого им и вовсе ничего не светило. И это не считая многочисленных речушек, болот и лесов.
В общем, чутье нас не обмануло. Действительно, немцы попытались выйти из блокированного города впрямую, как раз там, где новая линия фронта проходила в каких-нибудь десяти-двенадцати километрах, то есть в полосе, где все было подготовлено к их разгрому. Они шли напролом, разгоряченные обильным шнапсом, подгоняемые отчаянием и надеждой. И смерть сотнями косила их. В результате половина гитлеровцев была уничтожена, а половина взята в плен. Потом, как нам рассказывали, куда ни глянешь, всюду среди гусеничных следов валялись трупы в грязно-зеленых шинелях и над неостывшей кровью поднимались испарения. Некоторые танкисты после этого несколько дней не могли брать в рот мяса. Словом, разгром был полный.
В связи с тем что мы тоже выполнили свою задачу – проторчали шесть суток в окопах, наш батальон отвели в ближайшее село на отдых. Но так как лес все еще кишмя кишел гитлеровцами, пытавшимися выбраться к своим, нас время от времени поднимали по боевой тревоге и бросали на помощь боевому охранению. Иногда между нами и бродячими группами гитлеровцев завязывалась короткая перестрелка. Но в большинстве случаев они старались не доводить дело до схватки: как только мы появлялись, тут же отходили в глубь леса. А там или искали другой выход, или же, вдоволь набродившись в чаще, оборванные, обросшие, голодные, привязывали к палке белую тряпку и шли сдаваться…
Со временем нам все меньше и меньше докучали боевые тревоги, и мы занялись тем, чем обычно занимаются части, отведенные на формировку, – готовились к новым боям. Конечно, жизнь у меня была вольготнее, чем у строевых офицеров, которых с утра до ночи мурыжили в поле и на полигоне. Но хорошо помню, что поначалу я тоже был загружен по горло. Прежде всего, не было отбоя от больных. Пока шли бои, никто не хворал. А тут повалили, кто с простудой, кто с фурункулами, кто с потертостью. Один даже заявился с местным «подарочком», проявившим себя, как это и значилось в медицинском справочнике, уже на третий день.
А потом напряжение вдруг как-то сразу спало, и я зажил спокойной, неторопливой, размеренной жизнью батальонного фельдшера. К этому располагало и жилье – большая удобная хата в центре села. Из трех комнат самую просторную и светлую отвели под санчасть. Чтобы не разводить инфекцию, я попросил хозяев убрать все лишнее: фотографии со стен, цветы с подоконников, занавески, коврики, половики. Оставил лишь то, без чего нельзя было обойтись: стол и тумбочку под медикаменты, кровать для себя.
Надо сказать, что хозяева приняли все мои нововведения безропотно. Возможно, они даже рады были, что у них поселился «пан ликар», как они уважительно меня величали, к тому же один. В соседних хатах, например, ногу негде было поставить – чуть ли не в каждой комнате размещалось по десять-двенадцать бойцов. Разница? Но действительно ли хозяева молились на меня, как на выгодного постояльца, я не был до конца уверен. Кто знает, что они там думали обо мне. Да и вообще мы редко попадались друг другу на глаза. Я жил на своей половине, они на своей. Видел я их преимущественно из окна. То проходил мимо, как всегда потупив голову и опустив широкие плечи, хозяин. То пробегала, бросив быстрый взгляд на марлевые занавески, вечно спешившая куда-то хозяйка. И лишь четырнадцатилетняя Ганна, единственная в семье, кого я знал, как зовут, на цыпочках, тихо поскрипывая половицами, подходила к двери в мою комнату и прислушивалась к тому, что я делал. Но я сперва не обращал на это внимания и относил целиком за счет детского любопытства. Честное слово, мне положительно было не до нее. И не только потому, что смотрел на девочку с высоты своих двадцати лет, но и потому, что голова у меня была забита другим – непонятным, загадочным, необъяснимым молчанием Тани. Ведь прошли две недели, как я послал ей записку, в которой намекал на свое одиночество и просил приехать, а она почему-то не ехала. Последние несколько дней я прямо не находил себе места. Смешно говорить, но всякий раз, заслышав на улице чьи-то легкие шаги, бросался к окну и, если не доставал прохожего взглядом, высовывался по пояс. Или замирал, когда поблизости скрежетали автомобильные тормоза и останавливалась машина. Если находился в штабе или подразделениях, старался быстрее закончить дела и вернуться в санчасть: а вдруг Таня уже здесь? Иногда я доходил до края села и там, у огромного креста, врытого в землю, встречал появлявшиеся машины. В последнее время они шли сплошным потоком, а Тани все не было, не было, не было… Возвращался я домой нескоро, весь забрызганный грязью, изрядно наглотавшись выхлопных газов. А однажды со мной произошло и вовсе нечто странное. Меня вызвали в корпус на совещание среднего медицинского персонала. Я ехал в кабине грузовика и всю дорогу – как туда, так и обратно – по своей близорукости чуть ли не каждую попадавшуюся на глаза военную девушку с замиранием сердца принимал за Таню, для этого той достаточно было иметь темные волосы и легкую походку. Прямо какое-то наваждение. Конечно, плохое зрение плохим зрением, но было в этом что-то и от тихого любовного помешательства.
Возможно, измученный вконец ожиданием, я бы рванул к ней сам. Но с одной стороны, я боялся разминуться, а с другой – никто бы не дал мне сейчас увольнительной: со дня на день ожидался приезд командующего армией, собиравшегося проверить, как мы готовимся к предстоящей операции. Можно было, конечно, смотаться в самоволку. Но стоило мне только представить, что кому-то может понадобиться моя помощь (вот как вчера, когда с полигона доставили бойца с закрытым переломом руки), а меня нет, я тут же глушил в себе это поползновение. В общем, заменить меня было некем… в отличие от Тани, которая всегда могла попросить кого-либо из подруг подежурить вместо себя, что она, кстати, и делала раньше…
После того как ее из отдельного истребительного противотанкового дивизиона, где она была санинструктором батареи, перевели в армейский хирургический госпиталь, мы встречались довольно часто. Особенно после летних боев, когда нашу армию то и дело выводили на формировку и все части, как линейные, так и тыловые, дислоцировались почти рядом, в нескольких километрах друг от друга. Во всяком случае, за час я легко добирался до госпиталя. У Тани же на дорогу уходило примерно вдвое больше времени. Она не могла удержаться, чтобы не свернуть в лес, и там непременно нападала на грибное или ягодное место. Не помню, чтобы она приходила с пустыми руками.
Я любовался ею, когда она, закатав рукава гимнастерки, весело поглядывая на меня, принималась жарить грибы или перебирать ягоды. Я чувствовал себя тогда самым счастливым человеком в батальоне… почти мужем, да, почти мужем этой необыкновенной, удивительной девушки. На душе был полный покой, как будто все, что делалось кругом, включая войну, не имело к нам никакого отношения. Казалось, так будет всегда. И эти встречи, и эти ягоды, и эти сеновалы, где в самый неподходящий момент начинали ворковать голуби. Сказочные полгода. Мы даже стали забывать то недоброе для нас время, когда наши части – мой батальон и ее дивизион – дрались на разных направлениях и мы виделись всего три раза. Можно представить, как я тогда истосковался по ней, а она по мне, так, во всяком случае, она говорила. И у меня не было основания ей не верить. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь отозвался о ней плохо. Как-то в одном селе я заночевал с ребятами из ее дивизиона. Они направлялись куда-то в тыл за новыми орудиями. Я давно забыл, в какой связи зашла речь о Тане, возможно я сам заговорил о ней. И тут все шесть иптаповцев, включая их командира, словно сговорившись, в один голос стали нахваливать своего санинструктора: и дело знает, и пуль не боится, и себя в строгости держит. Сколько мужиков ни пыталось подъехать, всех отшила. В том числе самого командира дивизиона гвардии майора Гулыгу, которому незадолго перед этим спасла жизнь – вытащила контуженного с поля боя из-под носа вражеских автоматчиков. Находившийся в соседней комнате ординарец командира слышал каждое слово. Когда гвардии майор полез к ней, она выхватила из санитарной сумки гранату и сказала: «Только посмей! Выдерну чеку!» Конечно, рассказывая об этом, ребята не знали и не догадывались о наших отношениях. Да и меня они видели в первый раз. Но я нисколько не сомневался, что Таня способна на такое…
В свои двадцать два года Таня пережила столько, что мне и не снилось. Правда, она была почти на два года старше меня (чем я тоже, как ни странно, гордился), но не это имело значение. Просто, в то время как я припеваючи жил с родителями, она на целых пять лет была разлучена с отцом, известным историком гражданской войны, и матерью, лучшим врачом-педиатром Харькова. Я еще только раздумывал, куда поступить после десятилетки, а она уже кончала второй курс исторического факультета. Дальше – больше. Перед самыми экзаменами ее, не объясняя причины, отчислили из университета, и она вынуждена была пойти работать дворником. Впрочем, занималась она этим, по ее выражению, бесспорно полезным трудом всего три месяца. Неожиданно вернулись из заключения родители. Лишь шесть дней было отпущено им судьбой на радость: грянула война. Уже на другой день Таня записалась на курсы медсестер и ровно через месяц получила назначение санинструктором в одну из формируемых частей. Под Киевом она была тяжело ранена в ногу, едва не угодила в плен. К счастью, ее прямо на поле боя подобрали местные жители.
Несколько месяцев она пролежала в низком сыром погребе на сбитых на скорую руку нарах. К зиме рана наконец затянулась, и Таня, напялив на себя какое-то немыслимое тряпье, двинулась пешком в Харьков. То и дело ее останавливали патрули. Но и на этот раз ей здорово повезло. Она шла вместе со старухой, бывшей провинциальной актрисой, которой ничего не стоило задурить голову дубоватым деревенским полицаям. Таня в меру своих способностей ей подыгрывала: пригодились навыки, полученные когда-то в школьной и университетской самодеятельности. Так, под видом нищенок они дошли до Харькова.
Однако родителей там Таня уже не застала. Соседи сообщили, что они были эвакуированы за несколько часов до прихода немцев. Но куда – неизвестно.
Обычно Таня не вдавалась в подробности, вспоминая о своем участии в местном подполье. И вообще она не любила рассказывать о себе. Все, что я знал о ней, было собрано по крохам за время нашего знакомства. Так, только недавно мне стало известно, что она выполняла какие-то очень опасные задания подпольного центра. В частности, не без ее помощи был уничтожен некто Полоз, принимавший участие в расстреле харьковских евреев.
Снова на фронт Таня попала сразу после первого освобождения Харькова. Она пришла на только что созданный призывной пункт и потребовала, чтобы ее направили на передовую, минуя запасной полк. Так она оказалась в нашей армии, в отдельном гвардейском истребительном противотанковом дивизионе. Не знаю, сколько раненых она вытащила с поля боя, но ко времени нашего знакомства под Лизогубовкой она уже была награждена двумя орденами: Отечественной войны первой степени и Красной Звездой. То, что она получила их за дело, а не за красивые глаза и прочее (такие случаи тоже бывали на фронте), я понял с первой нашей встречи.
Да, забавной была эта встреча, хотя и произошла при обстоятельствах, далеко не забавных. После того как немцы перешли в контрнаступление и выбили нас из Харькова, наши части – моя и Танина – отошли на левый берег Северного Донца. И вот во время этого драпа судьба и свела нас. Оказавшись без машины, которая в темноте налетела на танк и осталась без радиатора, я вынужден был «голосовать». Долго никто не обращал внимания на мою метавшуюся по обочине фигуру в короткой, не по росту шинели. Возможно, я казался подозрительным. Но одна машина все-таки остановилась. Когда я залез в фургон и меня в кромешной тьме стало швырять от борта к борту, я вдруг обнаружил, что здесь еще несколько человек, в том числе две девушки. Одна из них взяла меня за руку и усадила рядом с собой, на свободное место. Это и была Таня. Конечно, в тот момент я интересовал ее лишь как объект мимолетной заботы. Она даже не видела моей физиономии, а «спасибо!», наполовину проглоченное мною во время тряски, Таня, я думаю, не расслышала. Разглядели мы друг друга только когда закурили. На нас падали короткие и слабые отсветы от попыхивающих самокруток. У нее было задумчиво-серьезное лицо, которое с каждой новой затяжкой, выхватывавшей его из темноты, все больше раскрывало свою неспокойную красоту. Я уже не мог оторвать от него глаз, и Таня, видя это, нарочно, как потом призналась, погасила недокуренную цигарку, хотя и не накурилась еще. Она не выносила, когда на нее смотрели в упор незнакомые или малознакомые люди.
Я же продолжал дымить и был весь на виду. И она, как выяснилось позже, тоже что-то углядела. Рассматривая себя, тогдашнего, на фотографии, я по сей день недоумеваю, что она во мне такого нашла. Крупноватый нос, вечно скорбные близорукие глаза, ранняя синева завалившихся щек. Существовала еще густая черная шевелюра, но она вся была упрятана в шапку-ушанку и, естественно, не участвовала в пробуждении интереса ко мне.
Пока мы курили и приглядывались друг к другу, разговор был какой-то случайный, не запомнившийся мне ни единым словом, как будто его и не было. В то же время я понимаю, что такого не могло быть. Ведь о чем-то мы все-таки говорили. О сволочной погоде хотя бы.
Зато темнота, которая наступила после того как мы перекурили, придала нам смелости. Через час мы уже многое знали друг о друге, хотя больше говорил я. Тогда меня страшно поразило, что Таня чуть ли не с первого взгляда признала во мне ленинградца. Ведь в равной степени я сошел бы за москвича, киевлянина или жителя любого крупного города от Белого до Черного моря. Я не буду пересказывать, о чем мы говорили. Незачем и ни к чему. Скажу лишь, что я был в ударе и что за разговором мы не заметили, как прошла ночь. С небес на землю нас вернули частые удары зенитных орудий. Немецкая авиация бомбила переправу через Северный Донец, которую мы только что проехали. На телеграфном столбе с оборванными проводами во все стороны глядели указатели. Таня побежала к своим расчетам, я – к своим разведчикам.
Мы встретились с ней только спустя два месяца. Потом еще раз встретились, и еще… Она была первая моя женщина, а я у нее второй мужчина, и то, что знала она, стало и моим знанием.
И лишь война нам была ни к чему: каждая наша встреча могла стать последней…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Говоря военным языком, я располагал достоверными разведданными, что с Таней ничего не случилось. Одна из наших телефонисток, Анечка Белобородько, ездившая в госпиталь по поводу каких-то своих таинственных болезней, нажитых еще в первую военную зиму, видела ее там и, зная в общих чертах о наших отношениях, не преминула сообщить мне, что с Таней все в порядке, что она жива-здорова и что, несмотря на жестокую бомбежку, которой недавно подвергся госпиталь (один врач и одна сестра были убиты и четверо раненых снова ранены), жизнь в нем быстро наладилась. Разумеется, никаких приветов ни ей от меня, ни мне от нее Анечка не передавала: она делала вид, что ничего не знает о нашей, как тогда говорили, дружбе. Что-что, а чужие тайны наши телефонистки умели хранить.
Я был в полном недоумении. Думать плохо о Тане я не мог, я запретил себе это с самого начала. Но была же какая-то причина, которая мешала ей приехать? Может быть, в связи с потерями, понесенными медиками во время бомбежки госпиталя, запретили увольнения? Ведь и раньше, судя по Таниным рассказам, людей не хватало, а тут такое дело…
Но в этом случае она должна была написать. За столько дней мы успели бы обменяться десятком писем. Да и не похоже было на нее – не отвечать на мои послания. Ведь она прекрасно знала, как я истосковался по ней. Раньше, когда она не могла почему-либо приехать, непременно писала. Пусть немного, всего несколько строк. У меня сохранились все до единой ее записки. Вчера я не выдержал и жадно, с чувством непонятной неловкости перечитал их. Исписанные ровным стремительным почерком лучшей студентки, эти дорогие для меня тетрадные листки только подогревали мое нетерпение. Двадцать шесть записок! Целый ворох! Впрочем, ворохом я назвал их в сердцах, потому что сам же переворошил, возвращаясь к наиболее задушевным из них. А так они лежали одна к одной, аккуратно перевязанные толстой сапожной ниткой, в моей где только не побывавшей и чего только не повидавшей полевой сумке. В той же ровной пачечке хранил я и Танины фотокарточки, которые выпросил у нее, еще когда между нами ничего не было и все в наших отношениях могло повернуться и так и этак. Таня была снята не одна, а вместе со своим комбатом и другими офицерами батареи. Она стояла между двумя лейтенантами, командирами огневых взводов, Шакировым и Олейниковым. Впереди сидели, одиноко уставившись немигающим взглядом в объектив, комбат старший лейтенант Круглов и комдив гвардии майор Гулыга. Вторая фотография была почти точным повторением первой, только выражение лица у комдива было здесь не таким напряженным – чуть заметная улыбка шало сдвинула краешек губ. Интересно, когда были сделаны эти фотографии – до или после истории с гранатой? По лицам Тани и комдива, сколько ни вглядывайся в них, ничего не определишь…
А что, если она написала, а записка не дошла? Мало ли какие могли быть обстоятельства! Ну, потеряли, забыли передать. Наконец, что-нибудь случилось с тем, кто взялся доставить записку?
Думая так, я испытывал некоторое облегчение. И все-таки было сомнительно, что записка могла затеряться. Такого с нами еще не было. Все, что мы писали и передавали с оказией, находило нас, как бы далеко ни разводили меня и Таню фронтовые дороги. Помню даже случай, когда моя записка, вызвав чем-то подозрение у одного из непомерно бдительных товарищей, угодила прямо в «Смерш», а оттуда после тщательного изучения была препровождена мне с настоятельным советом пользоваться в дальнейшем, как все военнослужащие, обычной, проходящей военную цензуру почтой. Так что я не верил, что послание, если оно есть, могло пропасть.
Совершенно издергавшись, я написал новую записку, густо усеяв ее вопросительными и восклицательными знаками. Очень скоро нашелся и человек, который взялся передать. Это был замполит нашего батальона капитан Бахарев, уже вторую зиму одолеваемый фурункулами и потому являвшийся моим постоянным пациентом. Он направлялся в штаб армии на какое-то совещание политработников, и занести записку в госпиталь, который находился где-то рядом, ему, как он заверил меня, не составляло труда.
Уехал Бахарев сразу после завтрака. Чтобы окончательно не свихнуться, я принял двойную дозу снотворного и завалился спать, тем более что ночью была учебная тревога, завершившаяся двадцатикилометровым пешим переходом с полной выкладкой, и все, кроме часовых и дежурных, дрыхали без задних ног. Вскоре голова моя отяжелела, и я уснул…









