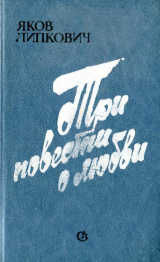
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Проснулся я от легких осторожных шагов по комнате. Первая мысль была: Таня! Но едва я открыл глаза, как увидел метнувшуюся к двери Ганну. Несмотря на полумрак, сменивший, пока я спал, ясный солнечный день, я все-таки разглядел ее по-деревенски крепкую и ладную фигурку. Ганна скрылась раньше, чем я успел спросить ее, что ей здесь надо. При случае – спрошу… Ох, господи, сколько же я спал? Я зажег спичку и посмотрел на часы: без двенадцати восемь. В общей сложности я дрых девять часов. Проспал и обед, и ужин. То, что меня не разбудили, означало одно: ни я, ни мои знания никому не понадобились. Пробу, наверное, снял санинструктор второй мотоциклетной роты Толя Михно, который временно замещал моего санинструктура Васина, раненного под Т. На этот счет у меня была с ним договоренность. Я не сомневался, что за полчаса до раздачи пищи он уже был на кухне. Его привлекало не столько поесть вволю, сколько показать поварам свою власть. Еще пару слов о Михно, чтобы больше не возвращаться к нему. Однажды он по секрету признался мне, что батько Махно приходится ему двоюродным дядей. Букву же в фамилии заменил свояк, работавший в милиции, – чтобы не так бросалось в глаза. Однако сколько я ни приглядывался к Толе, ничего махновского в нем не замечал. Был он человек добрый и справедливый. И ни у кого больше я не встречал таких бархатных и бездонных глаз…
Я вскочил с кровати, стал одеваться. Первым делом надо было узнать, вернулся ли капитан Бахарев. Судя по времени, он должен быть уже дома…
Частые боевые тревоги явно пошли мне на пользу. Чтобы одеться, мне потребовалось не больше минуты. Наконец очередь дошла и до оружия. Я вынул из-под подушки еще теплый пистолет и сунул его в кобуру. Снял со спинки стула автомат. Хотя сейчас он был мне совершенно не нужен, я не решался оставлять его в санчасти: мало ли кто может зайти и забрать. За утерю личного оружия взыскивалось строго – вплоть до трибунала.
Я подошел к окну, стал всматриваться в темноту. В хате напротив, где поселились командир батальона и его зам по политчасти, по-ночному непроницаемо чернели окна. С улицы казалось, что там или уже спят, или нет ни души. На самом деле это означало, что начальство дома. Когда замполит и комбат задерживались в штабе или на учениях, хозяева не очень заботились о светомаскировке. Порою тусклый свет от керосиновой лампы допоздна тянулся к небу, в котором время от времени урчали вражеские самолеты, и к лесу, где, по слухам, взамен бродячих немцев появились какие-то новые вооруженные банды, нападающие на наших солдат и офицеров.
Осталось только перейти улицу и узнать, вернулся ли замполит.
Я неловко повернулся и стволом автомата, свисавшего у меня с плеча, смахнул на пол несколько пузырьков. Резко запахло валерьянкой. Осторожно, чтобы не раздавить уцелевшие при падении пузырьки, я обошел стол и взял со второго подоконника лампу-самоделку – гильзу из-под зенитного снаряда с зажатым в верхнем сплющенном конце куском старой шинели.
Но прежде чем зажечь лампу, я завесил плащ-палаткой все три окна. Мне нисколько не улыбалось заработать несколько суток домашнего ареста за нарушение приказа о строжайшем соблюдении светомаскировки. То, чего невозможно было спросить с гражданских, с нас спрашивали строго.
Наконец по толстому, сильно обгоревшему фитилю медленно пополз огонек, разгоняя по закуткам темноту. Я пошел с зажженной гильзой к валявшимся на полу пузырькам и вдруг на самом краешке стола увидел два больших антоновских яблока. Так вот зачем прокралась ко мне в комнату Ганна. Решила побаловать меня яблоками. Ничего не скажешь – трогательно и приятно. Потеснив жирные запахи валерьянки и бензина, до меня добрался нежный, вкрадчиво-душистый, полюбившийся еще с детства аромат перезимовавших антоновок. Я взял яблоки и залюбовался ими. Они светились, отливали, дразнили доходящей, казалось, до самых семечек чистой янтарной плотью. Как кстати. Будет чем угостить Таню.
Я переложил яблоки на тумбочку – дескать, дар принят – и, задув огонь, вышел из хаты…
В хозяйском окне дрогнула занавеска, и я увидел круглое лицо Ганны. Девочка провожала меня заинтересованно-внимательным взглядом. Все-то ей надо знать обо мне. В жизни не встречал таких любопытных девчонок.
А может, и не в любопытстве дело? Мысль была настолько неожиданна, что я даже на минутку остановился. Ведь сколько забавных знаков внимания я видел уже с ее стороны. То пол вымоет, то пыль сотрет, то подушку взобьет – и все в мое отсутствие.
Из художественной литературы я знал, что девчонки-подростки нередко влюбляются во взрослых: в своих учителей, старших двоюродных и троюродных братьев, просто знакомых. Неужели и на меня пал этот обременительный жребий? Этого мне еще не хватало…
– Стий! Хто иде? – остановил меня на той стороне окрик часового.
– Это я, Зинченко, лейтенант Литвин!
– А… товарищ лейтенант! – узнал меня Зинченко, старый солдат, воевавший еще в первую мировую войну.
– Замполит приехал?
– Прыихав. З пивгодыны як прыихав…
Сердце мое бешено заколотилось. Точно с цепи сорвалось.
– Комбат тоже там? – опасливо осведомился я. Хотя командир батальона гвардии капитан Батьков относился ко мне хорошо, даже очень хорошо, мне совсем не хотелось посвящать его в свои дела. Он был не сдержан на язык и мог под горячую руку возвестить о моих внеслужебных отношениях с Таней всему батальону. Капитан же Бахарев был человек ровный, спокойный, и чужую тайну без особой нужды разглашать не станет.
– Пишов до штабу. З другий роты солдат пропав.
– Как пропал? – недоуменно спросил я, испытывая в то же время облегчение, что комбата не будет при разговоре с замполитом.
– Учора послалы за новыми патефонными пластинками до сусидив у Лучаны. Так и не повернувся. А иты тут всього годыну. Звоныли туды, кажуть: не прыходыв, не бачылы. Дезертируваты вин тэж не миг: старый солдат… Тихов, може, вы знаете?
– Нет, фамилию слышал. А в лицо не помню.
– Ось воно як: боив нэма, а люды пропадають…
– Может, еще отыщется…
– Може, ще знайдеться… десь… в канави… з переризанным горлом…
– Думаешь, бандеры?
– Кому ж ще?
– Откуда они только взялись?
– А бис их знае!..
– Ну, пойду погляжу, что замполит делает, – сказал я подчеркнуто-безмятежно, чтобы скрыть от Зинченко волнение, с новой силой охватившее меня.
– Мабудь, до политбесиды готовляться…
– Сейчас проверим…
Я постучал в дверь.
– Войдите!
Замполит сидел за столом, освещенным двумя большими гильзами, и что-то быстро писал на листках. Похоже, он действительно готовился к политбеседе.
– А… доктор! Садитесь. Я сейчас. Допишу только.
Я сел на лавку в сторонке, чтобы не мешать и не отвлекать. То, что он велел подождать, могло означать лишь одно: у него было что сказать мне. Я всматривался в его сосредоточенное белобрысое лицо, пытаясь хоть что-нибудь прочесть на нем. Но мысли Бахарева, видимо, были заняты докладом и ничем больше. Наконец он поставил точку – самую настоящую точку в конце фразы. Я ясно видел, как бежавшее перо вдруг остановилось и, повисев некоторое время в воздухе, в последний раз опустилось на бумагу.
Потом Бахарев посмотрел на меня и весело объявил:
– Ну, ваше задание я выполнил, доктор.
– Спасибо, – я почувствовал, как предательски запылали у меня щеки.
– Передал записку в собственные руки. Ваша знакомая обещала сегодня же ответить.
Я еще раз поблагодарил.
– Приятная девушка.
– Возможно, – неопределенно пожал я плечами и встал. – Разрешите идти, товарищ гвардии капитан?
– Да, конечно, – почему-то удивленно ответил он. То ли ждал от меня каких-либо расспросов, то ли сам еще хотел сказать.
Но я боялся неосторожными вопросами о Тане приоткрыть тайну наших отношений и потому промолчал. Да и подумал, что вряд ли Бахарев стал бы что-нибудь утаивать от меня, если бы знал. Зачем ему это? К тому же он, я видел, благоволил ко мне. И все-таки до конца быть откровенным с ним я не решался: во-первых, боялся подвести Таню, а во-вторых, я был не в таких чинах, чтобы безнаказанно крутить на фронте любовь. Бахареву я сказал, что Таню знал еще до войны и нас связывает только крепкая боевая дружба. Не верить мне у него не было пока никаких оснований. Конечно, при желании он мог бы заглянуть в записку. И наверно, заглянул бы, если бы не доверял мне. А он доверял: иначе не стал бы предлагать вступить в партию…
Я вышел из хаты и, пожелав покуривавшему украдкой Зинченко спокойного дежурства, направился к себе…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
А у меня уже был гость. Нет, не Таня, как я вначале с оборвавшимся сердцем подумал, увидев в своем окне тонкую полоску света, а Славка Нилин, единственный человек в батальоне, от которого у меня не было тайн, старый друг и земляк. Он валялся на моей кровати, закинув ноги на спинку. На кирзовых сапогах, которые он поленился снять, висели куски грязи. Когда я вошел, он даже не переменил позы.
– Мог бы хоть сапоги снять, – сделал я замечание.
– Видишь, я аккуратненько, – показал он на спинку кровати.
– Что, мне взять твои ноги и придать им нормальное положение?
– Ну, ладно, черт с тобой! – сказал он и, спустив ноги, сел. – Я к нему с доброй вестью, а он даже полежать не дает.
– С какой вестью?
– На… держи! – Славка достал из нагрудного кармана сложенную в несколько раз записку и отдал мне.
Разворачивая ее, я чувствовал, как от нетерпения дрожали мои руки. Так и есть – от Тани…
«На днях приеду. Т.».
«Приедет… приедет… приедет…» – застучало в висках.
– Ну, что пишет? – спросил Нилин.
– Что приедет… Ты что, был в госпитале?
– Слава богу, пока мне там делать нечего… Привез Малявин, ну, механику Лазарева. Он как раз лежал во втором отделении…
Второе отделение было Танино, и Нилин это знал.
– Он обратился ко мне за разрешением доставить тебе эту записку. Мол, сестричка очень просила. Ну, я ему сказал, что сам отнесу, все равно иду туда… Знаешь, а меня эта твоя пацанка пускать не хотела. Боялась, что я касторку сопру. Все в щелку подглядывала… Была бы она года на четыре старше..
– Выпьешь? – на радостях предложил я.
– Он еще спрашивает! – мгновенно отреагировал Славка и вскочил с кровати. – Какой русский не любит быстрой езды!
– При чем здесь быстрая езда? – спросил я, доставая из-под кровати (подальше от чужих глаз!) флакон с медицинским спиртом – весь мой запас.
– Вот и я интересуюсь – при чем? – остановился Нилин. – Только не жмоться, – добавил он, глядя, как я бережно и осторожно колдую с мензурками.
– Бери кружку, – сказал я. – Ведро с водой – в сенях!
– А ведра с помоями там нет? – полюбопытствовал Славка.
– Иди, смело набирай! – напутствовал я.
Он вышел в сени. Вскоре до меня донеслись грохот и Славкино чертыхание. Дверь была приоткрыта, и я, от души забавляясь, слышал все до последнего звука. Первой на шум выскочила Ганна.. Она ойкнула и бросилась за тряпками. Потом пришли посмотреть, что натворил мой гость, сами хозяева. Хозяйка немного поохала и стала вытирать пол. Ганна же, схватив пустое ведро, помчалась за новой водой.
Славка заглянул в комнату и упрекнул меня:
– Чего лыбишься? Видишь, по самые ноздри промок?
– Ничего, у меня запасные кальсоны есть. Поделюсь по-братски, – попытался я его успокоить.
– На хрена мне твои кальсоны! Я в них с головой утону! Лучше скажи им, – кивнул он в сторону сеней, – чтобы печку затопили. Буду сушиться, – сказал Славка и добавил со смешком: – Ты от меня еще так просто не отделаешься!
Я зашел к хозяевам и попросил затопить печь. Двинулась было сама хозяйка, но ее опередила Ганна. Через минуту она вернулась с охапкой дров. То и дело прыскала, глядя на подмокшего Славку. Однако это не помешало ей быстро и умело растопить печь. Иногда Ганна бросала взгляд на меня, словно приглашая посмеяться вместе. Щеки ее разрумянились, и она выглядела старше своих четырнадцати лет.
Вскоре дрова затрещали, и огонь стал весело перебегать с одного полена на другое.
Придержав на мне свой совсем не по-детски внимательный взгляд, девочка молча скрылась за дверью.
– Да, была бы она года на три старше… – снова посетовал Славка.
– Ну, это от нее не уйдет, – сказал я и протянул Нилину мензурку с разбавленным спиртом: – Давай!
– От нее не уйдет, – заметил Славка. – От меня уйдет.
Я мысленно улыбнулся: слушая Славку, можно подумать, что он завзятый донжуан. На самом же деле он упрямо обходил всех женщин стороной.
– За что?
– Чтобы дожить до победы, – сказал Нилин, поднося ко рту мензурку. – Чего мудрить?
– Давай!
«За твой приезд, Танюшка! За нашу встречу!» – про себя произнес я.
– Эх, заесть бы чем… – произнес Славка.
– Постой!.. Где же они?
– Чего ищешь?
– Яблоки на тумбочке лежали. Два яблока. Подожди, может, закатились куда…
– Не ищи. Я сожрал, – смущенно признался он.
– Как? Когда?
– Перед твоим приходом, – продолжал Славка. – Я думал, что у тебя их до хрена. Вон сколько в саду яблонь!
«Вот и угостил Таню, – сокрушенно подумал я. – Такие яблоки были… Тоже мне, не мог подождать, спросить…»
– Знаешь, – вдруг объявил Славка, снимая мокрые сапоги, – я новую поэму накатал. Я читал командирам машин. Им понравилось. Теперь хочу знать твое мнение…
– Она у тебя с собой?
– А как же! Все мое со мной. Правда, малость подмокла, но читать можно…
Развесив на спинке стула мокрую одежду, включая кальсоны с оборванными тесемками, Славка завернулся в мое одеяло и принял позу римского сенатора. В протянутой руке он держал ученическую тетрадку.
– Цицерон, – сказал я.
– Ну что, готов слушать?
– Готов. Она большая?
– Четыреста сорок восемь строк. Не считая названия.
– Шпарь!
– «Баллада о старом Аркаде Иштване и его дочери Марице»…
– О ком, о ком? – удивленно переспросил я.
– Это о давно прошедших временах, – пояснил Славка. – На венгерскую тему.
– На венгерскую? – я был совсем озадачен.
– Ну да!
– Ты что, был в Венгрии?
– Нет, но это не имеет значения… Слушай!
Высокая башня стоит на горе.
Под ней бурно плещет Дунай.
Деревья склонились в тревожной игре —
Такой неспокойный здесь край.
Осенние ветры срывают листву,
Цветной расстилая ковер.
Вода поднимается быстро во рву —
То замку шлет небо укор…
Славка читал с пафосом. Его голос то набирал силу, изображая рев ветра и шум потока, то как бы выдыхался, показывая бессилие человека перед стихией. В поэме рассказывалось о том, как некий трубадур поплатился жизнью за любовь к знатной даме. Чего только там не было: и бегство влюбленных, и погоня за ними, и черное предательство, и умница шут, подсмеивающийся над своим властелином, и многое-многое другое из той же оперы. Это была третья или четвертая поэма, которые накатал Славка между двумя ранениями. Нет, слушать было не скучно: захватывал сюжет и очень хотелось знать, что будет дальше. Но в то же время я никак не мог взять в толк, что побуждает Славку, лихого и бесстрашного командира танкового взвода, участника боев под Сталинградом и на Курской дуге, тратить время на эту рифмованную чушь. Ей-богу, уж лучше бы он писал о том, что видел и пережил за три года войны. Я уверен, у него бы получилось здорово. Однажды я ему сказал об этом, но он так посмотрел на меня, что я уже больше не совал нос в его творческие дела. Он отнял у меня, своего верного друга и читателя, все права, кроме одного – слушать и восхищаться…
Он окончил чтение поэмы примерно в полвторого ночи. К этому времени я уже потерял способность что-либо воспринимать и громко позевывал в кулак.
– Устал? – спросил Славка, свернув тетрадь трубкой.
– Устал.
– Но интересно?
– Интересно, – зевая, ответил я.
– Спать будем или почитаем еще?
– Спать, – жалобно сказал я.
– Еще пару стишат, и все!
Но вместо двух стихотворений он прочел по меньшей мере с десяток. Из них я запомнил только одно – о гондольере, который катает прекрасных дам по Венеции и иногда ловко пользуется их благосклонностью. Были там такие строки: «Я, честью клянусь, никогда не сменю нелегкий свой жребий мужской. Пусть тяжко приходится нашему дню, наградой за то час ночной…»
Услышав их, я едва удержался от улыбки: для кого-то часы ночные, возможно, и являлись наградой. Но для меня, вконец одуревшего от поэзии друга, они были скорее наказанием.
Часа в два я спросил Славку, рассчитывая на его догадливость:
– Послушай, а тебя не хватятся в роте?
– Не хватятся, – усмехнулся он. – Ребята знают, что я у тебя. Так что терпи, брат, до первых петухов…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда меня разбудили, вовсю светило солнце и где-то за селом высокий и чистый голос запевалы направлял и вел за собой нескончаемую походную песню – солдаты строем шли на боевые учения. Нилина, спавшего прямо на полу в шинели, уже и след простыл. Да и не до него было сейчас. Привезли тяжелораненого. Один из разведчиков чистил наган и не заметил, что в барабане остался патрон. Пять или шесть раз нажимал он на спусковой крючок – ничего, а потом нажал – и раздался выстрел! Пуля угодила стоявшему рядом сержанту в ногу. Его кое-как перевязали и доставили ко мне. Рана была нехорошей. Раздробив кость, пуля застряла где-то в нижней трети голени. От обильного внутреннего кровоизлияния нога прямо на глазах наливалась устрашающим свекольно-синюшным цветом. Я занялся раненым. Вдвоем с санинструктором мы бы справились быстро, но я был один, и на все уходило вдвое, втрое больше времени. После того как я ввел противостолбнячную сыворотку и хорошенько обработал входное пулевое отверстие, предстояло самое трудное – наложить повязку и шину. Едва я дотрагивался до ноги, сержант стонал и матерился от боли…
– Ганна, помоги! – крикнул я девочке, которая, как всегда, возилась где-то близко за дверью.
Она влетела в комнату и в нерешительности остановилась у порога. В глазах ее плескалась растерянность, и в то же время они выражали готовность выполнить любую мою просьбу!
– Ну чего смотришь?.. Поддержи!
Девочка опустилась рядом со мной на колени.
– Руки чистые?
– Ось! – она показала розовые ладошки.
– Ну, держи, чего же ты?.. Не здесь, выше!..
Поначалу Ганна терялась, торопясь, делала не то и не так. Но вскоре она поняла, что от нее требовалось, и уже с этого момента ее крепкие руки, с детства привыкшие ко всяким работам, быстро и умело справлялись с моими указаниями.
Мне ничего не оставалось, как нахваливать и благодарить ее:
– Хорошо!.. Хорошо!.. Молодец!..
От всех этих похвал круглое лицо Ганны разрумянилось.
– Все!
Наконец раненый был готов к дальнейшей эвакуации.
Я вышел на улицу посмотреть, не идет ли машина, за которой вот уже полчаса как послал проходившего мимо санчасти бойца. В моем распоряжении была «санитарка», но сейчас она стояла на ремонте. В тех же случаях, когда требовалось отвезти в медсанбат раненого или больного, я обращался за содействием к нашему зампотеху, который никогда не отказывал мне в транспорте.
Не прошло и пяти минут, как из-за поворота выехал грузовой «форд». На подножке стоял мой посыльный.
Мы подняли носилки и понесли. Ганна сама, без напоминания, ни разу не замешкавшись, открывала и придерживала двери. Повертеться бы ей с неделю-другую среди медиков, и она не хуже других справлялась бы с обязанностями санитарки. Только ее по молодости ни в один из госпиталей не возьмут. Какой-то странный, неопределенный возраст. И не девочка уже, и не девушка еще…
Обогнав нас, она успела убрать с дороги упавшие грабли, прогнать борова, распахнуть перед нами калитку.
После того как носилки с раненым были установлены в кузове, я сказал Ганне:
– Если кто приедет ко мне, скажи, что я просил подождать. Я скоро! Самое большое – буду через час!.. Поняла? – спросил я, залезая в кабину.
– Розумию, пане ликар!
И опять ее глаза как-то странно, не по-детски смотрели на меня.
– Поехали! – сказал я водителю. – Только не гони. Ему нельзя…
Машина тронулась, осторожно объезжая ухабы и рытвины. Из-за густой, вязкой грязи почти невозможно было определить, где основная дорога, а где объезды. С раннего утра до позднего вечера это широченное пространство, бывшее когда-то сельской улицей, помимо танков, бронетранспортеров, мотоциклов и грузовиков нашего батальона, месили все кому не лень, от тяжелых дальнобойных орудий, уже выбиравших за селом огневую позицию, до крестьянских подвод, направлявшихся на базар в город. Главное было – выбраться за околицу. Там от главного шляха ответвлялось несколько лесных и проселочных дорог, ведущих к соседям, и соответственно на каждую из них приходилось меньше колес и гусениц…
Дорога, которая вела к большому селу, где были расположены штаб корпуса и медсанбат, шла глухим темным лесом и только в редких местах вырывалась на опушку – к яркому весеннему солнцу, к голубому небу, к зеленеющим лугам и полям. Я не раз проезжал здесь. Бывал и в те дни, когда мы гонялись за бродячими немцами, и потом, когда ездил по своим медицинским делам. Расстояние было невелико, всего пять или шесть километров. Даже по расползавшейся грязи я проскакивал его за десять-пятнадцать минут. И сейчас я рассчитал, что на оба конца потребуется максимум полчаса. Ну и какое-то время уйдет на то, чтобы сдать раненого. Я вполне управлюсь за час, если не буду отвлекаться на посторонние разговоры с ребятами из медсанбата, на все эти нескончаемые: «Как живешь?», «Чего новенького?», «А слышал…», «А знаешь…» – и как-нибудь увильну от встречи с начсанкором, который – тут уж нечего сомневаться! – потребует от меня обстоятельнейшего доклада о состоянии дел в батальоне. От приятелей еще можно отмахнуться: «Ой, бегу, некогда!» От майора же не отмахнешься. Нужна особая, веская причина, чтобы он отпустил, не мурыжил. Господи, какого черта я ломаю голову, что сказать? Разве не убедительно будет, если я прямо заявлю, что батальон остался без медиков и я должен немедленно возвращаться? Мало ли что может случиться в мое отсутствие? И это будет правда. Такая же правда, как то, что я, изнемогая от нетерпения, жду приезда Тани…
Преодолев самый грязный, самый ухабистый, самый тряский участок дороги, мы круто свернули в лес. Машина с заметным облегчением покатила по разбухшей наезженной колее. Деревья подступали так близко, что, попадись навстречу другой грузовик, нам бы ни за что не разъехаться.
Еще совсем недавно распустились первые почки, а уже сейчас нигде не увидишь голой веточки. И в этом зеленом разливе, затопившем все вокруг, только дороги никак не могли расстаться со своей грязью…
Отъехав от развилки всего каких-нибудь триста-четыреста метров, мы обогнали троих солдат с автоматами, шагавших гуськом на небольшом расстоянии друг от друга. Вместо того чтобы попросить подвезти, они молча сошли на обочину. Я еще обернулся, посмотрел, не «голосуют» ли. Нет, ни одна рука не взметнулась вверх, не помахала нам. Но провожали нас внимательным, ничего не упускающим взглядом. Между тем все трое – бывалые солдаты. У каждого на груди ордена и медали. Я пожал плечами: «Охота им топать пешком?» Другие на их месте разом бы оседлали наш «форд». Тем более что нам было по пути: дорога вела прямиком до села, нигде не разветвляясь. Одно можно сказать: чудаки! Но возможно, они решили пройтись по лесу, надышаться волнующими весенними запахами? В конечном счете, это куда приятней, чем трястись в кузове. Да и шесть километров – разве расстояние?
Вот и мы только свернули в лес, только обменялись взглядами с бредущими по обочине солдатами, как уже впереди показался погорелый хутор, встречавший нас всякий раз на пути к селу. От человеческого жилья остались лишь русская печь да обугленный сруб колодца. Я вздохнул: все недосуг спросить у местных жителей, кто и когда его спалил…
Едва подумал, как машину уже вынесло к повороту, за которым открылся вид на квадраты зеленеющей озими. У каждого хозяина тут свое поле, не то что у нас, в России. Но живут неплохо, надо признаться.
Следующая веха – немецкое солдатское кладбище, если можно назвать кладбищем пять… нет, шесть деревянных крестов с фамилиями погибших. На одной из могил лежала каска, пробитая в нескольких местах автоматной очередью.
За кладбищем мы, по обыкновению, сбавляли скорость, потому что дальше протекал ручеек, над которым нависал изрядно осевший мостик. Конечно, если бы он вдруг обвалился, ничего страшного не случилось бы. Глубина была всего по колено. Но повозиться пришлось бы немало. Бежать за тягачом, вытаскивать, промочить в холодной воде ноги… Бр-р-р…
Пружиня на длинных бревнах, мы осторожно перевалили на другую сторону ручья…
Я вылез на подножку, заглянул в кузов. Раненый не стонал, не ругался, смотрел широко открытыми глазами на скользящую над ним узкую полосу неба.
– Ну как, живой, Свиридов? – спросил я.
– Живой, – ответил солдат. – Долго еще?
– Вот уже рядом…
Впервые за два года пребывания на фронте я не преуменьшал расстояния. Сколько раз приходилось мне успокаивать, обманывать раненых, лишь бы не теряли надежду на спасение, терпели из последних сил. Но сейчас я говорил правду. Чистую правду.
Не прошло и минуты, как дорога знакомо расширилась воронкой и показались первые хаты. А потом они пошли косяком, расступаясь перед нашей медленно ползущей машиной.
Крутой поворот, и мы очутились во дворе сельской школы, в которой разместился медсанбат. На мое счастье, начсанкора на месте не было, и я, быстро сдав раненого дежурному врачу, двинулся в обратный путь.
Теперь никакая тряска не была нам страшна.
– Давай жми на всю железку! – приказал я водителю.
Через минуту-другую мы были уже в лесу и неслись по собственным, еще свежим следам. Наш «форд» пер вперед, как танк, и только у самого моста ему пришлось сбавить скорость и аккуратненько перебраться на ту сторону. Дальше нас опять ничего не задерживало, кроме редких поворотов и грязи. Стрелка спидометра приближалась к двадцати километрам. Ветви деревьев то и дело хлестали по стеклам, и я всякий раз вздрагивал и отводил голову.
– Нервы, – сказал водитель.
– Да, нервы, – согласился я…
Мой взгляд снова отмечал давно примелькавшиеся вехи, только в обратной последовательности:
…жалкое немецкое солдатское кладбище…
…лесная опушка с видом на зеленые поля…
…черное пятно пожарища…
И вдруг меня точно обухом по голове огрело: а где те самые… те самые солдаты? По времени мы непременно должны были их встретить на обратном пути. До села, где нетрудно затеряться, они дойти не могли. За те четверть часа, что нас не было, они приблизились бы километра на два, не больше. Куда же они подевались? Свернули с дороги, чтобы идти лесом? Какой смысл? Прыгать с кочки на кочку? Шлепать по лужам?.. Странно, очень странно… Прямо как сквозь землю провалились!
А!.. Мало ли куда они свернули!.. Может быть, сидят в кустах по большой нужде… Втроем, одновременно?.. Да-а-а…
Мы выехали из лесу и пристроились к какой-то колонне автомашин с боеприпасами. Некоторым полуторкам, видно, не под силу было справиться с грязью, и их тянули на буксире мощные «студебекеры». Хорошо, что до нашего села было недалеко. Добрались с трудом, но своим ходом…








