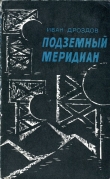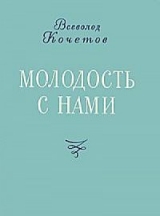
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
глубоком кресле. – Вы очень остро видите недостатки в работе института, вы очень метко отзываетесь о
прежних руководителях. И у меня уже давно появилась мысль: а что, если бы вы приняли участие в руководстве
институтом?
– То есть? – Бакланов насторожился.
– То есть вам надо стать главным инженером и, следовательно, заместителем директора по научной
части.
– Мне? – Бакланов взволнованно поднялся из кресла. – Заниматься администрированием? Да что вы,
Павел Петрович? Это шутка, конечно.
– Это не шутка. Это очень серьезно. Архипов подал уже два заявления. Он не хочет работать, да и,
говоря откровенно, не может. Он работник другого плана. А вы… У вас широкий взгляд, у вас нет предвзятого
отношения к людям, вы умеете анализировать, обобщать…
– Спасибо за комплименты, – перебил Бакланов, убеждаясь в том, что Павел Петрович действительно
не шутит. – Я благодарен вам за столь лестное мнение обо мне. Но я никогда не соглашусь бросить работу по
своей теме.
– А вы ее и не бросайте, Алексей Андреевич. Группа у вас будет, даю вам слово. Я добьюсь, чтобы она
была. Отличную создадим группу. Сегодня же оформим все необходимые документы, и если это понадобится, я
сам отправлюсь с ними в Москву к министру. Вы будете руководить и группой и всей научной работой в
институте. Неужели вы трусите?
– Не говорите так, Павел Петрович. Это мальчишеский прием – поддразнивать. Дело не в трусости, а в
трезвой оценке положения. Не справлюсь.
Павел Петрович посмотрел на взволнованного Бакланова долгим внимательным взглядом.
– Дорогой Алексей Андреевич, – сказал он негромко. – Неужели вы и в самом деле думаете, что одни
из нас не имеют этого права – не справляться, а другие его имеют.
Павел Петрович, то расхаживая по кабинету, то останавливаясь против Бакланова, который вновь
опустился в кресло, то садясь рядом с ним, долго рассказывал о том, как поручали ему руководство участком в
цехе, потом как поручили руководство всем цехом, как сделали главным металлургом завода, как, наконец,
прислали сюда, в институт.
– Мне всегда говорили, что это надо, очень надо. И, видимо, это действительно надо. Особенно страшно
было идти сюда, к вам. Страшно, что не справишься. Но разве это допустимо – не справиться? Нельзя,
Алексей Андреевич, не справиться. Надо справиться, во что бы то ни стало, но справиться. И я вас очень-очень
прошу помочь мне в этом.
Наверно, речь Павла Петровича была такой взволнованной, наверно, говорил Павел Петрович так горячо,
что Бакланов больше не протестовал и не отказывался. Уходя, он обещал подумать.
Павел Петрович был доволен. Он радовался тому, что разговор с Баклановым состоялся. Он уже
несколько дней назад послал в министерство просьбу назначить Алексея Андреевича заместителем по научной
части, но не находил удобного случая сказать ему об этом. Получилось все очень удачно. Отлично получилось.
Подумает и, конечно, согласится.
В кабинет вошла Вера Михайловна и сказала Павлу Петровичу, что к нему просится Нонна Анатольевна
Самаркина.
– Пусть заходит, – сказал Павел Петрович. Он был в хорошем настроении и встретил Самаркину
приветливо. – Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Чем могу быть полезен?
Самаркиной его настроение не передалось. Она села перед столом, мрачная, хмурая, заговорила
раздраженно и зло:
– Этот мальчишка Ратников не имеет диплома кандидата наук, но занимает должность, которая
полагается кандидату. А я имею диплом кандидата наук, но должности, какая полагается кандидату, мне не
дают.
– Вы недовольны работой? – спросил Павел Петрович, все еще не теряя доброго расположения духа.
– Дело не в работе. Что мне поручают, то я всегда выполняю честно и добросовестно. Дело в том, что
мне не платят той ставки, какая полагается кандидату наук.
– Так вы чего же хотите?
– Я хочу, – чеканила Самаркина, – чтобы Ратникова перевели на другую должность, а меня назначили
на его место, на котором полагается ставка кандидата наук.
– Он плохой работник, этот Ратников?
– В данном случае не имеет значения, какой он работник. У него нет диплома, вот что главное в данном
случае.
Павел Петрович невольно вспомнил чьи-то слова о том, что в институте Самаркина была известна как
незаменимый оратор на любых собраниях. На партийных, на профсоюзных, на производственных, на банкетах
по поводу чествования кого-либо и даже на панихидах, когда раздавался вопрос: “Кто хочет взять слово?” —
первой стремительно подымала руку Самаркина и зычным голосом выкрикивала: “Дайте мне!” Это ее качество
чрезвычайно ценил секретарь партбюро. Самаркина выручала его на тех собраниях, где никто не хотел
выступать первым.
– Я выясню обстоятельства вашего дела, – сказал Павел Петрович, скрывая возникающую неприязнь к
Самаркиной, – но прошу вас учесть, что в любом случае прежде всего значение имеет способность работника
работать, а не его дипломы. Дипломы – второстепенное.
– Но у вас-то, например, диплом ведь есть! – воинственно выкрикнула Самаркина.
– О нем никто никогда не вспоминает. В том числе и я.
– Вы что же, отрицаете роль документов, определяющих квалификацию специалиста?
– Ничего я не отрицаю. – Павел Петрович чувствовал, что раздражается все больше и что скрывать это
ему становится все труднее. – Но далеко не всё эти документы определяют. Они не определяют главного: того,
что человек получил от своей мамы, многоуважаемая Нонна Анатольевна.
– Если я поняла вас правильно, товарищ Колосов, если вы говорите о наследственности, то это же
типичный идеализм! Вы отрицаете значение воспитания, влияние среды!
– Короче, – сказал Павел Петрович подымаясь, чтобы дать понять Самаркиной, что разговор окончен,
– я разберусь в этом деле: вы – или Ратников, Ратников – или вы. До свидания.
После ухода Самаркиной Павел Петрович попросил Веру Михайловну Донду вызвать неизвестного ему
Ратникова.
Пришел молодой человек лет двадцати шести – двадцати семи с очень белым лицом и очень светлыми
длинными волосами, сероглазый и, как Павлу Петровичу с первого взгляда показалось, какой-то
девочкообразный – слишком скромный, слишком смущающийся и краснеющий. Павел Петрович с трудом
уговорил его сесть в кресло. Ратников раз десять сказал: “Ничего. Я постою”, прежде чем в конце концов сел. У
Павла Петровича невольно возникла мысль о том, что Самаркина, повидимому, права – свою должность
беленький молодой человек занимает преждевременно. Он спросил Ратникова, в каком отделе тот работает и
какой темой занимается.
– Вообще-то, – ответил Ратников тихим, срывающимся голосом, – моя тема – оборудование
мартеновских печей. Мы работаем вместе с товарищем Харитоновым. Но, извините, товарищ Колосов, я в
последнее время увлекся поисками способов, с помощью которых можно было бы увеличить производство
стали в действующих печах. Основную свою тему немножко запустил, на меня вот жалуются, говорят, что я
даром деньги получаю.
– Это кто же так говорит?
– Ну, и товарищ Харитонов и товарищ Самаркина. Они меня на партбюро вызывали. Я кандидат в члены
партии. Мне там очень попало. И я понимаю, что и вы… – Он замолчал.
– Что – что и я? – спросил Павел Петрович.
– Ну, что и вы мною недовольны.
В Ратникове Павел Петрович увидел подкупающую искренность, ту ясность и прямоту, которые
свойственны молодости. Он вспомнил себя в такие же годы. Он начинал чувствовать симпатию к этому
человеку.
– Так чем же вы увлеклись в последнее время, расскажите? – попросил Павел Петрович. – И что же
вам удалось отыскать?
– Видите ли, товарищ Колосов, – заговорил Ратников своим тихим голосом. – Стране надо очень
много стали, надо очень быстро увеличить ее производство. Это сделать можно совсем не обязательно только за
счет нового строительства. Это можно ведь сделать и за счет повышения емкости мартеновских печей. Нужна
только их частичная реконструкция.
– Правильно, можно так увеличить выпуск стали. Кто же возражает вам?
– Мне не то чтобы возражают, но говорят, что это совсем не научная тема, а чисто производственное
дело, и пусть я иду на производство. Что ж, я не против, я пойду на завод. Но и там буду заниматься этим делом.
Я в институт не просился, меня так распределили. Правда, мне тут нравится, не скрою от вас. Тут у меня шире
горизонт. Вот я, например, обследовал два больших уральских завода. Металлургических. И что же? Там можно
добиться такого положения, что можно будет получать дополнительно многие десятки тысяч тонн стали. Я
докладывал об этом в группе, товарищ Харитонов посмеялся: куда ты, говорит, лезешь, ты только вчера со
школьной скамьи. А я, товарищ Колосов, не вчера окончил институт, а четыре года назад. Товарищ Архипов —
заместитель по научной части – тоже моим докладом не заинтересовался. Какие-то критические замечания о
нем высказала товарищ Шувалова. Ну, а к слову Серафимы Антоновны все, знаете, как прислушиваются.
Он смотрел на Павла Петровича ожидающими, встревоженными глазами. Павлу Петровичу хотелось
встать, погладить его по этим светлым волосам, сказать: “Ну чего ты, дружок, испугался? Если ты уверен в
правоте своего дела, то дерись за него изо всех сил, грызись зубами, бейся, как львенок”. Но он сказал другое:
– Что же, по-вашему, надо на тех заводах сделать, чтобы получить дополнительные десятки тонн стали?
– Видите ли, товарищ Колосов, реконструировать действующие мартеновские печи, чтобы повысить их
емкость, это дело нетрудное. Правда ведь?
– Правда.
– Но ведь одновременно понадобится увеличить грузоподъемность разливочных ковшей.
– Тоже верно.
А раз увеличится грузоподъемность ковшей, то увеличится и нагрузка на подъемные краны, на каркас
здания.
– Вы рассуждаете абсолютно правильно, товарищ Ратников.
– Да, это, конечно, для вас азбучные истины, – совсем тихо сказал Ратников. – Но вот азбучные, а
эффект дают громадный. Чтобы частично реконструировать печи, чтобы частично усилить краны и конструкции
зданий, совсем не надо останавливать производственный процесс в цехе. Это тоже очень важное преимущество.
А второе ведь то, что и затраты невелики. Я назвал вам эти два завода на Урале. Емкость печей там можно
увеличить не меньше чем на треть, а для усиления конструкций потребуется всего лишь тонн по двадцать пять
стали на блок здания, обслуживающий одну печь.
– И это обеспечит дополнительно выплавку в десятки тысяч тонн ежегодно? – спросил Павел
Петрович.
– Да. А чтобы создать новые мощности для выплавки того же количества стали, потребовалось бы
затратить шесть миллионов рублей и около тысячи восьмисот тонн стальных конструкций.
– У вас интересные наблюдения и интересные мысли, товарищ Ратников. Где ваш доклад? Пожалуйста,
принесите.
Ратников вскочил.
– Вот спасибо, товарищ Колосов! Вот спасибо! Вы почитаете, сами увидите. – Голос его был уже не
такой тихий, как в начале разговора, и лицо порозовело. Радости своей он не скрывал.
– Несите, несите доклад! Потом подумаем вместе, что-нибудь да и решим. Как вы считаете?
– Так же считаю. Это очень важное дело. Его надо решить. Но, товарищ директор, скажите мне прямо, я
не побоюсь услышать правду, – неужели это только производственный вопрос? Неужели это верно, что я не
научно мыслю?
– Мне кажется, товарищ Ратников, что правда на вашей стороне. Если каждый завод,
реконструированный так, как вы предлагаете, даст стране лишние десятки тысяч тонн стали, то все заводы
вместе дадут миллионы тонн. Значит, наука, которой вы себя посвятили, сделает величайшее государственное
дело. Вы же, конечно, понимаете, что металл для нас – дело государственное. Иной обыватель рассуждает так:
что, мол, нам радости оттого, что, скажем, за пятилетку производство чугуна на душу населения возрастет в
полтора раза? Какая, мол, радость лично мне от дополнительных пудов чугуна на мою душу? Из чугуна котлеты
не сделаешь и штаны не сошьешь. Обывателю невдомек, что ведь именно он, чугун, и выплавляемая из него
сталь решают судьбу нашего машиностроения, а следовательно, и производительности труда на фабриках,
механизации сельского хозяйства, а в итоге и котлет и штанов. Без чугуна ни котлет, ни штанов не будет. Так
ведь?
Ратников утвердительно кивнул. Светлые его волосы упали на лоб. Он не заметил этого.
– Вы мыслите научно, не сомневайтесь в этом, – продолжал Павел Петрович. – Не давайте сбить себя
с правильных позиций. Итак, я жду вашего доклада.
Ратников почти бегом покинул кабинет. Павел Петрович улыбнулся ему вслед. Молодой энтузиаст
положительно нравился Павлу Петровичу. Пожалуй, Самаркиной не придется занять его место.
Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я
1
Утро было ясное и тихое. По Ладе, заполнив ее всю от берега до берега, медленно, с тугим скрипом шел с
верховьев лед. Под откосом набережной, полого облицованной гранитными плитами, возле самой воды, где
лежала дорожка песку и камней, собралась целая ватага мальчишек. Какие-то очень серьезные дела заботили
ребят; сумки и портфели их были так небрежно брошены грудой в песок, зимние истрепанные шапки так лихо
сдвинуты к затылкам, а лица отражали такое бремя суровых раздумий, что Макаров посчитал нужным
окликнуть:
– Эй, вы, там! Орлы! Что затеяли?
Мальчишки молча оглянулись на дядьку в черном пальто с барашковым воротником, к которому не
совсем ладно шла широкополая светлая шляпа, нехотя разобрали свои портфелишки и побрели вдоль берега.
Макаров остановился и смотрел вслед озабоченной ватажке. Он вспоминал себя, вот такого же
курносого, веснушчатого, с отраставшими к апрелю нечесанными вихрами.
Давно это было, давно… Не мчались в ту пору вместительные автобусы по набережной, не пролетали
легкие “победы”, не смотрели в Ладу окна шестиэтажных зданий с балконами, – изредка по булыжникам
катились гремучие тряские повозки, тощие кони вялой рысцой бежали мимо кирпичных и деревянных халуп,
черных от едкой заводской копоти, которую не могли смыть ни осенние ливни, ни талые вешние снега, хотя
заводы над Ладой, породившие эту копоть, не дымили уже с зимы тысяча девятьсот восемнадцатого. Заводы
второй, а может быть и третий, год стояли холодные, полумертвые; сколько хочешь шатайся по цехам, по
дворам – никто не остановит: набивай карманы гайками, болтами, кусками меди, шариками от подшипников
– никто не отнимет.
Жизнь не умирала только в тех цехах, на тех участках, где ремонтировали пушки против Деникина и
Юденича и паровозы, где из броневой стали склепывали артиллерийские пулеметные площадки для летучих
железнодорожных отрядов, где изготавливали санитарные двуколки и на расшатанных станках точили корпуса
трехдюймовых снарядов.
Мальчишкам было раздолье в ту пору. Отцы ими не занимались. Отцы или ушли на фронт, или
пропадали на митингах, в комитетах, в ячейках, на субботниках. Матери копали грядки на пустырях вокруг
заводов и тоже ходили на какие-то собрания.
Вспоминая отца, на щеке у которого багрово лежал шрам от сабли австрийского драгуна, мать в красном
платочке делегатки женотдела, себя и своих тогдашних друзей, Макаров долго следил рассеянным взглядом за
мальчишками, которые все еще брели вдоль берега; они размахивали сумками – значит, спорили меж собой. А
может быть, ругали его, дядьку в черном пальто и светлой шляпе, который ни с того ни с сего вмешался в их
дела.
Неспроста пришло на память далекое, мальчишеское: и день такой же голубой, апрельский, и ледоход, и
драные школьные шапки на затылках. Ясно помнилось, как стояли тут же вот, у воды, впятером и размышляли:
то ли на лед бросить стащенную на заводе пироксилиновую шашку, то ли в берег врыть, то ли подложить под
днище баржи, вылезшей на камни?
Иные, конечно, нынче времена. И мальчишки иные…
Макаров сказал себе об этом удовлетворенно; но вместе с чувством удовлетворения, оттого что
мальчишки стали иные, в сердце вползло совершенно неожиданное, незваное, неуместное чувство, до
странности похожее на сожаление. “Да, – думал он, – да, те пятеро мальчишек грохнули тут весной тысяча
девятьсот двадцатого года пироксилиновой шашкой, развалили на дрова прогнившую старую баржу, и может
быть, их тогда надо было драть нещадно…” Но драть-то драть, а вот ведь один из них сегодня известный
инженер-сталевар, руководит научным институтом, второй где-то на Дальнем Востоке возглавляет крупнейшее
строительство, третий – учитель, четвертый геройски погиб под Варшавой, командуя авиационным полком,
пятый – он сам, Федор Иванович Макаров, секретарь районного комитета партии, идет сейчас по свежему
утреннему воздуху к себе в райком начинать новый день трудовой жизни.
Он не облекал эту мысль в определенные слова и не слишком отчетливо признавался в ней даже самому
себе, – мысль возникла помимо его воли и, весьма туманно, в форме вопроса, выражала примерно следующее:
так ли уж хорошо, когда у нынешних мальчишек, если послушать заведующего районным отделом народного
образования, и всех забот-то стало, что заботы о четверках и пятерках?
Макаров не ответил на этот вопрос. Он шагал дальше по сухому весеннему асфальту, навстречу
восточному неласковому ветерку, под ударами которого дым из заводских труб выбрасывало быстрыми тугими
клубами.
По этой дороге ходили его дед и отец. Это была дорога Макаровых. Она вела к заводу, который вставал
над берегом Лады громадой цехов и тесной толпой труб, длинных и тонких, как стволы орудий дальнего боя.
Знакомая дорога, с нее не собьешься, даже если тебе завяжут глаза. Сколько ботинок, опорок, сапог,
валенок, калош износил Макаров на этой дороге! Ему казалось, что другой дороги у него никогда уже и не
будет. Но вот третий месяц он не доходит до ее конца, до того места, где знакомая дорога упирается в заводские
ворота, в узкие калиточки проходной.
Макаров переждал, пока пройдет колонна тяжелых, сотрясавших улицу автосамосвалов, еще подождал,
пока ветер разнесет дизельный запах, и пошел к зданию районного комитета партии. Он уже подымался по
каменным ступеням, когда на Ладе негромко, но отчетливо ударил взрыв. Возле берега встал в лучах солнца
фонтан пенной воды и разбитого зеленого льда…
– Мальчишки! Вот черти!
У себя в просторном кабинете Макаров снова произнес тем же восхищенным тоном: “Ну и черти!” Но
набрав номер телефона начальника отделения милиции, он сказал строго: “Что у вас там за пальба, товарищ
Петухов? Дело не в этом… Надо посмотреть, не покалечили бы друг друга… Палец… глаз… Вот, вот, товарищ
Петухов. Пожалуйста”.
Рабочий день секретаря районного комитета партии начался. Каждый из этих дней проходил для него по-
своему и очень трудно. Макаров все еще никак не мог привыкнуть к новому и неожиданному для него
положению. Правда, минуло уже почти три года с того дня, когда его впервые избрали секретарем партийного
комитета машиностроительного завода. Но, будучи во главе коммунистов завода, он душой и мыслями
продолжал оставаться инженером, вникая во все производственные и технические дела, даже участвуя в работе
группы технологов цеха, в которой начинал свою трудовую деятельность более двадцати лет назад. Этой зимой
все переменилось. Избрали первым секретарем райкома.
Проходят дни, недели, Макаров более или менее разобрался в райкомовских аппаратных делах, для него
наступала пора, которую он сам называет началом видения всего района в целом, со всеми теми учреждениями,
заводами и институтами, в специфику которых не вникнешь, думалось, никогда; он убедился в том, что и
знаний у него не так уж мало, как ему казалось, и вникать в специфику он умеет. Но было еще нечто иное в его
новом положении. Нежданно-негаданно он перестал быть просто Федором Ивановичем Макаровым, перестало
существовать мнение просто Федора Ивановича Макарова, не стало и слова просто Федора Ивановича
Макарова, и поступка, и действия, и решения. Сказал было о ком-то в случайном разговоре: “Ну, это известный
лодырь!” – как сразу же разнеслось: мы не можем пройти мимо мнения райкома, мы обязаны сделать выводы,
и так далее и тому подобное. Отозвался о другом: “Хороший работник”, – сразу же заговорили о выдвижении
того работника, о повышении его в должности. И по поводу первого случая пришлось объясняться, что его,
дескать, неправильно поняли, и по поводу второго. А еще и третий был случай и четвертый…
Федор Иванович Макаров мог говорить что угодно и делать что угодно, – это было его личным мнением
и его личным делом. Всякое слово и действие секретаря райкома Макарова рассматривалось и расценивалось
как слово и действие руководителя партийной организации, которая его на эти слово и действие уполномочила.
Вот к такой стороне своего нового положения Макаров никак привыкнуть еще не мог; нет-нет да и
собьется, нет-нет да и забудет о том, что он уже не просто Макаров. В партийном комитете завода этого не
было, отнюдь не каждое слово Федора Ивановича рассматривалось там как элемент руководящего указания.
Там можно было оставаться тоже просто инженером. В райкоме приходилось взвешивать каждое слово —
легких, поспешных, необдуманных слов новая должность Макарова не терпела.
Макаров начал день с того, что провел короткое совещание заведующих отделами. Заканчивая
совещание, он вдруг, как это все еще с ним случалось, забыл о своем должностном положении и весело
рассказал об утреннем событии на реке. Радостно-изумленный тон, каким секретарь райкома говорил: “Вот
черти!” – удивил заведующего отделом пропаганды и агитации товарища Иванова. “Хулиганье, – сказал
товарищ Иванов. – Школа кивает на родителей, родители – на школу. Так и получается”. Макаров с
виноватым видом погладил затылок ладонью и отпустил заведующих.
Потом пришел председатель исполкома райсовета, принес показать перспективный план застройки
огромного пустыря, который обезображивал самый центр района. Потом набежало множество текущих дел, о
которых люди, непосредственно в них не заинтересованные, и не знают даже – существуют ли на свете такие
дела.
Когда пробило три, Макаров распахнул дверь кабинета в приемную, чтобы посмотреть, много ли там
желающих повидаться с секретарем райкома партии и поговорить с ним о своих заботах, нуждах, горестях и
недоумениях. Таким приемам он придавал самое серьезное значение; здесь иной раз удавалось узнать о
явлениях, неведомых ни одному из инструкторов райкома.
На стуле возле двери, демонстрируя этим, что она заняла первое место в очереди и никому его не
уступит, сидела бабушка в плюшевом вытертом пальто и в толстом, как клетчатое одеяло, платке, повязанном за
спиной крест-накрест.
Макаров провел ее под руку в кабинет, усадил в кресло. Она молча смотрела на него глазами цвета
поблекшего неба; ее белые сухие веки часто мигали, руки, положенные на колени, мелко тряслись.
– Что ты, бабушка, хочешь? – спросил Макаров, придвинув стул почти вплотную к ее креслу. —
Пожаловаться на кого пришла или помощь нужна?
– Помощь, сынок, помощь. – Бабка кивнула головой. – Вот внук у меня, слышь-ка, непутевый стал.
Должно быть, у нее запершило в горле, она стала кашлять. Макаров подал ей воды в стакане.
– Ну вот, – продолжала она, – непутевый, говорю. Доченька моя, его мать-то, Нюра, того, глупая, не
понимает, что так не гоже парня бросать, живи как знаешь. Отец, зять-то мой, и того глупее рассуждает: меня,
говорит, никто за ручку в пенсионы не водил, а вот, вишь-ка, кто я? Я самый, говорит, знаменитый маляр во
всем городе.
Макаров умел быть хорошим слушателем, он во-время, где надо, поддакивал, выражал удивление или
посмеивался, – ему любили рассказывать.
– Что ж, – продолжала бабка, немножко отдохнув, – от таких родителей доброго не дождешься.
Женился парень в девятнадцать лет, да ладно бы женился, я сама, милый, в шестнадцать лет замуж выскочила,
– не то беда, а другая: что женился-то плохо. Плохо, говорю. Науку нигде не кончил, с половины десятого
класса ушел, чернорабочим, слышь-ка, молодой парень работает, и вот пьет, пьет, глядеть – душе больно.
Говорю отцу его: Вася; говорю матери, дочке своей: Нюра, да что вы, господи боже мой, куда смотрите, дите
ведь родное? А что мы, говорят, сапогом по морде его учить будем, что ли? Отреклись. А я, сынок, не могу так
от родной крови отрекаться. Хожу вот, хожу по людям, правды-подсобки ищу.
– Где же ты была, бабушка, у кого? – спросил Макаров.
– К батюшке в церкву ходила, обещал помолиться. Давно это было, еще по осени. Ну и еще тут ходила,
к мадаме одной. Хвалили больно, помогает, слышь-ка.
– Что за мадама такая?
– Вам, знаю, молодым, смешно, вы неверующие… – Бабка помолчала, пожевала ввалившимися
губами. – На Новой улице живет, в доме таком красном, возле самой дворницкой. Ученая мадама. Обману у
нее, говорят, нету. Травки разные, коренья, родниковая вода.
– Колдунья, что ли? – Макаров слушал с еще большим вниманием.
– Чего ж ты так: бух-трах – колдунья! Колдунья – одно, а ворожея – другое, сынок. К ней народу
тыщи ходят. Кто от чего. У одного болезнь – доктора не могут вылечить. Они, доктора-то, грубые стали,
шумливые. Пошла раз в полуклинику, все на меня кричат: давай-давай, бабка, скореича, не копайся, чего тебе
надобно, где болит, говори, некогда с тобой, вишь-ка, очередь. И эта, что записывает, и няньки всякие, и сестры
– и все только и торопят: давай, давай. А я, милый, не на лошадиные бега пришла. Мне с доктором по душам
поговорить, совета спросить, слово услышать такое, от которого и болезнь вроде потише станет.
– Это я запишу, бабушка, – сказал Макаров, раскрывая блокнот на столе. – Об этом мы тут поговорим,
как улучшить медицинское обслуживание. Нам, знаешь, партия и правительство все время наказывают:
заботьтесь о людях, люди у нас самое дорогое, самое главное.
– Вот не выполняете! – Бабка устремила свой сухой палец прямо в лицо Макарову. – Влетит вам от
партии-правительства.
– Придется ответ держать, – засмеялся Макаров. – Ну дальше-то что? К ворожее, значит, пошла…
– Пошла. Та сразу смикитила: женщина, говорит, в этом деле замешана. Ну, как в воду, поверишь ли,
глядела! Верно, женщина. А как, скажу тебе, было-то оно. Так оно было. В квартире, где мы живем, народу
много, жильцов пять семейств. И живет там у нас смазливая такая бабеночка-девчоночка Маруся, пивом-водами
торгует, богатая, самостоятельная. Ленька наш, это внучок-то, гулял было с ней маленько. Она к нему, вишь-ка,
в полное расположение пришла, увидит его и тает, что сахар. Ну думали, поженятся, хотя, конечно, и старше
она Леньки на три года. И что ты, сынок, скажешь?.. – Бабка откинулась в кресле, выпрямилась, посмотрела на
Макарова строгим взором. – Женился, подлец, на другой девке! – Тут она стукнула кулаком по своему колену.
Видимо, не рассчитала, ушибла его, потому что повторила: “Да, на другой” – уже совсем иным голосом,
прежним своим, немощным и старушечьим.
У нее опять пересохло в горле, снова она отпила водички из стакана.
– Вот встретила, слышь-ка, Маруся-то-красавица его после свадьбы в кухне, возле умывальника, и
говорит: “Поздравляю вас, Леонид Васильевич, со вступлением в законный брак. Только, раз обманули вы мое
любящее сердце, не будет вам счастья в жизни”. И пошло, сынок, с того часа все кверху дном. Запил парень,
пьет год, пьет второй… Пропащий человек получается. Положила дурной глаз на него Маруся.
– Ну, а ворожея-то, ворожея что? Помогла?
– Коли помогла бы, что ж мне ваши тут пороги обивать? К тебе, к последнему пришла. Куда и идти
дальше, не знаю.
– Хорошо, бабушка, попробуем что-нибудь сделать. Хотя дело трудное, очень трудное.
– Сама, милый, знаю: трудное. Как не трудное!
– Ну рассказывай, а я запишу: где твой внучек работает, где живете. В комсомоле-то он состоит? Не
знаешь? Как же так! А отец партийный? Беспартийный. Жилплощадь у вас какая? Две комнаты. Тридцать
восемь метров. Ну это еще ничего, бывает теснее. Все записал. Иди пока домой, бабуся. Осторожней иди, у нас
тут лестница, как ты говоришь, непутевая, непременно каблуками за ступеньки цепляешься.
Макаров принял и остальных, занявших очередь в приемной. Кто просил устроить на работу, кто
жаловался на управхоза – не чинит крышу, течет с потолка; один возмущался тем, что зажимают его
рационализаторское предложение; еще один пришел с чертежами придуманного им устройства для улавливания
дыма заводских труб.
Часов в семь, когда поток посетителей иссяк и Макаров хотел было уже вызвать машину, чтобы
побыстрее добраться до дому и пообедать, технический секретарь доложил:
– Федор Иванович! Пришел еще один товарищ. Говорит, вы – его бывший ученик, до завтра он ждать
не будет, скажите, мол… – секретарь заглянул в раскрытый блокнот, – скажите: Еремеев Семен Никанорович.
– Семен Никанорович! – Макаров поспешил к двери и распахнул ее перед стариком с живыми
хитрыми глазами. – Входи, входи, Семен Никанорович! Здравствуй! Как дела? Здоровье? – Он не спрашивал,
зачем пришел Еремеев, он искренне обрадовался, увидев “дядю Сему”. Дядя Сема и в самом деле был когда-то
его учителем. Очень скоро после того, как пятеро мальчишек взорвали гнилую баржу на Ладе, дядя Сема
принялся учить Федю Макарова умению владеть ножовкой, драчевыми пилами, притирками, плашками и
метчиками.
– Не забыл, гляжу, не забыл! – сказал Еремеев, видя, как рад ему секретарь райкома. – Вот пришел
тебя проведать, Федор Иванович, да проверить, не зазнался ли ты, дорогой мой.
Он сел на кожаный диван в глубине кабинета, вынул кисет и принялся свертывать цыгарку. Делал он это
молчаливо, бросая на Макарова быстрые взгляды из-под бровей – то с усмешкой, то серьезно-испытующе.
Макаров сел возле него и тоже молчал; улыбался, ожидая, когда Еремеев закурит. Думал о нем, о той поре, когда
был слесаренком под его началом, о тех днях, когда дядя Сема и его, Федора Ивановича, покойный отец с
субботы на воскресенье отправлялись то по уткам, то за лисицами и зайцами, то по грибы. Брали они с собой и
молодого слесаренка, который сквозь дрему где-нибудь в лесном шалаше или в стогу сена слушал их
нескончаемые разговоры о годах гражданской войны, о генералах Юдениче и Родзянко, которые “пузом перли
на Питер”, о неизменно поминаемых неведомом храбреце Ваське Таратайкине и комиссаре Коровине, о какой-
то девке-белогвардейке, из-за которой чуть было не погиб дядя Сема. “За каждой юбкой бегать, – говаривал
отец Еремееву при этих воспоминаниях, – так до беды и добегаешься. Это уж факт”. Комсомолец Федя давал
себе страшное слово за юбками никогда не бегать, с девчонками никогда не водиться, не проверив прежде – а
не белогвардейки ли они.
В кабинете, напоминая о фронтовой жизни, о трудных военных днях, запахло махоркой. Выпустив густой
клуб лилового дыма, Еремеев сказал:
– Давно, Феденька, не видались, давно. Время бежит… Когда я ушел с вашего завода? В сорок седьмом