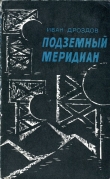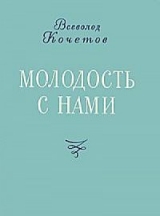
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
– Ну что? – сказал на бегу Костя. – Видите, догнала!
В это время впереди ударил выстрел, за ним второй. Лай прекратился.
– Пальма! – крикнул Локотков. – Пальма!
Ответа не было.
Они нашли Пальму мертвой. У нее была прострелена голова. Рядом на земле валялись обрывки
брезентовой куртки и две гильзы от пистолета крупного калибра.
Нарушитель снова ушел. Локотков потупясь стоял над убитой Пальмой. Он ничего не сказал Косте, но
Костя чувствовал себя виновником и гибели Пальмы и того, что из-за его ошибки они упустили нарушителя.
Вскоре подоспела помощь с другими собаками. Но собаки не брали след. Локотков, обследовав отпечатки
подошв нарушителя, сказал, что подошвы натерты веществом, отбивающим чутье у собак.
Надо было начинать все сначала, делать все возможное, чтобы враг не ушел за рубеж. Капитан Изотов
сказал, что там его, видимо, ждут, потому что дозоров на границе нет, на мызе рыжебородого оживление,
приехал даже кто-то в офицерской форме – не то майор, не то подполковник. Красавица дочка все время
крутится возле дозорной тропы и собирает подснежники.
Костю капитан Изотов отправил с дозором по берегу мохового, поросшего клюквой болота. Этот берег,
изгибаясь дугой, вел прямо к мызе рыжебородого. Костя шел с Козловым, Сомовым и возвратившимся
Коршуновым. Он жестоко осуждал себя за горячность и отсутствие выдержки.
В тот момент, когда он хотел было остановиться, чтобы снять фуражку и вытереть пот со лба, он вновь
увидел нарушителя.
Нарушитель полз по земле меж елок. На спине у него горбом торчал рюкзак. “В обход! Окружать!” —
знаками приказал Костя своим солдатам. Надо было спешить, потому что линия столбов была в каких-нибудь
двухстах метрах впереди; ближайшая пара столбов уже виднелась сквозь елки.
Нарушитель услышал хлюпанье грязи под сапогами, вскочил и, петляя, делая зигзаги, бросился бежать:
ведь столбы рядом, рядом! Один бросок – и он там, там, где его ждут, где ему приготовлены ванна, чистое
белье, спирт…
Костя мчался за ним, как олень. Нет, во второй раз он уже не оплошает, нет! Солдаты отставали, но Костя
нагонял человека с рюкзаком. “Стой! – крикнул он, когда нарушителю оставалось метров пятьдесят до
границы. – Стой, стреляю!”
Нарушитель только прибавил ходу. Костя поднял пистолет и выстрелил. Нарушитель замедлил бег и,
обернувшись, тоже выстрелил. Костя почувствовал удар в грудь под самым горлом, хотел крикнуть, но не смог
и упал лицом вперед. Он знал, что тот, в брезентовой куртке, уходит, ему уже осталось сделать несколько
шагов…
Нет, он их не сделает! Нет! Костя вытянул вперед руку с пистолетом и, не зная, не видя куда, стрелял и
стрелял, уткнувшись лицом в землю.
Земля под ним гудела и со страшной скоростью несла его в густеющий мрак.
4
Серафима Антоновна раскладывала пасьянс, который назывался “Дальняя дорога”. Раскладывать его
Серафиму Антоновну накануне учил Красносельцев. Он сказал, что это любимый пасьянс одной знаменитой
московской актрисы. Пасьянс был трудный и долгий, уж поистине пускаться в него – как в дальнюю дорогу.
Серафима Антоновна раскладывала карты механически, почти не вдумываясь в то, что она делает. Ее
мысли были заняты совсем другим. В сложные для нее времена она не видела ниоткуда настоящей дружеской
поддержки. Последние годы Серафиме Антоновне казалось, что никакая и ничья поддержка ей не нужна, что
она сама имеет достаточно силы не только поддержать, но и уронить кого угодно. Она всегда верила в свою
судьбу.
Судьба эта сложилась так. Серафима Антоновна родилась в рабочей семье, отец у нее был кочегаром на
речном пароходе, он погиб в гражданскую войну, когда Серафиме Антоновне еще не исполнилось и пятнадцати
лет. Мать вскоре вышла за другого, который, как это часто бывает, невзлюбил падчерицу.
Трудная жизнь сделала девушку нелюдимой; уже окончив школу, уже будучи в институте, она
попрежнему не умела сходиться и дружить со сверстницами и сверстниками, она держалась особняком, без
конца читала старые романы, плакала над сентиментальными историями, во сне видела себя Мариорицей,
молдаванской княжной Лелемико, о которой прочла в романе “Ледяной дом”. Она любила благородного
Волынского и мечтала умереть красиво, трогательно, возвышенно.
Сверстники и сверстницы, исчерпав все средства общения с нею, ее тоже невзлюбили, называли
графиней Шуваловой, посмеивались над ней; она жила вне общества. Характер у нее вырабатывался
замкнутый, себе на уме.
Случилось так, что на студенческой практике, после третьего курса, она работала под руководством
известного металлурга профессора Горшенина. Группа студентов, в которой была Серафима Антоновна и
которой руководил Горшенин, выехала тем летом в Донбасс. Жили тесно, в хатках, все между собой дружили.
Только Серафима Антоновна продолжала держаться в стороне. Вечерами она уходила в пыльную донецкую
степь, выжженную солнцем, садилась там и тосковала. О чем – она не знала и сама. Горшенин заметил, что
одна из студенток так странно себя ведет, пошел раз за нею, догнал в степи и тоже сидел рядом до звезд. Он был
толстый, жизнерадостный, он не понимал тоски и печали, он шутил с печальной студенткой, пытался ее
развеселить.
Загадочная печаль сделала свое дело: профессор Горшенин через год ушел от жены и женился на
Серафиме Антоновне. С этого момента началась новая страница в ее жизни. Насмотревшаяся на то, как отчим
мытарил ее мать, Серафима Антоновна понимала, что нельзя быть просто женой при муже, что надо и самой
приобретать вес в обществе. Она не оставила институт, она его закончила, некоторое время поработала на
заводе, а затем с помощью своего высокого покровителя вернулась в институт на кафедру черной металлургии.
Она была очень упорна и настойчива в науке и со временем защитила диссертацию. Она умело и ловко
пользовалась мужем и именем мужа для того, чтобы как можно прочнее войти в круг знаменитых металлургов.
Он возил ее с собой в Москву, в Ленинград, на Урал, в Донбасс, в Сибирь. Он устраивал так, что ей поручались
серьезные самостоятельные работы; она была талантлива и выполняла их блестяще. Чтобы отсечь всякие
кривотолки, чтобы не допустить никакого панибратства, она выработала особую манеру держаться:
царственную, величественную, отдаляющую от нее всех, кто был ей неугоден.
Когда Горшенин умер от кровоизлияния в мозг, Серафима Антоновна долго носила траур.
Во время Отечественной войны, когда институт был в Сибири, Серафиму Антоновну поставили во главе
группы молодых научных сотрудников; группа хорошо поработала и добилась крупного успеха. Группу
выдвинули на соискание Сталинской премии, ну и, конечно же, выдвинули и руководительницу группы.
Вторую премию Серафима Антоновна получила после войны, и уже одна. В этом случае работал
известный автоматизм: как не дать – крупная ученая; работка, правда, на этот раз жидковата, но не дать нельзя,
обидится.
Сила Серафимы Антоновны росла. И, конечно же, когда сняли директора, который возглавлял институт
до Павла Петровича, она думала, что директором назначат ее. Серафима Антоновна не видела вокруг себя
никого более достойного, чем она. Пришел Павел Петрович; сначала ее это озадачило, но скоро она нашла
утешение в том, что такой милый человек станет послушным оружием в ее руках. Она была знакома с ним не
столько по делам, сколько по разговорам, поэтому знала Павла Петровича плохо. Она встревожилась, когда
Павел Петрович стал обходиться без ее помощи. Она испробовала все средства, но взять Павла Петровича в
руки ей все равно не удавалось.
Особенно плохо получилось с Верхне-Озерским заводом. Не будь она, Серафима Антоновна, столь
знаменита и сильна, эта история могла бы окончиться для нее еще хуже. Пожурили, поставили на вид. А ведь
могли бы опозорить на весь Советский Союз.
За эту верхне-озерскую историю, за тот страх, который в связи с ней испытала Серафима Антоновна, она
возненавидела Павла Петровича. Его, не понимающего и не признающего авторитетов, надо было во что бы то
ни стало удалить из института. Она не хотела, не могла расстаться с привычной для нее жизнью, со славой, с
почетом. Для этого при новых порядках в институте надо было работать так, как работала она во время войны.
А работать так, как работалось во время войны, было уже трудно. Это значило – работать самой, работать во
всю силу, “как вол, как чернорабочая”. Слава отучила Серафиму Антоновну от такой работы. Нет, этот путь не
годился. Да, надо было удалять, удалять Павла Петровича из института. Для такой цели хороши были любые
средства. Она использовала их все, и не ее вина, что они не дали результатов.
Серафима Антоновна раскладывала пасьянс и думала о подлости человеческой. Ей рассказали, как
проходило партийное собрание. Рассказывал подвыпивший Липатов. Он сидел тут целый вечер, выпил бутылку
коньяку и горько жаловался на сына: “Поймите, – говорил он, – поймите, дорогая Серафима Антоновна, каков
подлец! Он пришел ко мне и сказал: мне, говорит, за тебя стыдно! Мне известно, с какой грязной компанией ты
связался против Колосова, отца моей подруги по аспирантуре. Видите, даже родной сын распустился! Ну и,
конечно, когда отовсюду такой нажим, я и на собрании не мог выступить откровенно. А подготовил, подготовил
речь! – Он вытащил из кармана пиджака пачку листков, стиснутых в уголках скрепкой. – Тут много вопросов
поднято. Я это сохраню. Это еще пригодится. Близь и даль определяются активностью действия и воздействия
тел. Мир – не оптическое единство, а кинетическая множественность, комплекс вещей, на которые человек
нападает и от которых защищается, которые он хватает или которых избегает”.
Всю ночь, как стало известно на другой день в институте, Липатов хватал одни домашние предметы и с
их помощью защищался от других предметов, отчего в доме бедной Надежды Дмитриевны все было перебито и
переломано.
Серафима Антоновна вспоминала его рассказ о том, как вели себя на собрании Румянцев, Мукосеев,
Харитонов, Самаркина…
Румянцев, по ее мнению, окончательно предал друзей. Самаркина и Мукосеев, к их чести, еще пытались
что-то говорить в защиту своих позиций, а Харитонов промолчал, как и Липатов, подло и трусливо. Вчера
прибегала его Калерия Яковлевна. Домработницы не было. Дверь отворила сама Серафима Антоновна. Калерия
Яковлевна воскликнула: “Ах, милая! Я уж так пробрала моего Вальку, уж так пробрала!”
Серафима Антоновна захлопнула перед Калерией Яковлевной дверь. Она не знала переживаний Калерии
Яковлевны, не знала того, как и в самом деле Калерия Яковлевна кричала на своего Вальку, что он трус, болван,
дурак, который не понимает, что Серафима Шувалова все равно сильнее всяких других, что она дважды лауреат,
что у нее рука в Москве, рука в министерстве, рука в Академии наук, что всякие Колосовы все равно скоро
затрещат, выскочки они и мальчишки, и тогда Серафима Антоновна покажет своим врагам. “Ты идиотка, —
отвечал Харитонов, – ничего не понимаешь и не лезь, молчи!” Она замолчала; она хотя и ругала его болваном,
но все равно попрежнему видела в своем Валечке борца, на котором держится институт. Сама обывательница,
Калерия Яковлевна не могла понять, что ее Валечка – обывателишко, трясущийся только за свою облезлую
шкурку; убежденный в том, что вот все перегрызутся, прошумят, отшумят, друг друга повыгонят, и тогда кого
назначат на ответственные посты? Кого же? Да его, Харитонова. Так бывало сколько раз. И еще будет. Надо
только во всех случаях сидеть тихо и не лезть раньше времени вперед.
Надежнее и вернее всех оказался Красносельцев. Он говорил тут: не сдадимся, будем бороться, мы
рыцари святой науки. Мы еще скажем: “Те, кто покрикивает, кто администрирует, прочь с дороги!”
Ну, а вдруг переиздадут его книгу? Тогда что? Рыцарь святой науки успокоится? Надо делать все
возможное, чтобы эту книгу не переиздавали: тогда он будет верен ей, Серафиме Антоновне. Она напишет,
конечно, положительный отзыв о книге, но у нее есть московские друзья, она попросит их сделать так, чтобы
книга не вышла.
И снова в мозгу Серафимы Антоновны, которая только что, казалось, стояла на краю пропасти, возникали
один за другим планы борьбы, появлялись надежды на новые возможности…
Пасьянс не вышел. Но сила пасьянсов в том, что их можно раскладывать до бесконечности. Не вышел
один раз, можно сказать себе: попробую до двух раз. Не вышло и во второй раз, говори себе: попробую до трех
раз… Серафима Антоновна так и сказала себе: ну-ка, еще разок попробуем.
Часы в столовой густо пробили двенадцать. Серафима Антоновна позвонила в ручной колокольчик и,
когда появилась домработница, спросила: “Разве Борис Владимирович еще не приходил?” Оказалось, что нет, не
приходил. Он что-то очень странно начал себя вести. На днях, например, повысил голос, топал ногами, кричал,
что она поступает нечестно, что это теперь всем видно, что так она компрометирует свое имя ученой. Чудачок!
Он живет и гуляет на ее деньги, потому что у самого заработки не такие уж большие, сам он только ее
стараниями и держится на поверхности того общества, в котором вращается она. Он был ничем и будет ничем,
если она его прогонит. Ему, небось, приятно восседать за столом, когда у нее собираются именитые гости, ему,
небось, приятно и лестно, когда с ним заговаривают то выдающийся профессор, то член-корреспондент
Академии наук. Он этак развалится на диване, нога за ногу, этак рассуждает, не понимая того, что люди
разговаривают с ним отнюдь не ради него, а ради нее, Серафимы Антоновны Шуваловой. Втянулся в широкую
жизнь, привык к ней, а теперь кричит и проповедует морали, судит о том, что честно, что бесчестно.
Когда Борис Владимирович пришел домой, он был немножко навеселе. Он нагнулся поцеловать руку
Серафиме Антоновне, но она не дала руки и сказала:
– Вы распустились. Если вы еще раз придете после двенадцати, вас не впустят в дом.
Борис Владимирович терпел немало унижений в этом доме. Да, он понимал разницу в положении
Серафимы Антоновны и в своем положении. Да, он знал, что способен только давать фотографические снимки
в газету, но разве эти снимки никому не нужны, разве их не рассматривают ежедневно сотни тысяч людей и
разве за них его не хвалили бывало на редакционных летучках, не говорили: “Уральский-то какой
замечательный сюжет выкопал! Центральные газеты, и те позавидуют”. Во имя чего же он должен терпеть еще
и такое унижение, когда ему грозят, что если он явится не во-время, его оставят за дверью, как собачонку?
– Симочка, – сказал он с обидой и вновь попытался взять ее руку.
– Отстань! – брезгливо отстранилась она.
И все, все, что так долго копилось в его душе, в его сознании, в его сердце, вдруг поднялось горячей
волной.
– Ты бесчестная! – сказал Борис Владимирович дрожащим от волнения голосом. – Ты вся состоишь
из интриг! Ты и меня втянула в отвратительные интриги. На меня указывают пальцем. Да, я только
фотографировал жизнь, я не создавал ни материальных, ни духовных, ни научных ценностей, но я никогда не
был бесчестным.
Борис Владимирович стоял выпрямясь среди комнаты и выговаривал все, что думал, что выстрадал за
годы жизни с этой женщиной в роскошном халате.
Серафима Антоновна молча слушала, потом, решив, что пора взять его в руки, крикнула:
– Вон отсюда! Паяц!
Борис Владимирович медленно закрыл рот, медленно опустил поднятую в возмущенном жесте руку, снял
с себя галстук, швырнул его на пол, сорвал с руки золотые часы, швырнул на пол, выбросил из кармана брюк
портсигар, бумажник, янтарный мундштук, сбросил полосатый пиджак, шить который Серафима Антоновна
сама возила его к портному, тоже швырнул на пол и вышел из комнаты.
Он вернулся через пятнадцать минут, он был одет в те одежды, в которых приезжал когда-то в Сибирь, в
которых приехал сюда, на Ладу, вместе с Серафимой Антоновной, в которых начинал послевоенную жизнь. Это
были гимнастерка фронтового фотокорреспондента, защитные брюки навыпуск и шинель. Он не нашел только
сапог и шапки – их, видимо, давно выбросили. В руках у него были саквояжик и заплечный мешок, который
солдаты называют “сидором”.
– Я ухожу вон! – сказал Борис Владимирович. – Я жалею об одном: что когда-то пришел сюда.
Хлопнула дверь. Он ушел.
Серафима Антоновна не шевельнулась. “Дальняя дорога” у нее вновь не получилась. Она сгребла в кучу
карты, скомкала их и стала одну за другой рвать на клочки; сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, как
будто от того, насколько быстро она изорвет их, зависело ее будущее.
5
В кабинете директора института собрались Бакланов, старик Малютин, Румянцев – без малого весь
ученый совет. Бывший заместитель Павла Петровича по руководству металлургией завода, Константин
Константинович, делал предварительное сообщение о том, какими путями заводские сталевары почти
полностью ликвидировали водород в стальных слитках.
Павел Петрович следил за вечным пером Румянцева, которое выводило в блокноте длинную химическую
формулу. Константин Константинович вынул из кармана красный платок, вытер лицо и сказал: “Вот и все,
таковы наши выводы”. – “Совершенно правильные выводы! – воскликнул Румянцев, поставив жирный крест
под своей бесконечной формулой. – Я к ним присоединяюсь. Водород, несомненно, будет побежден. Это уже
не теория, а практика”. Заговорил Бакланов. Он сказал, что институт должен прийти на помощь заводу, что
решить до конца такую важную проблему можно лишь соединенными силами работников практики и науки и
что, по его мнению, оказание помощи заводским товарищам должно стать главнейшей задачей института,
может быть, даже за счет сокращения работы по каким-либо другим темам.
Павел Петрович готовился было сказать, что ничего сокращать не надо, просто можно больше загрузить
лаборатории еще нескольких заводов, а не только завода имени Первого мая. Заводские товарищи охотно пойдут
на это.
Но Павел Петрович не успел ничего сказать, потому что вошла Вера Михайловна Донда и, шепнув:
“Молния”, подала ему телеграмму. Все видели, как, распечатав телеграфный бланк, Павел Петрович мгновенно
побледнел, как удлинились черты его лица; он встал, странным, неживым голосом произнес: “Извините,
пожалуйста. Я на минутку выйду”, вышел из кабинета и больше не возвратился.
Через день Павел Петрович уже стоял под весенним дождем на привокзальной площади пограничного
городка. “Товарищ Колосов?” – окликнул его высокий пожилой подполковник и, назвав себя: “Сагайдачный”,
пригласил в машину.
Костя не узнал отца. Костя лежал в госпитале и бредил. Возле его постели сидела черноглазая, бледная
девушка, по ее щекам все время бежали слезы и капали на белый халат. Павел Петрович догадался, что это
Люба, о которой ему писал Костя.
– Люба, – сказал Павел Петрович, когда они вышли в госпитальный коридор, – что же это будет, что
говорят врачи?
– Он поправится, он непременно поправится, – ответила девушка. У нее тряслись руки и дергались
губы, но она утешала: – Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Только не волнуйтесь.
Они стояли друг против друга, они смотрели друг другу в глаза, ждали помощи один от другого, их
роднила любовь к Косте. Павел Петрович взял холодную Любину руку, погладил ее, сказал:
– И вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Костюха у нас крепкий. Он в детстве однажды так разбился, упал со
второго этажа, думали – все, конец. Нет, видите…
Вечером командир пограничного отряда рассказывал Павлу Петровичу о боевой операции, в которой
отважно участвовал Костя, о человеке, чья пуля пробила Костину грудь. У него нашли записную книжку, шифр,
очень важные сведения о нашей промышленности, пистолет с большим запасом патронов, несколько
неиспользованных ампул яду. Он уже почти было ушел за границу. Но его настигли выстрелы Костиных солдат.
Он упал, цепляясь рукой за наш пограничный столб. Об одном жалели пограничники: что он был мертв и
многое ушло вместе с ним в могилу. Во всяком случае, лейтенант Колосов блестяще отличился и его
представляют к правительственной награде.
Всю ночь Павел Петрович провел вместе с Любой в госпитале. Они оба не уснули ни на минуту, они все
говорили и говорили о Косте.
Прошла долгая ночь, прошел долгий день, и еще прошли долгая ночь и долгий день; и вот Костин отец и
Костина любимая, которую Костя поцеловал только один раз в жизни – там, над весенним потоком, – оба они,
держась друг за друга, стояли над сырой, черной ямой, слышали команду: “Тело лейтенанта Колосова предать
земле”, слышали короткий винтовочный залп и никак не могли поверить в реальность происходившего.
В тот же вечер на заставе, куда привезли Павла Петровича, во время боевого расчета он услышал такие
слова. Капитан Изотов первой назвал фамилию: “Лейтенант Колосов”, и правофланговый ответил:
– Погиб смертью храбрых, защищая границу Советского Союза!
Павлу Петровичу показали узенькую, застеленную серым одеялом коечку в казарме, над нею был Костин
портрет в траурной рамке. Костя остался навечно на своей заставе. Сколько бы лет ни существовали
пограничные войска, столько лет будет жить на границе и память о лейтенанте Колосове, о его, Павла
Петровича, сыне…
На вокзале к приходу поезда, которым должен был вернуться Павел Петрович, собрались Бородин с
женой, Макаровы – Федор Иванович и Алевтина Иосифовна, и Оля с Виктором.
До прихода поезда оставалось десять минут; стояли на перроне молчаливой группкой, потупясь; солнце
палило. дымились доски перрона, с веселыми криками над вокзалом чертили небо крыльями ласточки, по
перрону несли букеты первых весенних цветов. Вокруг было так светло и празднично, что Оля, взяв Виктора за
руку, сказала едва слышно: “Какой ужас, какой ужас, Витя!”
Виктор не только не знал, даже никогда и не видел Костю Колосова, но он знал Павла Петровича, знал
Олю, они стали ему близкими, родными, и поэтому их горе было ему очень понятно. Он видел, как эти два дня
металась Оля. “Витенька, – говорила она ему по нескольку раз в день, – все, все погибло. Теперь-то уж
действительно семьи нашей нет”. Она смотрела на фотографическую карточку Кости и плакала: “Костенька,
милый Костенька”. Она в этом не признавалась, но Виктор видел, что ей было бесконечно стыдно перед Павлом
Петровичем. Было стыдно за то, что она не пришла к отцу, когда узнала об его исключении из партии. Она даже
позлорадствовала в тот день,
Теперь Олино сердце сжималось от стыда, от горя, от тоски и раскаяния. И когда поезд остановился,
когда Павел Петрович вышел из вагона на яркое апрельское солнце, Оля рванулась к нему, обхватила его шею
руками и, навзрыд плача, прижималась к его лицу, к плечам, к груди.
Павел Петрович ее не успокаивал. Он стоял и гладил ее по растрепавшимся волосам. Лицо у него было
бледное, вокруг рта проступили незаметные прежде морщины, глаза смотрели устало.
Отстранив наконец Олю, он молча пожал всем руки, и только когда уже выходили с вокзала,
останавливаясь на каменных ступенях, сказал с каким-то горьким недоумением:
– Вот видите!.. Жизнь-то что делает.
Весь день, друзья не давали Павлу Петровичу оставаться одному. Пока он мылся с дороги в ванной
комнате, Алевтина Иосифовна говорила:
– Мужчины, постарайтесь не давать ему сосредоточиваться на одной мысли. Это очень важно.
– Он не мальчик, – сказал Бородин.
– Не мальчик… Что ж, что не мальчик, – возразила Алевтина Иосифовна. – Я все-таки врач-психиатр,
я многое повидала… Такие испытания, какие выпали на долю Павла Петровича, и не мальчика могут
надломить.
– Алинька, ну что ты говоришь! – перебил ее Федор Иванович. – От таких испытаний, какие выпали
на долю людей нашего поколения, вообще всем бы нам давно надо свихнуться или лечь в гроб. А мы живем, мы
воюем, мы побеждаем, черт возьми. Твои мерки к Павлу не применимы. Я отвечаю за него головой.
– Присоединяюсь, – сказал Бородин коротко.
Не оставался Павел Петрович один и в институте.
В институте снова стояла горячая пора. Развертывались большие работы по практическому применению
газообразного кислорода в мартеновском производстве стали. То, что кислородное дутье значительно
интенсифицирует работу сталеплавильных печей, было доказано уже несколько лет назад. Но в практику оно не
шло по самым различным причинам. Институт взялся изучить эти причины и дать рекомендации для их
устранения. Снова создавалась оперативная группа, снова усиливался темп всей институтской жизни.
Вместе с этим в институте происходили события и иного характера. Заканчивала работу специальная
комиссия из крупных ученых, созданная министерством. Комиссия уже определила, что Самаркина, хотя она и
кандидат наук, методами научного исследования в достаточной степени не владеет, и ей предложено пойти на
производство. Самаркина отказывается; кажется, она собралась преподавать в индустриальном институте.
Мукосеева городской комитет партии отправил на завод, в цех; он там запил, и вновь стоит вопрос: что же с ним
делать? Никто не может решиться исключить его из партии. Дескать, старый коммунист, дескать, товарищ
всегда во-время сигнализирует о различных недостатках и неполадках. Красносельцев, видя, что Павел
Петрович остался в институте, подал заявление об уходе и уехал не то в Ленинград, не то в Москву.
Изменений произошло много. Они коснулись многих. Одни ушли, на их место пришли новые – и из
аспирантуры и из заводских лабораторий. Даже и у Мелентьева жизнь резко изменилась. Он оказался
начальником городского жилищного отдела.
Весь день Павла Петровича прошел в разговорах, в заседаниях. Только поздно вечером они остались
вдвоем с Олей. Они перебирали Костины фотографии. Павел Петрович рассказывал Оле обо всем, что
произошло там, на границе; он рассказал даже об узенькой коечке, застеленной серым одеялом, над которой
навечно повешен Костин портрет. Оля сказала:
– Я знаю и эту коечку и это одеяло. Костя меня этим одеялом укрывал.
Оля осталась ночевать. Утром она стала собираться в школу.
– Папочка, – прощаясь в передней, сказала она едва слышно, – вечером я опять приду. Ты,
пожалуйста, на меня не сердись, папочка. Я буду к тебе часто приходить… и ты к нам приходи… Об одном тебя
прошу… ты пойми меня… Я же не могу, не могу видеть тебя с ней. Я ее ненавижу! Не заставляй меня…
Оля взглянула вглубь темного коридора с отвращением, будто ждала, что оттуда появится эта она, и
выскочила на лестницу.
Павел Петрович затворил дверь, прошел по своим пустым комнатам; он тоже всматривался в темные
углы. Он был бы до бесконечности благодарен судьбе, если бы это было так, как говорила Оля, если бы у него
был друг, готовый делить с ним все – и радость и вот – горе.
Под окном уже стояла институтская машина. Надо было снова ехать в институт, надо было снова
работать…
Г Л А В А Т Р И Н А Д Ц А Т А Я
1
Ночь на третье октября тысяча девятьсот пятьдесят второго года застала Павла Петровича в мягком
вагоне курьерского поезда. Лежа и покачиваясь на пружинах, Павел Петрович отдавался чувствам ожидания
необыкновенно значительного и волнующего, которое было впереди. Впереди был Девятнадцатый съезд
партии.
Накануне, на перроне вокзала, в огромной толпе, которая пришла провожать делегатов, избранных на
съезд от областной партийной организации, были все друзья, близкие, товарищи Павла Петровича. Федор
Иванович Макаров говорил, что он завидует Павлу Петровичу так, как никогда и никому ни в чем не завидовал.
“Павлуша, – говорил он, – кто из нас не мечтал попасть хотя бы на один партийный съезд, увидеть всю
страну, всю нашу эпоху, которая, наверно, открывается с такой вышки, как съезд! Но прежде мы были слишком
молоды, Павлуша, чтобы решать судьбы государства. Наши петушиные голоса еще мало значили и вряд ли
могли кого-нибудь убедить. Эх, Павел, Павел, счастливец ты! В рубашке родился”.
С Федором Ивановичем, остановившись вдруг перед ним, поздоровалась молодая полная женщина. Она
была в белом передничке и в обеих руках держала большие никелированные чайники. “Маруся! – воскликнул
Федор Иванович. – Ну, как вы поживаете?” – “Ничего, – ответила она. – С вагоном-рестораном теперь езжу.
Лучше”. – “А ваш герой? Позабыли о нем?” – Молодая женщина потупилась на минуту, вздохнула и сказала:
“Извините. Мне надо идти. До свиданья”. Когда она ушла вдоль вагонов, Федор Иванович объяснил: “Ничто,
видно, не помогло. Уж и парень с квартиры съехал, – помнишь, я для него комнатку у тебя просил? – и
времени прошло сколько… А вот любовь не прошла. Стойкое чувство”.
Они оба помолчали, подумав о стойкости человеческих чувств. И снова Федор Иванович принялся
говорить о том, какой Павел Петрович счастливец.
Федор Иванович, пожалуй, был главным виновником того, что Павла Петровича избрали делегатом на
съезд. На областной конференции он выступил с горячей речью, он говорил о том, как канцелярско-
бюрократические рогатки, устанавливаемые некоторыми плохими руководящими работниками, мешают
развитию инициативы у людей, самостоятельности в решении важных вопросов, вгоняют живое дело в мертвые
рамки формализма; как в такой атмосфере растут вельможи, как возле них начинают виться подхалимы,
карьеристы, клеветники, интриганы. Он рассказывал о своих начинаниях в районе, о том, как эти начинания
встречались секретарем горкома Савватеевым в штыки. Потом Федор Иванович начал говорить о том, что
произошло в институте с Павлом Петровичем, который, кстати, присутствует в зале, он – делегат областной
конференции; о том, как Павла Петровича хотели во что бы то ни стало согнуть в дугу, как он держался, стоял и
выстоял. “Я горжусь тем, что это мой друг!” – разойдясь, искренне воскликнул Федор Иванович. И ему
аплодировали. Потом, когда стали называть имена кандидатов для выборов в члены областного комитета и
делегатами на съезд, в том и в другом случае была названа фамилия Павла Петровича.
В областной комитет избрали и Федора Ивановича. На съезд от не попал. Двумя неделями ранее Федор
Иванович на городской конференции был избран в городской комитет партии. Пленум горкома избрал его
вторым секретарем. И вот Федор Иванович оставался в городе, чтобы на время съезда вести текущую
партийную работу. На съезд ехал первый секретарь. Это был уже не Савватеев. Савватеева на конференции
разоблачили как негодного и вредного в партийном аппарате работника, не понимающего ни жизни, ни людей,
ни требований партии, воображающего, что он всего может добиться окриком, приказом, административными
мерами, думающего, что ему все можно, все позволено, что он вне критики и вне требований устава.
И вот Федор Иванович жал руку Павлу Петровичу и завидовал. Завидовали, конечно, все. Все долго
давали какие-то напутствия, обнимали. Обняла Павла Петровича и Людмила Васильевна Румянцева. Румянцев