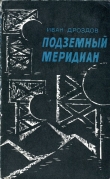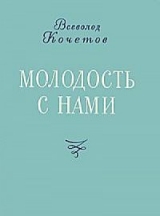
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
решетки, мосты и набережные – они были до нас… Ну вот предположим… У меня вот есть один знакомый,
астроном, ты, Оленька, его не знаешь. Он читает небо, как книгу, ему известны тысячи звезд, он в них как рыба
в воде, но… Вот “но” в том, что любит-то он среди них одну-единственную, какую-то, к слову сказать,
паршивенькую, некую мусоринку в космосе, видимую чуть ли не раз в неделю, по субботам или пятницам, и то
в самый мощный телескоп. Он сам ее открыл, вот в чем дело. Он! Сам!
– Странная аналогия, папочка! – сказала Оля. – Разве ты открыл новые дома культуры, школы, жилые
дома, заводы, разве ты пустил тут троллейбус, заасфальтировал улицы?
– А кто же? – Павел Петрович обернулся на переднем сиденье.
– Ну кто! Строители, – сказала Оля.
– Нет, я, мое поколение! Смотри! – Машина медленно катилась по мосту через впадающую в Ладу
речку Журавлинку. За мостом открывалась западная окраина города, вся сплошь в заводских трубах и кровлях.
– Смотри! – повторил Павел Петрович, когда они уже спустились с горбатого мостика на асфальт прямого и
такого длинного проспекта, что он, казалось, уходил за горизонт. – Лет двадцать семь назад мы перебегали
через Журавлинку по хлюпающим, прогибающимся доскам, месили грязь вот тут, где сейчас едем, добирались
до паровозика с четырьмя вагончиками, он ждал нас вот там, где сейчас районный Дворец культуры, и ехали на
свой завод в этих вагончиках, что селедки в бочке. Двадцать пять лет назад построили деревянный мост и
пустили трамвай прямо из города к заводу. Тогда же заложили фундаменты Дворца культуры, вот того
универмага, фабрики-кухни и, смотрите, всей этой перпендикулярной улицы. Странная уличка, не правда ли?
Дома одинаковые, что близнецы, соединены меж собой какими-то никчемными арками. Сейчас над ними
смеются, говорят: вернешься навеселе – и своего дома не найдешь, будешь во все двери стучаться, такие они
однообразные. А в ту пору, когда они еще строились, мы часами простаивали возле этих домов. Мы радовались,
глядя на них, мы спорили тут о будущем, о судьбах страны и мировой революции. Каждый камень, каждый
кирпич, каждый вбитый гвоздь, хоть это гвоздь и кирпич, были для нас ласточками будущего. Мы жили в
общежитиях, ели всухомятку, у нас не было запасной пары белья, не говоря уж о костюмах и всяческих
галстуках, но думали мы не о них, благах жизни, радовались отнюдь не им, если они вдруг и появлялись, а вот
этим кирпичам и гвоздям. Стоп! – сказал Павел Петрович шоферу. – Выйдемте, товарищи, на минутку.
Вышли возле огромного здания, как бы состоявшего из беспорядочного нагромождения уродливых
кубов, частью бетонных, частью стеклянных.
– Первая школа, построенная в нашем городе после революции, – сказал Павел Петрович. – Тогда
архитекторы увлекались вот такой чертовщиной.
– До чего же безобразно! – воскликнула Оля.
– Вот видишь, для тебя это безобразно, – сказал Павел Петрович, – а для меня… Ну что говорить!
Здесь я когда-то впервые встретился с твоей мамой.
– Разве? Вот тут, в этом здании?
– Да, наш заводский комсомол устроил лекцию, как сейчас помню: “Есть ли жизнь на других планетах”.
Мы сидели с твоей мамой рядом… Мы поглядывали друг на друга, но не сказали друг другу ни слова. Первое
слово было сказано, лишь когда меня прислали ремонтировать бетономешалку, возле которой мама работала
отметчицей.
Павел Петрович говорил “мама”, но видел он худенькую белокурую девушку, почти девочку, которую
очень волновал вопрос: есть ли жизнь на других планетах. Обсуждению этого вопроса было посвящено их
первое свидание, точнее – не свидание, а первое совместное возвращение с завода в город. Шесть километров
они шли пешком. В следующий раз они снова шли пешком, но планеты уже были возвращены туда, где им и
надлежало быть, – в темные бездны вечного пространства. Говорили в тот раз о земной жизни. Для земных тем
не хватило не только шести коротких километров, но и многих, многих лет совместного пути, еще многое так
вот и осталось нерешенным, еще о многом надо было поговорить с Еленой, многое ей рассказать, о многом
посоветоваться… Леночка, вот те камни, по которым ты ступала в своих первых туфельках на высоких
каблуках. Их покупали в новом универмаге, ты там же, у прилавка, надела обнову, счастливая вышла на улицу,
но в соседнем дворе туфельки пришлось снять, ноги в них ходить не хотели. Сколько было слез и отчаяния. Вот
они, эти камни, бруски диабаза… Десятилетия их не тронули, только навели глянец.
Павел Петрович молча стоял посреди тротуара перед кубической школой, прохожие задевали его. Он не
чувствовал толчков. Оля думала о маме и о нем: какие-то они были в ту пору, когда встретились? О чем
говорили, о чем спорили, о чем мечтали?
Варя отошла в сторонку и посматривала на Павла Петровича. Она думала о той большой любви, которую
продолжал он нести в себе, о его любви к Елене Сергеевне.
Весь день они провели в машине, выходя из нее и прогуливаясь все в таких местах, где было много
заборов, за которыми торчали строительные краны. Оля начинала понимать пристрастие отца к строительствам,
к новым домам, фабричным и заводским зданиям. Для Павла Петровича они, по ее мнению, были чем-то вроде
наглядного, физически ощутимого коэффициента полезного действия его поколения. “Я! – сказал он. – Мое
поколение!” И он во всем и везде искал и видел созидательную силу своего поколения, принадлежностью к
которому, видимо, очень гордился; он гордился всем, что создало и продолжает создавать его поколение.
Показывая на парковую заросль, деревья в которой поднялись в четыре человеческих роста, он говорил: “Вот
тут был пустырь”; проезжая мимо здания, занявшего целый квартал, пояснял: “На этом месте был Петровский
рынок. Сборище всех темных сил нашего города. Играли в “три листика”, торговали револьверами и
контрабандой, заключали сделки на грабежи и убийства. Давно ли? В нэповские времена”. И видно было, что
перемены, происшедшие на месте гнилых пустырей и страшных рынков, радуют его так же, как радовали бы
успехи в личных делах.
За несколько часов Оля и Варя узнали о городе, в котором они жили, больше, чем за все годы их жизни в
нем. Перед ними овеществлялось то, о чем скупо и отвлеченно было сказано в книгах; перед ними вставали из
прошлого кабаки с пугающими названиями: “Цап-царап”, “Стоп-сигнал”, “Отдай все, не греши”, какие-то “дома
свиданий”, ночлежки, игорные притоны: “Бубновый король”, “Трокадеро”, “Колесо счастья”, вставали времена
восстановления разрушенного двумя войнами, времена нэпа, времена отчаянной борьбы социалистического,
кооперативного с частнособственническим, которое упорно отстаивало свое существование, времена первых
пятилеток. Из книжной история становилась живой. Книжная – она легко входила в сознание и так же легко из
него уходила.
– Было седьмое ноября, – говорил Павел Петрович, попросив остановиться на углу улиц
Чернышевского и Новопроложенной. – Мы шли на демонстрацию. Знамена, плакаты, Чемберлены, которых
можно дергать за веревку, песни, музыка… И вот отсюда, с Чернышевской, наперерез нам еще какая-то колонна.
Получился затор. Кто-то там, в той колонне, взобрался кому-то на плечи и как с трибуны давай закручивать
речь. “Троцкист! – слышу, кричат наши. – Сукин сын! Сволочь!” Ну и пошло тут! Вот видите? – Павел
Петрович поднял прядь волос над ухом, там был старый широкий шрам. – Железиной хватили. Кажется,
гаечным ключом?
– Разве это тогда? – удивилась Оля. – Я думала, в деревне.
– А кто они были, кто? – спросила Варя.
– Ну кто! Такие же молодые парни, как и мы, только вот попавшиеся на троцкистскую удочку. Тогда
было время другое, не так мы были сильны, не так едины. И, как говорится, не шибко-то грамотны.
Варе всегда думалось, что партия боролась со своими врагами, со всякого рода оппозицией как-то так —
резолюциями, постановлениями, где-то на пленумах, съездах и конференциях. А тут вдруг – шрам!
Да, история оживала, захватывала, заставляла волноваться.
Когда день стал клониться к вечеру, встал вопрос: что же делать дальше? Весенний воздух в таком
непривычном обилии разморил всех, делать ничего уже не хотелось, хотелось поесть и отдохнуть. Но дома
никакой готовой еды не было, надо было или заниматься хозяйством, или идти в ресторан.
– Вот что, – сказал Павел Петрович. – Если вы не против, давайте зайдем к Макарову.
– К Федору Ивановичу? – воскликнула Оля. – Какие пироги у них вкусные!
– Пироги я тоже люблю, – сказала Варя. – Но вдруг пирогов у них нету?
– Тогда придумают еще что-нибудь.
На мысль заехать к Макарову Павла Петровича навело то обстоятельство, что он из окна машины увидел
здание Первомайского райкома партии, где теперь работал Федор Иванович. Макаров и жил в этом же районе;
Павел Петрович хорошо знал его дом, потому что это был тот самый дом, куда он бегал к Феде еще мальчишкой
и где в углу за старомодной кухонной русской печью они обсуждали различные мальчишеские проблемы.
– Ну, мы тут выйдем. Спасибо. До свидания, – сказал он шоферу, когда машина остановилась возле
старого двухэтажного дома, какие в больших городах уже отживают свой век. – Дальше будем добираться
своими средствами.
4
Дверь отворил сам Макаров. Он очень удивился, увидев таких редких гостей.
– Павел! Что случилось?
– С утра не евши, – ответил Павел Петрович.
– А мы только что пообедали. Вот беда!
– Ну, а пироги-то, пироги… Их тоже съели?
– Пироги… не знаю.
– Есть пироги, есть, вас дожидаются! – В переднюю вышла Алевтина Иосифовна. – Раздевайтесь,
проходите. Где же вы так проголодались?
Павел Петрович представил Макаровым Варю, назвав ее Олиной подругой и своей бывшей боевой
помощницей. Прошли в тесную комнатку, которую Федор Иванович называл курилкой и в которой была
громадная тахта со множеством подушек. Разговор между Павлом Петровичем, Макаровым и его женой шел
свободно, легко, как бывает только среди истинно старых друзей и знакомых. Изредка вставляла слово и Оля.
Варя молчала, наблюдая за Федором Ивановичем и Алевтиной Иосифовной. Алевтина Иосифовна часто
исчезала и возвращалась со словами: “Еще минуточку потерпите. Сейчас мы вас будем кормить”. Это была
крупная, полная женщина с приятным добрым голосом, но сердитыми глазами. Если на нее не смотреть, а
только слушать – перед вами как бы один человек, а встретиться с ней взглядом – совсем другой. Павел
Петрович еще на лестнице вкратце рассказал Варе историю семьи Макаровых, поэтому Варя уже знала, что
Федор Иванович поженился с Алевтиной Иосифовной двумя годами позже женитьбы самого Павла Петровича
на Елене Сергеевне, что встретились они в заводской поликлинике, куда Федор Иванович пришел, потому что
под веко ему попала острая железная соринка. Он пугался прикосновений к воспалившемуся глазу, вздрагивал,
отстранял молоденькую сестричку, которая смотрела на него очень сердито и грозно, а говорила ласковым-
преласковым голоском.
Когда соринка была извлечена, обрадованный Федя Макаров вдруг ни с того ни с сего обнял сестричку и
поцеловал. Она его ударила и оттолкнула. Но он сказал: “Слушай, ну что ты дерешься? Давай поженимся, а?
Тебя как зовут?” – “Убирайтесь вон! – сказала сестричка. – Вы нахал, вот что!” Закрывая за ним дверь
кабинета, она добавила: “Меня зовут Аля, если уж вам так надо это знать”.
Федор Макаров стал ходить в поликлинику ежедневно. Только гудок прогудит конец рабочего дня, Федя
уже тут как тут. То он отшиб себе палец ручником, то посадил ссадину на щеке, то ангину схватил, наевшись
льду в заводском леднике. Но что бы у него ни случалось, что бы ни болело, ему нужны были не врачи, а сестра
Аля Егозихина. Только она одна могла исцелять его многочисленные недуги. Первое время Аля страшно
злилась на своего пациента, над ней потешалась вся поликлиника. “Алевтина, твой ухажер идет! – то и дело
кричали ее молодые сослуживицы. – Готовь бинты, йод, примочки!” Но случился такой день, когда Аля гордо
ответила: “Это не ухажер, а мой муж”, и это был один из последних дней ее работы медицинской сестрой,
потому что Федя Макаров оказался решительным мужем. Он заявил: “Давай-ка иди в медицинский. Что я не
знаю, какой из тебя доктор получится! Нам такие доктора нужны спасу нет. У тебя талант, будто я не понимаю.
Учись, говорят!”
Варе понравились они, Федор Иванович и Алевтина Иосифовна; они были простые, с ними не надо было
беспокоиться о том, как себя держать, – держись, как хочешь, как тебе удобней.
Вскоре гостей пригласили к столу. К пирогам Федор Иванович выставил для Павла Петровича кувшин
пива, для девушек – домашний хлебный квас. Павел Петрович затеял целую тяжбу по тому поводу, что без
хозяев он пива пить не будет, что это, мол, такое, будто дворнику на рождество или на пасху вынесли в царские
времена с черной лестницы стакан: пей, гуляй, Павлуша, помни благодетелей. Федор Иванович особого
сопротивления не оказал. “Чего ты кричишь-то?” – сказал он, доставая из шкафа еще одну кружку. Но
Алевтина Иосифовна отказалась наотрез: “Нет, нет, товарищи, сегодня в ночь мне дежурить”. Она заведовала
отделением в психиатрической лечебнице.
На столе оказались отнюдь не одни пироги, было тут множество всяческой вкусной снеди;
проголодавшиеся гости ели, пили, чувствовали себя прекрасно. Павел Петрович рассказывал о только что
совершенной поездке по городу, о том новом, что он увидел, о местах, давно не виденных, но памятных и
дорогих и ему и обоим Макаровым.
– Ну и черт ты, Павел! – сказал Федор Иванович. – Что бы и нас-то пригласить на экскурсию.
– А кто вас знает, чем вы тут заняты. Еще потревожишь не во-время. Персоны значительные, без
доклада не входи. Разве только если записаться на прием к тому или другому.
– Ну, к другому, то есть к доктору Макаровой, лучше бы никому никогда не записываться. Вот ведь
обманула меня жена: думал, будет свой врач в доме, а она по сумасшедшей линии пошла.
– Для нашего дома это самая необходимая линия, – ответила Федору Ивановичу Алевтина Иосифовна.
– В таком безалаберном доме…
– Началось, началось!
– В таком безалаберном доме, – продолжала Алевтина Иосифовна, – даже врач-психиатр свихнется.
Посудите, Павел Петрович, сами, какая у нас жизнь. Федор встает в девять, топчется тут часа полтора, в десять
– в одиннадцать уезжает. Старшая наша встанет в восемь – в половине девятого, кидается на всех, кричит:
“Опять опоздала”, – без завтрака убегает в институт. Младший встает в одиннадцать, потому что он ходит во
вторую смену, отец не может его устроить в такую школу, в которой не было бы этих ужасных вторых смен. Он,
видите ли, партийный работник, ему, видите ли, стыдно устраивать свои личные дела. В результате у этих
работников, которым стыдно заниматься своими личными делами, вырастают жуткие дети.
– Перестань, Аля! Кому это интересно? Если мы начнем друг другу вкалывать шпильки, я сейчас ударю
по вашей медицине со страшной силой. Ко мне тут в райком бабушка одна приходила. Кричат, говорит, все
медики на меня: давай-давай, бабка, подгоняют, как на лошадиных бегах.
– Ну и что же? Может быть! У врачей работы по горло, особенно осенью да весной, когда вы, наши
руководящие городские деятели, грипп в городе разводите.
– То есть как это мы разводим грипп?
– Очень просто. В помещениях холодище, сырость, а отопительный сезон, согласно решению горсовета,
или ещё не объявлен, или уже окончен. Люди зябнут во всяких конторах, в канцеляриях, учреждениях,
управлениях. Хоть бы вы подумали: что дороже – уголь или те силы и средства, которые идут на ликвидацию
грипповых вспышек?
– Вот бы вы, врачи, и написали в горсовет.
– Писали. Там у вас председатель сидит, здоровяк такой, краснорожий, сам не болеет и больных не
разумеет.
– Все равно, что бы ты ни говорила, бабушку гонять на рысях из кабинета в кабинет не дело, – перебил
Федор Иванович Алевтину Иосифовну. – Ихний медицинский основоположник, древнегреческий доктор
Гиппократ, что, Павел, говорил, ты знаешь? Он им говорил: у врача три средства исцелять людские болезни —
слово, травы и нож. Вдумайся, на первом месте – слово, то есть умение убеждать, внушать, проникать в душу
человека. А они что? Они, брат, на первое место нож передвинули: режь, вскрывай, удаляй, колупай. Я, ты
знаешь, человек не так чтобы слабый, а вот как-то раз, лет пять назад, пришел со своими гландами к горловику,
ангины замучили. “Как быть, что делать?” – “Одно, говорит, есть средство: удалить ваши гланды”. Я кручу,
верчу: “А как это – очень неприятно или не очень, больно или терпимо”. А он, товарищ-то этот, рубит, что
говорится, правду-матку сплеча. “А как же, говорит, больно, неприятно. У нас, говорит, теперь принцип: не
скрывать от больного всех тех неприятностей, которые ожидают его во время операции”. Он, понимаешь ли, не
скрыл эти неприятности, я, понимаешь ли, перед лицом таковых решил: а ну вас к лешему с вашими
принципами и вот продолжаю болеть ангинами.
– Ах, мужчины, мужчины! – сказала со вздохом Алевтина Иосифовна. – Чувствую, идете вы к тому,
что не далек день, когда не женщин, а вас будут называть слабой половиной человечества. Трусость, которая
пробирает вас даже перед самыми пустяковыми операциями, не поддается описанию.
Варя и Оля молчали. Обе они ничем серьезным еще никогда не болели, и разговор о болезнях мало-
помалу становился для них скучным. Федор Иванович это заметил. Он сказал:
– Сейчас я, девушки, организую что-нибудь такое, созвучное вашему лирико-романтическому возрасту.
Музыку любите?
– Очень, – сказала Варя.
– А песни?
– Смотря какие, – ответила Оля.
– Хорошие, конечно. – Федор Иванович засмеялся и пересел к пианино.
– Давай-ка, брат, про калитку, – сказал Павел Петрович, тоже пересаживаясь из-за стола в низкое
удобное кресло.
– Старинный романс, – на ухо Варе шепнула Алевтина Иосифовна.
Федор Иванович запел. Голос у него был грубый, хриплый, и странно в таком исполнении звучали
давнишние слова:
Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звезды блеснут в небесах,
И черемух серебряный иней
Жемчугами покроет роса.
Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик как тень,
Не забудь потемнее накидку.
Кружева на головку надень.
Вначале мысли Вари и Оли были несколько схожи. Девушки думали о том, что слова “небеса”,
“серебряный иней”, “тихий садик”, “кружева” когда-то и для кого-то были новыми, кого-то в ту пору волновали,
но кому нужно подобное сентиментальное старье теперь и почему и Павел Петрович и Алевтина Иосифовна
слушают этот романс с таким явным удовольствием и такое теплое, мечтательное на их лицах, и почему сам
Федор Иванович поет с таким чувством?
У Оли дальше прилива легкой лирики, когда хочется беспредметно грустить, дело не пошло. Но Варю
старинная песня мало-помалу захватила и от строфы к строфе захватывала все больше. Перед нею возникала
звездная весенняя ночь, тихая, пахнувшая цветами, вставал таинственный сад с узенькой калиточкой в глухом
дощатом заборе. В эту калиточку надо проскользнуть так неслышно, чтобы никто тебя не заметил, потому что,
если заметят, могут исчезнуть навсегда и тихие ночи, и садик, и какое-то большое счастье, какого не бывает.
Федор Иванович пел:
Там, где гуще сплетаются ветки,
Я тебя там один подожду
И на самом пороге беседки
С милых уст кружева отведу.
Варе хотелось, чтобы песня никогда не кончалась. Но песня кончилась. Федор Иванович вернулся к
столу, вернулся и Павел Петрович, они заговорили о своих делах: Федор Иванович – о райкомовских, Павел
Петрович – об институтских. Алевтина Иосифовна, убрав со стола, сказала, что ей пора собираться на
дежурство, и ушла из столовой. Оля и Варя вынуждены были слушать сугубо деловой разговор. Но, как ни
странно, разговор оказался интересным, потому что Павел Петрович рассказывал тут такое, чего никогда не
рассказывал дома. Он рассказывал о том, как в первые дни ему было трудно на новом месте, какие он совершал
ошибки, как пил спирт с физиком и математиком Ведерниковым.
– Жаль, что ваш институт в другом районе, – сказал Федор Иванович. – Ничем не могу тебе помочь,
дружище. Одно скажу, поскольку я имею больший опыт работы с людьми. Скажу я тебе, Павел: всегда помни,
что в институт тебя послала партия и она рассчитывает на то, что ты не наломаешь там дров, она рассчитывает
на твое чутье, на твои знания. Мне, говоря откровенно, не очень нравится, что ты грубо ответил одному,
прикрикнул на другого и так далее. Пойми, – Федор Иванович поднял указательный палец, – пойми, что,
будучи руководителем, нельзя отдаваться на волю своим чувствам, симпатиям и антипатиям. Я тебе это так
уверенно говорю потому, что сам еще частенько срываюсь, и это меня все время беспокоит.
– Значит, что – притворяться прикажешь?
– Не притворяться, а сдерживаться и не терять рассудок. Всегда помнить о том большом, для чего ты
пришел в институт, чтобы не погрязнуть в мелочах, не дать мелочам оседлать тебя.
– Не выйдет из меня этакий папаша, – сказал Павел Петрович.
– А ты папашу из себя и не строй. Тип папаши-руководителя, так называемого бати – устарелый тип.
Будь прямым и ясным, но прямоту свою и ясность до глупости не доводи. А ведь бывает и так, не правда ли?
Алевтина Иосифовна давно попрощалась и ушла, в окнах уже было темно, а они все спорили, все
приводили примеры и доказательства, старались убедить друг друга, и когда это ни тому, ни другому не
удавалось, поднимали кружки с пивом, говорили: “За твое здоровье”, “За твое здоровье” – и чокались.
Варя и Оля тоже попивали из стаканов домашний квас, который оказался очень вкусным. Слушая
разговор Макарова и Павла Петровича, обе они думали о своем. Все эти чужие примеры, доказательства и
размышления они переносили на свое, потому что обе они, несмотря на молодость, уже познали бремя
ответственности, уже столкнулись с жизнью, которая довольно сурово твердила им изо дня в день, что если ты
поставлен чем-то или кем-то руководить, учись это делать, задумывайся над тем, как это делать, не надейся на
время, которое, дескать, само все сделает. Конечно, комсомольская организация аспирантов – это не партийная
организация большого городского района, а заводская лаборатория – не научно-исследовательский институт,
но разве не с таких же низших ступеней начинали свой путь по общественным лестницам Павел Петрович и
Федор Иванович и разве уж ничего не осталось общего в восприятиях жизни у них, старших, и у Оли с Варей,
разве разница в годах и в числе пройденных ступеней жизни уж так сильно отдалила старших от младших, что
опыт одних пусть остается их достоянием, а другие пусть накапливают себе его заново? Нет, во многом, что, по
словам Павла Петровича и Макарова, происходило в районе и в институте, Оля и Варя находили и видели
общие черты и для аспирантуры и для лаборатории. Это им не только было просто интересно, но еще и
сближало их с директором научно-исследовательского института и секретарем райкома партии. И то ли от
сознания своего, хотя еще и не очень большого, но уже вполне определенного, значения в жизни общества, то
ли еще от чего – обе пришли в легкое, веселое расположение духа, стали перешептываться, смеяться, и вот, как
часто в молодости случается, из серьезных руководительниц, только что стоявших рядом с директором
института и секретарем райкома, с неслыханной быстротой превратились в смешливых девчонок.
– Ну, пора ехать, – сказал Павел Петрович. – Мои дамы спать хотят.
– Нисколько, папочка, – запротестовала Оля.
Но Павел Петрович встал, попрощался с Федором Ивановичем и пошел в переднюю, к вешалке. В
передней еще долго прощались, говорили: “Не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего”, смеялись,
шутили.
Потом добрых полчаса все трое шли пешком вдоль Лады до первой стоянки такси. Оля взяла под руку
Павла Петровича, а Павел Петрович Варю. К ночи весенний город не остыл; ночь наступала теплая. Варя даже
распахнула жакет. Смешливое ее настроение исчезло, она притихла, ей вновь слышались слова: “Я тебя там
один подожду и на самом пороге беседки с милых уст кружева отведу”. Она повторяла про себя эту
взволновавшую ее песню и в такси и на лестнице и с нею вошла в дом. Непонятно почему, но от песни этой
было грустно и тревожно.
Едва вошли в дом, разделись, зажгли свет в комнатах, в передней зазвонил звонок.
– Странно, – сказал Павел Петрович. – Без двадцати двенадцать!
Отворить дверь пошла Варя. Перед нею стояла незнакомая женщина, уже не очень молодая, но красивая,
статная, и – что самое поразительное – на плечах у нее была темно-серая накидка, а на голове те самые
кружева, о которых только что мысленно пела Варя. Женщина была из песни.
– Павел Петрович дома? – спросила она, окинув быстрым взглядом стройную фигуру Вари, которая
еще не сменила светлого, впервые в этот день надетого весеннего костюма.
– Дома, – ответила пораженная Варя. – Пожалуйста, проходите.
– Это вы! – воскликнул Павел Петрович, появляясь в передней.
– Да, я, – ответила красивая женщина, снимая с головы черные кружева. – Была здесь у
приятельницы, поблизости. Решила навестить. Не поздно?
– Что вы, что вы! Мы ложимся не раньше двух.
– Где же это вы пропадаете целые дни? – говорила поздняя гостья, входя в столовую. – Я вам звонила
утром, ваши юные хранительницы, – она вновь внимательно взглянула на Варю, – ответили: нет дома.
Звонила несколько раз днем, вообще никто не ответил.
– Серафима! – зло шепнула Оля на ухо Варе и, хлопнув дверью, ушла в свою комнату.
Варя постояла с минуту в дверях столовой под изучающим взглядом Серафимы Антоновны, неожиданно
для себя покраснела и тоже ушла.
Павел Петрович и Серафима Антоновна остались одни.
Г Л А В А П Я Т А Я
1
Заседание бюро райкома комсомола должно было начаться в двенадцать. Оля пришла на сорок минут
раньше. Она думала, что успеет посоветоваться, как быть с Георгием Липатовым, который уже совершенно
открыто заявлял о своем нежелании жить с Люсей.
Но Коли Осипова на месте не было: его вызвал секретарь райкома партии. Оля в одиночестве походила
по райкомовскому коридору и вернулась на улицу. Она села на скамейку в сквере посреди площади, перед нею
была большая круглая клумба, в которую старые и молодые садовницы высаживали из крошечных горшочков
анютины глазки. Через площадь, мимо сквера, по брусчатой мостовой проносились с дребезгом троллейбусы, с
тяжелым топотом шли грузовики, в кузовах и на тележках, прицепленных за ними, возвышались части
огромных машин, возле самых тротуаров жались велосипедисты, по тротуарам текла толпа пешеходов. Майское
небо сверкало, слепило. За Олиной спиной цвел куст черемухи, с него на скамейку летели белые хлопья. Оля
ловила их на ладонь и машинально прислушивалась к тому, о чем говорили садовницы. Они говорили о какой-
то Нюрке Бойченко, которая “не соблюла себя”, а вот вышла теперь замуж и получился у них через это полный
разлад с мужем. Он так прямо и объявил ей наутро после свадьбы: ступай, милая, обратно к тому, от кого
пришла, не только любить тебя – глядеть в глаза твои бесстыжие и то не желаю.
Женщины разделились на два лагеря – одни ругали Нюрку и стояли на стороне ее мужа, другие
клеймили позором Нюркиного мужа и отстаивали Нюрку, подкрепляя позицию единственным доводом: “А сам-
то он до двадцати восьми лет монахом жил, что ли?”
Некоторые из садовниц называли все своими именами и говорили до того откровенно и прямо, что Оля
сидела красная от стыда; она вскочила бы и пустилась бежать, но ей казалось, что ее бегство тут же заметят и
она будет осмеяна и осуждена, пожалуй, не менее жестоко, чем та любвеобильная Нюрка, которая “себя не
соблюла”.
На Олино счастье в сквер пришел еще кто-то и сел на соседнюю скамью. Садовницы переменили
разговор, они заговорили о получке, которая ожидается завтра, и о своих планах наиболее рационального
расходования заработанных денег. Одна сказала, что у нее уже есть отложенные раньше, теперь она только
добавит и купит платье такого креп-марокена, что все закачаются. Другая сказала, что ей не до платьев, у нее
мальчишка болен, надо покупать фрукты, а время нескладное – начало лета, – где их возьмешь. Третья
объявила, что купит сыру, шпротов и спотыкачу – и ну вас всех к лешему с марокенами и мальчишками! —
загуляет по высшей категории. Ей было лет тридцать пять, лицо у нее было в оспинах и в глазах стояло злое
воинственное выражение.
– Верно я говорю? – крикнула она тому, кто сидел на скамейке, соседней с Олиной.
– А что ж, верно, – отозвался он. – Погулять никогда не вредно.
Садовницы засмеялись, а Оля поморщилась, ответ показался ей развязным, неумным и пошлым. Только
тут она разглядела своего соседа, которому было, наверно, столько же лет, сколько и ей; был он сероглазый,
густобровый и хотя произносил пошлости, улыбка у него была хорошая, радостная; правда, если вглядеться
повнимательнее – немножко насмешливая. “Наверно, считает себя красавцем, – подумала Оля, – и слишком
большое значение придает своей персоне”. Еще она подумала о том, что при всех богатствах русского языка в
нем нет хорошего слова, с которым бы можно было обратиться к этому сероглазому товарищу. Сказать:
“молодой человек” – в этом есть нечто обывательское, глупое. Сказать: “юноша” – ну прямо-таки из
сладенькой повести о жизни ремесленного училища, в которой всех мальчишек высокопарно называют
юношами. Что же остается? Грубое “парень”? Нет, для молодых мужчин не нашли, не придумали такого
поэтичного, красивого, нежного слова, которое хоть в слабой мере равнялось бы слову, найденному для
молодых женщин.
Ветер тряхнул черемуховый куст, Олю всю осыпало белыми лепестками, ей стало весело от этого и еще
от того, что для нее существует такое красивое слово. Вот тот юноша – парень – молодой человек, вздумает
если обратиться с чем-либо к ней, он что скажет? Он скажет, конечно: “девушка”. Оле очень захотелось, чтобы
сосед обратился к ней, спросил бы ее о чем-нибудь.
И он обратился, он спросил. Он встал со своей скамьи, подошел к Олиной, и Оля вдруг услышала:
– Юная леди! Извините, пожалуйста, сколько сейчас время?
Оля даже вздрогнула от удивления, которое тотчас сменилось возмущением.
– Надеюсь, это относится не ко мне? – ответила она гордо.
– Именно, к вам.
– Если ко мне, то, во-первых, я не леди, а во-вторых, говорят не “сколько время”, а “который час”.
Понятно?
– Понятно, гражданочка, понятно. – Он снял кепку и добавил: – А вы зря на “меня сердитесь, ей-богу,
зря. – Когда он поднимал руку к кепке, Оля заметила на этой руке часы, и ей стало ясно, для чего он спрашивал
о времени, и еще ей представился Федор Иванович Макаров, такой, каким он был в ту пору, о которой недавно
рассказывал отец, тот молодой Федя Макаров, который вдруг ни с того ни с сего схватил да и поцеловал