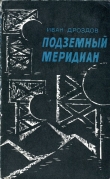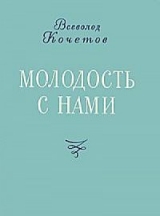
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
руку нашим врагам, дорогие товарищи. Это будет свидетельствовать о нашей политической незрелости.
– Вы меня извините, товарищ Мелентьев, но это же совершеннейшая чепуха! – перебил его Павел
Петрович. – Наша критика и самокритика, умение видеть и признавать ошибки никогда не были на руку
врагам, поскольку они нас не ослабляют, а укрепляют. На руку врагам – замазывание наших недостатков,
делание вида, что их нет. Вот это действительно на руку врагу, поскольку это нас ослабляет, мешает нам расти и
крепнуть.
– Критика критике рознь. Одного надо критиковать, а другой и сам понимает свои ошибки, – заговорил
Мелентьев. – Я был бы не против, так сказать, по-дружески, по-отечески поговорить с товарищем Шуваловой,
если она действительно виновата. Но так, чтобы никуда это не выносить, ни на какое широкое суждение. Вот
так, между собой… Но ведь шила в мешке не утаишь, пойдет болтовня по округе. Мы с вами в этом не
заинтересованы. Ведь как могут сказать о нас, когда это дойдет до верхов – до горкома, до обкома? Не
обеспечили, скажут, воспитательную работу в коллективе, не сплотили коллектив. Выйдет, что мы сами по себе
же и ударим.
– Не согласен я с этой политикой! – твердо сказал Павел Петрович. – Мы создадим комиссию, она
расследует обстоятельства дела, и тот, кто виноват, тот и будет отвечать. Независимо от прежних заслуг и от
рангов.
– Совершенно правильно! – решительно поддержал его Бакланов. – Заниматься мелким
маневрированием нам не к лицу.
Мелентьев ушел, сказав, что он совершенно не согласен с новым руководством, которое берет курс не на
консолидацию сил в институте, а путем наскоков на отдельных работников, путем их дискредитации по
мелочам разобщает, дробит эти силы.
Павел Петрович и Бакланов долго еще совещались, как, где, когда и кто из них должен будет
разговаривать с Шуваловой. Решили, что все-таки побеседовать с ней должен сам директор, Павел Петрович, и
лучше всего с глазу на глаз, без свидетелей.
Весь этот вечер Павел Петрович чувствовал себя скверно. Документы, привезенные Лосевым и
Калинкиным, не вызывали никакого сомнения, с убийственной документальной ясностью они
свидетельствовали о том, что Серафима Антоновна да, действительно из каких-то побуждений выдала чужой
труд за свой и что разговор с ней надо вести отнюдь не о том, правда это или неправда, а только о побуждениях,
толкнувших ее на такой путь. Как он, Павел Петрович, будет вести этот тягостный разговор? Серафима
Антоновна – его первый наставник в науке. Серафима Антоновна – человек, искренне ему сочувствующий в
личной его беде, человек, предложивший дружбу, чуткий, деликатный. Вправе ли он, Павел Петрович, укорять и
уличать ее в чем-либо? Что дает ему такое право?
Когда Павел Петрович задал себе этот вопрос: что дает ему такое право, – стало несколько легче. Он
подумал о состоянии тех людей, заводских инженеров, у которых похитили результаты их большого труда, и
когда назавтра к нему в кабинет вошла Серафима Антоновна, он, помня о людях, с которыми так несправедливо
поступила она, принял ее без обычной улыбки, очень официально. Попросил сесть в кресло.
Серафима Антоновна выслушала его довольно спокойно, не меняясь в лице, только мелко дрожали ее
пальцы, которые не давали покоя медальону на груди.
– Чего же вы от меня хотите, Павел Петрович? – растягивая слова, спросила она, когда Павел Петрович
умолк.
– Я хочу знать ваше мнение, Серафима Антоновна, о том, что произошло. Я хочу вашего совета, как же
быть дальше.
– Как быть дальше, я не знаю, Павел Петрович. Это ваше дело, как вам быть дальше. А что касается
моего мнения о претензиях заводских товарищей, то ведь их претензии – это обычные претензии
производственников. Производственникам всегда кажется, что только они делают нечто важное и необходимое,
а люди науки паразитируют на их труде.
– Но в данном случае, вы же сами этого не отрицаете, новый способ разливки нашли именно
производственники.
– Они набрели на него вслепую. Это был, так сказать, чисто эмпирический путь. В таком виде он
оставался бы навсегда достоянием одного цеха. Я подвела под него теоретическую основу. Он может стать
достоянием всей отечественной металлургии. Разве это не ясно?
Пальцы Серафимы Антоновны уже не дрожали. Она говорила веско, доказательно.
Расстались они каждый при своем мнении. Павел Петрович был обескуражен. Его ободрил Бакланов,
который сказал:
– Ничего, ничего, Павел Петрович. Создадим комиссию. Она разберется. Факты всегда сильнее
словесных перепалок.
Комиссия работала несколько дней, и подготовила заключение: доктор технических наук профессор
Шувалова присвоила труд металлургов Верхне-Озерского завода. Павел Петрович и Бакланов решили, что о
заключении комиссии сообщат на партийном собрании. Согласиться с Мелентьевым в том, что об этой истории
надо умолчать, они не могли.
На партийном собрании с докладом об изменениях в тематическом плане выступил Бакланов. Он
обстоятельно разбирал каждую тему и, находя недостатки в их постановке, напоминал о том, что ведь план-то
однажды рассматривали на партийном собрании, как же случилось, что этих недостатков никто не заметил, не
сказал о них вовремя, не встревожился по поводу них. Не общей ли вялостью общественной жизни института
объясняется такое положение, не тем ли, что партбюро слишком много уделяет внимания мелочам, разборам
дрязг и сплетен и слишком редко ставит на обсуждение крупные, коренные вопросы.
Павел Петрович, избранный в президиум собрания, смотрел в зал, на лица людей и старался по
выражению лиц читать, кого поддерживают эти люди: передовых или отсталых. И здесь, как всегда и везде, как
было еще, когда Павел Петрович работал слесарем, когда учился, когда выступал на колхозных собраниях, когда
жил жизнью родного завода, люди в массе своей были на стороне передового, а не отсталого. Но видел он лица
и такие, на которых не было одобрения тезисам Бакланова. Были кривые усмешки, шепотки на ухо скептически
щурившемуся соседу, пожимания плечами.
Павел Петрович увидел в рядах женское лицо, устремленное в сторону докладчика. Женщина была
молодая, с веселыми глазами. Доклад ей явно нравился. Заметив, что Павел Петрович смотрит на нее, она ему
улыбнулась. Павел Петрович с трудом вспомнил, кто это. Это была жена Румянцева, Людмила Васильевна, с
которой он познакомился на памятном вечере у Шуваловой. Вот как! – удивился Павел Петрович; значит, она
не просто жена профессора, но и сама работает в институте, да еще и коммунистка. Ему это было почему-то
приятно.
Занятый своими мыслями, Павел Петрович не заметил, как в зале установилась напряженная тишина.
– Товарищи! – говорил в это время Бакланов. – В нашей борьбе за то, чтобы наука верно служила
народному хозяйству, чтобы она была мощным рычагом движения вперед, чтобы как можно скорее воплотилась
в жизнь ленинская научная формула коммунизма: советская власть плюс электрификация всей страны, для чего
понадобится невиданное количество машин, а следовательно, металла, металла, металла, – мы с вами должны
быть непримиримыми даже к малейшим своим недостаткам, мы должны быть самокритичны, мы не должны
щадить мелкое самолюбие, лишь бы не страдало наше общее дело.
После такой длинной фразы он перевел дыхание.
– Товарищи, – продолжал он, – всем нам известна наша уважаемая именитая сотрудница, дважды
лауреат Сталинской премии и орденоносец Серафима Антоновна Шувалова. За много лет работы в институте,
точнее – за пятнадцать лет, я не слышал ни одного критического замечания в адрес Серафимы Антоновны. А
разве так уж безупречна ее работа?
Зал загудел, и трудно было понять, что означал этот гул: одобрение словам Бакланова или протест.
Видимо, тут столкнулось и то и другое.
– У нас недавно произошел пренеприятнейший случай, – продолжал Бакланов, утерев лицо платком. —
Если бы его не было, мы и сейчас бы, наверно, промолчали. Но он произошел, и мы с товарищем Колосовым
решили его обнародовать перед коммунистами. Случай такой, – говорил Бакланов. – На основе официального
отчета товарища Шуваловой и соответствующим образом оформленных документов, патентов и прочего одному
из заводов мы представили счет за внедрение оригинальной, экономически эффективной, совершенно новой
технологии разливки стали. А что же оказалось? Оказалось, что сотрудники из группы товарища Шуваловой,
изучив технологию разливки, примененную на этом заводе по инициативе заводских инженерно-технических
работников, изложив ее на бумаге, выдали за свое достижение. Причем даже и эти сотрудники оказались за
бортом. Работа пошла за подписью одной товарищ Шуваловой. Разве так мыслится нами связь науки и
производства?
– А может, это вранье, весь ваш протест заводских товарищей? – крикнули в зале. Павел Петрович
заметил, что кричал Харитонов.
– Мы производили расследование, была создана совместная комиссия из представителей нашего
института и завода, – ответил на реплику Бакланов.
– А при чем же здесь Шувалова? – теперь крикнул Липатов.
– Как то есть при чем? Присвоив чужой труд, – продолжал Бакланов, – она его даже запатентовала,
чего не догадались сделать заводские товарищи. Она считает, что победителей не судят. Но в данном случае
победители-то, однако, не из группы товарища Шуваловой, а заводские товарищи.
В зале шумели, говорили, кричали. Председательствующий Мелентьев стучал толстым карандашом о
графин, – не помогало. Это было неслыханно, что кто-то осмелился критиковать “саму” Шувалову, и как
критиковать, в какой форме, какими словами! Покачнулись все основы институтской иерархии, священные табу
теряли свою силу.
Мелентьев вскочил и крикнул:
– Тише! Тише!
Порядок кое-как установился. Во второй части своего доклада Бакланов говорил о правительственном
задании. О том, какая ответственность возлагается этим заданием на институт и на каждого сотрудника. Но
говорить ему было трудно, в зале все время возникал шум.
Едва доклад был закончен и не успел еще Мелентьев спросить, кто хочет слова, как прогремело зычное
Самаркиной:
– Дайте мне!
Самаркина гневно заговорила о том, что она впервые на таком безобразном собрании, где позволяют
выливать на лучших людей института ушаты грязи, что полезнее было бы заниматься не копанием в старых
отчетах, а задуматься над тем, чтобы люди, имеющие дипломы кандидатов наук, занимали в институте
соответствующие их званию должности и получали бы соответствующую зарплату.
– Об этом, о должности и зарплате для себя, она говорит на любых собраниях, – сказал Павлу
Петровичу Бакланов.
– У нас на заводе тоже такой был, помощник мастера, – ответил шепотом Павел Петрович. – Идет,
предположим, производственное совещание, он выйдет, огладит усы и скажет: “А вот в нашем цехе стружку не
убирают”. Идет отчетно-выборное профсоюзное собрание – он опять свое: стружку в цехе не убирают. Даже
как-то на митинге по поводу выпуска нового займа заговорил о стружке.
– Так сказать, мастер одной песни, – сказал Бакланов. – И наверно слыл бесстрашным критиком
начальства?
– А как же! Корреспонденты первым делом к. нему шли. И в газетах эта стружка фигурировала. Рупор
масс!
Самаркина исчезла с трибуны незаметно. После нее сразу возник Липатов, который тоже долго чем-то
возмущался. Потом вышел молодой сотрудник Игольников из группы Шуваловой и откровенно рассказал все,
как было.
– Да, – говорил он, – получилось ужасно плохо. Мы-то думали, что обобщаем опыт
производственников, мы же не знали, что… что… Серафима Антоновна, – он с великим трудом выдавил из
себя это имя, – что Серафима Антоновна так воспользуется достижениями завода. Я прошу не думать… Мы
всеми силами…
Прения длились до двенадцати часов ночи, были они бурные, противоречивые. Большинство речей
ограничивалось историей с Шуваловой, и только немногие говорили о работе института в целом, о
правительственном задании. В заключение выступил Павел Петрович и рассказал о том, как он мыслит себе
принципы, на которых должна строиться работа института, он говорил, что партия зовет работников науки
решать важнейшие народнохозяйственные проблемы на основе обобщения передового опыта так, чтобы
научные исследования непременно доводились до широкого практического применения. А исследования
работников науки должны быть направлены как на разработку теоретических проблем, без чего невозможно
успешное развитие самой науки, так и на укрепление связи науки с производством, без чего наука не может
содействовать техническому прогрессу, и росту производства.
– Некоторые думают, – говорил он, – я слышал такие разговоры в институте, что укреплять связь
науки с производством – это всего-навсего усиливать научную помощь производству. Однобокое понимание
вопроса! Практика показывает, что от союза науки и производства выигрывают обе стороны. Промышленность
– пусть это учтут товарищи вроде товарища Красносельцева, который, как мне известно, держится других
взглядов, – повторяю, промышленность давно уже оказывает огромное влияние на развитие науки. Целые
разделы науки создавались и развивались с помощью техников, которые решали свои производственные задачи.
Таков путь создания гидродинамики, аэродинамики, механической теории теплоты… Практика ежедневно
рождает множество новых фактов, и когда ученые устанавливают прочные связи с производством, они тем
самым получают доступ к этим новым фактам, получают опору для дальнейшего движения вперед в своей
научной деятельности. Так рождается творческий союз науки и производства – крупнейший фактор прогресса
и самой науки и производства, которому наука служит.
Павла Петровича слушали очень внимательно. Это ободряло его, и он продолжал говорить о том, что
решение всякой научно-технической задачи должно распадаться на несколько этапов: чисто теоретические
исследования, закладывающие основы новой технологии, лабораторные исследования, которые должны
подтвердить или уточнить теоретические выводы, и, наконец, полупромышленные или промышленные опыты, с
помощью которых решается вопрос о технической целесообразности промышленного внедрения.
Теоретические и лабораторные исследования в области техники, оторванные от практической работы, не могут
быть эффективными. Многие проблемные вопросы техники требуют так много сил и творческой энергии, что
быстрые и значительные достижения возможны лишь при содружестве науки и производства. Недопустимо
топтание на месте. Или надо немедленно прекращать заводские опыты, если результаты их представляются
бесперспективными, или быстро переходить от этапа к этапу, сосредоточивая крупные силы и средства на
решении важных проблем. Всякий другой подход к этому делу приводит лишь к потере значительных средств и,
что еще хуже, тормозит технический прогресс.
– Вместе с тем, вместе с необходимостью быстро давать рекомендации производству, мы, товарищи,
должны заглядывать и в будущее, и не только в ближнее, но и в довольно далекое. Хотя наш институт и
отраслевой, а не институт Академии наук, где, как недавно сказал один наш товарищ, закладываются
фундаменты науки, все же и мы не должны далеко стоять от решения фундаментальных научных проблем. Мы
обязаны в них участвовать. Хочется только сказать вот о чем. Есть такие товарищи, которые очень любят
работать в области исследования различных физических явлений с соответствующей математической
обработкой различных закономерностей. Это все, конечно, хорошо, это понятно. Нельзя не считаться со
складом ума каждого из нас. Но вся беда заключается в том, что творческая мысль этих товарищей не идет
дальше, не развивается в направлении расчета, конструирования, создания новых машин и аппаратов на новых
принципах и новых основах. Между тем известно, что все крупные ученые физики, электротехники были не
только теоретиками, но и инженерами-расчетчиками, инженерами-конструкторами. И все они были тесно
связаны с промышленностью, с производством. От этого, приближенно говоря, сильно увеличивалась
производительность их научного труда. Для чего я это говорю? Для того, что не только на заводах, в цехах, в
колхозах надо думать о производительности труда, но и в науке, в научных учреждениях.
Уже когда собрание было закрыто, к Павлу Петровичу подходили люди, которых он даже и в лицо еще не
знал, пожимали ему руку и говорили: “Спасибо, Павел Петрович!”, “Спасибо, товарищ Колосов!” Он не знал, к
чему относить эти благодарности.
– За перспективу, – как бы догадавшись, что это надо объяснить, сказал Румянцев, и сделал округлый
жест руками. – А то теоретиков у нас много, одни теоретики, да толку в смысле ясности мало. Бродим, что
называется, в научном тумане.
Рядом с ним стояла его жена Людмила Васильевна и улыбалась.
– А я и не знал, что вы у нас работаете, – сказал ей Павел Петрович.
– Я же говорила вам, что мне всегда и во всем не везет, – ответила она. – Меня даже не замечают
нигде, не то что… Обо мне ничего не знают, обо мне никогда и не вспоминают. Гриша, хоть бы ты в гости Павла
Петровича позвал. Ну что ты, ей-богу, Гриша, какой?
– Верно, Павел Петрович! А что бы вдруг на днях да бац к нам в гости? На дачу. Мы уже выехали.
Славно там. Речка. Рыбка.
– Что ж, спасибо, учту.
– Ну, это значит – наверняка ничего не выйдет, – сказала Людмила Васильевна. – Договоритесь
точно, точно, слышите? Ну, Гриша, ну что ты молчишь? На субботу, например, договоритесь.
– Как, если в субботу? – повторил Румянцев.
– Не в эту, а в ту или, еще вернее, через ту, – сказал Павел Петрович. – Эта уже послезавтра, не успеть
спланировать дела.
– Надеетесь, что забудем? Не выйдет, не выйдет! – воскликнула Людмила Васильевна. – Если вы
забудете, если Гриша забудет, я – то вспомню, можете во мне не сомневаться.
Среди ночи Павел Петрович медленно шел один по городу. На востоке небо уже светлело, близилась
заря. Павлу Петровичу вспомнились былые зорьки, с удочками, с поплавками, когда сидишь на берегу в
полушубке и в валенках, только коленки голые, они зябнут, их едят комары. Он подумал, что, пожалуй, надо
будет как-нибудь на дачу съездить, не к Румянцевым, так к кому другому, подышать загородным воздухом,
может быть и рыбки половить. У них с Еленой дачи никогда не было. “Ну зачем нам дача, – говорила Елена, —
зачем? Мы же еще молодые. Как можно сиднем сидеть все лето на одном месте! Поездим лучше по стране,
людей посмотрим, себя покажем”. И они каждое лето ездили то в Крым, то на Кавказ, то на Украину или на
Урал.
В сердце защемило от воспоминаний. Было нестерпимо думать, что вот он придет домой, возбужденный,
взволнованный собранием, а там не будет ее, Елены, которая бы его выслушала, поняла, сказала бы какие-то
простые и для других, может быть, ничего не значащие слова, но для него, Павла Петровича, необходимые,
значительные и важные. Он не спешил идти домой. Зачем?
Г Л А В А Ш Е С Т А Я
1
– Если хочешь видеть своего Виктора, – сказала однажды Варя, возвратясь с завода и зайдя в Олину
комнату, – то, пожалуйста. Приходи в наш заводский Дом культуры и увидишь.
– Почему это – своего? – ответила Оля, настораживаясь. Но поскольку Варя промолчала, она через
некоторое время спросила: – А откуда ты знаешь, что он будет, и вообще, что там у вас?
– Я была в цехе и видела, как он получал билет. А что там будет? Будет молодежный вечер. Артисты
приезжают, самодеятельность, танцы, ну как всегда. Билет, между прочим, он брал один, – многозначительно
добавила Варя.
– Не понимаю твоих намеков, – рассердилась Оля. – Неужели ты думаешь… Как ты могла подумать!
Если я призналась, что поступила неправильно, это совсем не значит, что я дала право говорить обо мне что
угодно. Я, кажется…
– Разошлась, разошлась, – миролюбиво сказала Варя. – Да я ничего и не говорю. Я так просто. Не
хочешь – не ходи. Мне-то что! – Она ушла к себе.
Оля хмуро и вяло копалась в книгах, перелистывала журналы и тетрадки с конспектами. В голову ничего
не шло. “Надо прекратить эти глупые мучения, – думала она. – Надо пойти и сказать этому парню, что она
вовсе так о его поступке не думает, что она даже и не знает, как это с ее стороны получилось, и все – инцидент
будет исчерпан!”
Оля думала так взволнованно и нервно еще и потому, что побывала в этот день у Липатовых.
Люся и Георгий жили у Люсиных родителей. Люсин отец был военным врачом. Оля не застала его дома,
она видела только его фотографии, которые ей показывала Люсина мать. На фотографиях это был крупный,
коротко остриженный, седой человек, крепкий, с энергичным умным взглядом; семнадцатилетним мальчишкой
он участвовал в гражданской войне, боролся против белых, поэтому на одной из групповых фотографий он был
изображен с винтовкой в руках и за ремнем у него были две гранаты. Люсина мать прошла с ним рука об руку
долгую жизнь: она была когда-то комсомольским работником, теперь в райкоме партии заведовала отделом, Оля
не стала расспрашивать, каким. Оля застала ее дома случайно, потому что у нее болели ноги и она взяла
больничный лист.
Кроме Люси, у ее родителей было еще двое сыновей, оба погибли на фронте. Люся осталась
единственной дочкой, ее берегли, над нею тряслись, ее любили. Когда она вышла замуж, ее категорически
отказались отпустить из дому. “Никогда и никуда, только после моей смерти”, – заявил отец. Молодоженам
отвели одну из четырех комнат просторной квартиры, отдали им лучшую мебель. Георгий Липатов уехал от
своих родителей. Родители Георгия не понравились родителям Люси, главным образом ее отцу, – мать еще
готова была видеть в них какие-то хорошие черты, но отец прямо сказал: “Пустые люди с пустыми сердцами.
Мне не о чем с ними говорить”. И в самом деле, ему не о чем было с ними говорить. Липатов-отец по
окончании института на производство не пошел, остался при институтской кафедре, потом, когда в городе
создавался научно-исследовательский институт металлов, его взяли туда научным сотрудником, но он и от
науки остался в стороне: в новом институте его привлек так называемый издательский сектор, который ведал
изданием ученых записок. Липатов-отец превратился в редактора. Он редактировал статьи, брошюры, ученые
записки, книги. И с каждым годом делал это все хуже, так как с каждым годом все больше отставал от живой
науки и от жизни. Утратив перспективы, он стал запивать. Со временем и хмель стал действовать на него
совсем не так, как хотелось. Выпьет Липатов, раскиснет и тут же уснет.
О жене Липатова-старшего Люсина мать сказала, махнув рукой: “Замучилась, видимо, с ним и рада, когда
он спит, никого не беспокоит. Что бы бороться против его пьянства, так нет, наоборот, чуть он очнется,
протрезвеет, она снова в графинчик ему наливает. Странная семейка. Вот и сына так воспитали. Двуличный
оказался. С нами он вежливый, льстивый, образцовый зять. А Люсенька от него в слезах ходит”.
Оля давно не виделась с Люсей и теперь увидела ее, несчастную, с большим животом, с лицом в желтых
пятнах. Была такая розовая, хорошенькая, стала такая зеленая, некрасивая.
– Бедная ты моя! – сказала Оля, оставшись с ней наедине. – Что бы для тебя такое сделать? Чем тебе
помочь?
– Я вовсе не бедная, – ответила Люся с улыбкой. – Откуда ты взяла, что мне надо помогать?
– Но ведь Георгий… он тебя мучает.
– Просто чепуха какая-то! – сказала Люся краснея. – Никто меня не мучает. Совершеннейшая ересь!
Это мамины выдумки. Я очень люблю Георгия, он очень хороший. Его мои родители не любят. Но не им же с
Георгием жить, и их любовь или нелюбовь тут особого значения не имеет.
В самом ли деле Люся верила в своего Георгия, или притворялась, что верит, но говорила она о нем так,
будто для нее нет на свете человека дороже и любимее, чем он. Оля не решилась передать ей его разговоры о
том, что он загубил свою жизнь, женившись ка Люсе, что ему нужна другая женщина, что он намерен покинуть
Люсю, чтобы развязать себе руки, уйти из аспирантуры, стать преподавателем в техникуме й зажить свободной
содержательной жизнью человека творческого, а не мужа мещанки.
Оля ушла, снова и снова не умея разобраться в узле тяжких жизненных противоречий. Ну почему у
людей так устроено? Почему они не могут жить счастливо? Что им мешает, почему непременно должны быть
препятствия к счастью? А тут еще Варя задела свежую рану, напомнив о Викторе Журавлеве.
Оля не умела, как Варя, переживать свои огорчения, сомнения, неприятности в одиночестве. Оле
непременно нужен был собеседник, советчик, человек, который бы понял ее, помог ей. Ну кто у нее есть такой?
Отец? Он целиком ушел в институтские дела; к тому же вокруг него, как противная, надоедливая муха, жужжит
отвратительная Серафима Антоновна. Его никогда не дождешься домой. Дядя Вася? Дядя Вася тоже вечно
занят. Пойди найди его. Варя? На Варю Оля рассердилась. Действительно, что это за глупые намеки: “своего
Виктора”! Оля вспомнила про Федора Ивановича Макарова, поколебалась не более полминуты и побежала к
телефону. Дома его не оказалось, кто-то – наверно, сын-школьник – сказал, что он еще в райкоме. Оля
позвонила в райком.
– Федор Иванович, извините, пожалуйста, – быстро заговорила она, когда он ответил. – Пожалуйста,
извините. Но мне бы очень надо с вами поговорить. Мне посоветоваться надо, Федор Иванович. О чем? Ну как
же я это по телефону? Вы все шутите. Вовсе не по вопросу женихов. Ладно, я сейчас же приеду, сейчас же. Если
удачно попаду на автобус, то минут через двадцать буду у вас.
Варя не успела спросить, куда она собралась, – Оли уже не было дома.
Через полчаса дежурный милиционер в вестибюле Первомайского райкома партии проверял ее
комсомольский билет. “Колосова? – он заглянул в бумажку на столике с телефоном и сказал: – Второй этаж,
направо, комната шесть”.
Федор Иванович был в кабинете один.
– Тихо как у вас везде, – сказала Оля, когда он усадил ее напротив себя в кресло.
– Да, по вечерам тихо, не подумаешь даже, какое тут кипение днем. Днем все вертится, вертится, не
успеешь кончить с одним, уж другое подоспело, третье…
Оля шла к Федору Ивановичу со множеством вопросов, сомнений, всяческих неразрешимых проблем. Но
вот, оказавшись с Федором Ивановичем лицом к лицу, она вдруг почувствовала растерянность, не знала, что и
сказать: так ли уж все это существенно, так ли значительно, чтобы чуть ли не ночью врываться в кабинет к
секретарю райкома?
Несколько минут шел совершенно незначительный разговор; Федор Иванович спрашивал, как идут у нее
учебные дела, как поживает Павел Петрович, нет ли известий от Кости с границы. Оля в свою очередь спросила
о здоровье Алевтины Иосифовны. И, увидав, что ей уже ничего не остается – или начинать важнейший для нее
разговор, или попрощаться и уйти, – она с отчаянием воскликнула:
– Федор Иванович! Почему все так получается? Вы же старый коммунист, вы многое видели, много
знаете! Почему, почему все так в жизни? – Она торопливо стала рассказывать о Тамаре Савушкиной, о Люсе с
Георгием, о каких-то, по ее мнению, хитрых действиях Шуваловой вокруг ее отца. – Почему люди не могут
жить счастливо, что им мешает? – воскликнула она. – Я замучилась с этими вопросами. Где же учиться тому,
как решать их, как разбираться в них?
Макаров слушал и думал: “А где учился он тому, как решать вопросы жизни? Кто учил его этому? Не
сама ли жизнь, в которой он тоже совершил немало, да, немало всяких и всяческих ошибок?”
– Оленька, – сказал он. – Потому так труден путь к счастью и потому у людей так много помех на
пути к нему, что всего лишь треть века отделяет нас от того времени, когда и в нашей стране господствовал
страшный принцип: человек человеку волк. Только треть века! А принцип жил долгие века, въедался в
сознание, в кровь и плоть людей… Если ты думаешь, что я говорю тебе слова из газетных передовиц и
прописные истины…
– Что вы, Федор Иванович, вовсе я так не думаю! Я вас понимаю, вы хотите сказать о пережитках
капитализма в сознании людей. Но, Федор Иванович, мы-то, молодые, мы не жили при капитализме, откуда у
нас пережитки?
– От нас, от ваших родителей, – спокойно ответил Макаров. – Думаю, что дальше, Оленька, пойдет
так: чем у отцов останется меньше пережитков, тем меньше их будет и у детей, а чем меньше будет у детей, тем
меньше в свою очередь у внуков, у правнуков…
– А пока что же?
– А пока?.. Пока… Мы с тобой, я коммунист, ты комсомолка, всеми своими силами должны пока
бороться против этих пережитков. Это, знаешь, в общем-то и есть то, для чего мы с тобой вступали – я в
партию, ты в комсомол. Понимаешь?
– Я это понимаю, Федор Иванович, – сказала Оля, прижимая руки к груди. – Но что же вот делать с
ними, с Георгием и Люсей Липатовыми? Так оставить… ждать…
Макаров задумался, глядя в темное окно.
– Надо все-таки подождать, – ответил он. – Видишь ли, Оленька, когда люди рано женятся, то первое
время их союз держится… ну как бы тебе сказать?.. на новизне, что ли, на остроте чувств и ощущений. В этот
момент нет того, что называют разницей в характерах, которыми потом “не сошлись”. И вот, Оленька, если в эту
пору чувствований не начнет складываться меж людьми дружба – дело пропало. Характерами они вскорости
не сойдутся. Нужна дружба, дружба такая, чтобы люди не могли потом друг без друга. Тогда брак получится
прочный, за него можно не опасаться. А у твоих Липатовых дружбы еще не получилось. Но спешить куда же?
Подождите – может, еще получится.
– Не знаю, Федор Иванович, не знаю, худо они живут, – сказала Оля в раздумье.
– А все-таки подождите, не мешайте им. Если он, молодец этот, легкомысленно ведет себя в отношении
других девушек, тут вы по комсомольской линии можете прикрикнуть на него и должны прикрикнуть. А там…
внутрисемейное… подождите, говорю, полгода, годик. Если и тогда ничего не получится – пусть разойдутся,
не мучают друг друга. Как ты считаешь?
– Разойдутся?.. – снова задумалась Оля. Ей почему-то стало очень жаль и Люсю и Георгия. Она
вспомнила, как дружно они сидели, бывало, на лекциях, как танцевали на студенческих вечерах, как всюду
бывали вдвоем и вдвоем. Вспомнила их свадьбу, пирушку, вылетевшую в потолок пробку от шампанского. Тогда
и вино все вылетело на абажур, совсем немного в бутылке осталось. Люся и Георгий сидели глупые, смешные,
счастливые, им кричали: “горько”, и они послушно целовались. И вот вдруг они разойдутся. Неужели это все
так просто в жизни: встретились, пожили вместе, привыкли друг к другу – и до свидания, расходимся? Просто
страшно. – Что вы, Федор Иванович! – сказала Оля. – Лучше бы не надо им расходиться.
– Лучше бы не надо! – Макаров усмехнулся. – Что же, лучше жить не любя и мучиться? А представь
себе, какая будет у них жизнь, если, допустим, молодец этот, оставаясь якобы в семье, будет искать себе