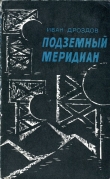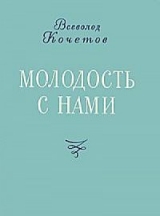
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
– Ну что, товарищ директор? – заговорил он. – Видишь, как получается. Теоретики, теоретизируем.
Говорим много, делаем мало. Может, в картишки перекинемся?
– Не играю в карты, – ответил Павел Петрович. – Не умею.
Румянцев увел с собой в гостиную Белогрудова, собрал там пять или шесть игроков, у них началась игра,
слышались возгласы: “две”, “ни одной”, “три”, “пасс”.
В столовой возле Павла Петровича остались Красносельцев, Людмила Васильевна и Липатов. Липатов
начал декламировать из Брюсова.
Павлу Петровичу было скучно. Он снова думал об Оле.
Видимо, и Людмиле Васильевне декламация Липатова не доставляла удовольствия; она зевнула в ладонь
и предложила лучше спеть что-нибудь. Липатов запел: “Быстры, как волны, все дни нашей жизни”, его
поддержала было Людмила Васильевна: “Что час, то короче к могиле наш путь”. Но дальше никто не знал слов,
и петь перестали. Тут Красносельцев сказал:
– Если вы хотите добиться успеха в своем руководстве, товарищ Колосов, дайте людям спокойно
заниматься наукой. Люди будут вам благодарны и воздадут сторицею.
В гостиной кто-то заиграл на пианино. Под мотив фокстрота Румянцев тенорком повторял: “Возьмем
четыре взятки, обгоним остальных… Возьмем четыре взятки, обгоним остальных…” Павел Петрович подумал,
что пора уходить. К нему подошла Серафима Антоновна.
– Вас бросили! – воскликнула она. – Пойдемте тоже туда, в гостиную, тут накроют к чаю.
Павлу Петровичу не хотелось идти в гостиную, но он пошел, и получилось как-то так, что Серафима
Антоновна звала туда Красносельцева, Людмилу Васильевну, Липатова лишь затем, чтобы оставить их там, а
его она провела в следующую дверь, потом куда-то через коридор еще в одну дверь, и они очутились в
небольшой комнатке с притемненным светом. В комнатке были старинное бюро красного дерева, низкая синяя
тахта, несколько полок с книгами и мягкий ковер на полу.
– Это мой рабочий кабинет, – сказала Серафима Антоновна и пригласила Павла Петровича на тахту.
Он сел и тут же потерял равновесие: тахта была такая податливая, что сама опрокидывала на спину.
– Нате вам подушку, отдыхайте, – говорила Серафима Антоновна. – Вы у друзей, чувствуйте себя как
дома.
Павел Петрович почувствовал страшную усталость, и физическую и нравственную. Он закрыл глаза и
уснул.
2
В ту тяжелую ночь Оля не ложилась. Она ходила по комнатам, включив все лампы, она всматривалась в
ночную темень за окнами, прислушивалась к шумам на лестнице, она говорила себе: вот еще час, и надо будет
звонить в милицию; она вспоминала тревожные слова Вареньки о рассеянности отца, она винила себя в том, что
не сумела удержать его дома. Ей было страшно и очень холодно в пустой квартире.
С какими чувствами, с каким волнением бросилась она в переднюю, когда уже утром заслышала
щелканье замка. И что она увидела? Какого отца? В измятом костюме, заспанного, с опухшими глазами,
некрасивого и какого-то даже чужого. Он был злой, на Олю не смотрел, сказал, чтобы она сварила ему черного
кофе, и принялся мыться и переодеваться.
Столько пережить, так переволноваться, думать бог знает что – и вот тебе, в результате на тебя еще и не
хотят смотреть. Оле было очень обидно и горько.
– Перестань вздыхать! – услышала она окрик, когда накрывала на стол.
– Я не вздыхаю, папочка, – сказала она подергивающимися губами.
– Вздыхаешь! И нечего! Мне, может быть, хуже, чем тебе, в сто раз, а вот молчу.
Вечером, когда он в двух-трех словах рассказал о том, что было у Серафимы Антоновны и как он себя
там чувствовал, Оля поняла его утреннее состояние. Он злился не на нее – за что же? – а на себя, на свое
поведение, на то, что пошел в такую компанию и не сумел во-время ее покинуть. Оля это понимала, но все
равно была отцом очень недовольна, и не только потому, что все так произошло, а и потому еще, что
рассказывал он ей об этом именно в двух-трех словах, так небрежно и коротко, неохотно, будто она попрежнему
девчонка, неспособная понимать что-либо относящееся к трудной прозе человеческой жизни. Ведь вот маме-то
он как подробно рассказал бы об этом вечере, и, конечно, не удивительно, что мама могла бы не только вздыхать
в ответ, мама могла бы и разобраться во всем этом и посоветовать что-нибудь. А что посоветует она, Оля, когда
отец буркнул коротко: “Ну что, что случилось! Сама понимаешь – люди незнакомые, сидишь скованный. А тут
этот коньяк, будь он проклят! Худо стало, уснул. Поняла, надеюсь?”
Когда-то Оля сказала себе, что это теперь ее обязанность – заботиться об отце, как заботилась о нем
мама. Но ей не удавалось выполнять свое намерение. Для этого просто не было времени. Они виделись с отцом
только рано утром и поздно вечером. Утром Оля варила неизменный кофе, его пили с черствыми булками,
потому что Оля не успевала приготовить что-нибудь другое, и очень удивлялась, как это маме удавалось
успевать. Вечером были тоже на скорую руку приготовленные закуски. А обеды… Оба обедали у себя в
институтах. Что же касалось уборки в квартире, то ведь и так довольно чисто. Ну пометешь немножко вокруг
стола в столовой, сотрешь кое-где тряпкой пыль, и – чисто. Павлу Петровичу было не до этого, а Оля
совершенно искренне не замечала, как с ходом времени тускнеют паркеты в комнатах, как из белых становятся
серыми гардины на окнах, как мебель приходит в такое состояние, когда на ней можно расписываться пальцем,
и как незаметно, но с неотступным упорством в квартиру внедряется застойный запах нежилого помещения.
Да, заботиться об отце оказалось куда труднее, чем принимать твердое решение об этом…
Двумя днями позже, выходя из городской библиотеки, где она занималась по вечерам, Оля встретила
Тамару Савушкину.
– Олечка! – воскликнула Тамара. – Милая моя! Как я тебе рада! – У Тамары был вид счастливейшего
в мире человека. – Извини, дорогая, – продолжала она, – что я тебя не навестила. Я же не умею
притворяться, ты знаешь. И моя глупая сияющая морда была бы отвратительна в такие дни для тебя. Ну, ты
меня прости. Ну, пожалуйста.
Прямо на улице, среди удивленных прохожих, она горячо целовала Олю.
– Может быть, мы отойдем в сторону? – предложила Оля.
– Нет, мы сейчас куда-нибудь зайдем и посидим. Вот что: мы пойдем в кафе! – сказала Тамара
решительно.
Было девять вечера. Оля знала, что Павел Петрович еще в институте, и согласилась.
– Я теперь не Савушкина, – говорила по дороге Тамара, – понимаешь? Я теперь Никитич! – Она
даже слегка визгнула, так, видимо, ей нравилось то, что она уже не Савушкина, а Никитич.
В кафе они вошли не сразу, потому что в дверях происходил какой-то скандал, кого-то не то не пускали,
не то уже изгоняли из зала. Лохматый маленький человек грозил швейцару страшными карами. Швейцар стоял
величественно перед ним и повторял со спокойствием памятника:
– Выпили, гражданин, и хватит. Надо меру знать. Идите домой.
Уже сидя за столиком, подруги узнали от официантки, что этот лохматый человек – местный поэт, он
пишет поэмы, но его поэмы не печатают, и вот он с горя гуляет по ресторанам.
– Ну что ж, – сказала Тамара серьезно, – я виню не его. Это действительно горе, когда работаешь,
работаешь, и все без толку. Я виню жену. Значит, такая у него жена: не может создать дома уют, сделать так,
чтобы мужу не хотелось уходить из дому. Ах, Оленька, ты не знаешь, как это приятно – окружать любимого
человека уютом и заботами! Мой Миша, он такой способный, подающий надежды, он открыл неслыханный
способ борьбы с сельскохозяйственными сорняками. Это делается так…
Тамара с увлечением принялась рассказывать о том, как с самолета разбрызгивают над полями
изобретенную ее Мишенькой жидкость. Потом она говорила об экспедиции, в которую собирается Мишенька, и
что он ее непременно возьмет с собой.
Оля спросила:
– А что в же будет с аспирантурой? Что ты думаешь делать дальше?
– Дальше? – удивилась Тамара. – Ну ведь я же, по-моему, объяснила…
– Домашняя хозяйка?
– Ну ведь это как рассматривать, Оленька. Домашняя хозяйка… Некоторые, наверно, так и будут думать:
домашняя хозяйка. А я смотрю иначе: подруга, помощница ученого. Он приносит громадную пользу народу,
стране, а я ему в этом буду помогать. Я создам ему всё-всё, все условия. И что ж ты думаешь, в случае неудачи
– неудачи ведь у кого угодно могут случиться, бог тоже не все удачно создал, если хочешь знать, – ну так вот,
в случае неудачи, он, Мишенька, разве пойдет тут со швейцарами спорить? Он придет домой, ко мне, к своему
другу.
– А твоя диссертация, Тамара?
– Ах, эта диссертация! Теперь, когда я ушла из аспирантуры, с меня как бы спали чугунные цепи,
поверишь? Диссертация… Она мучила меня, я во сне ее видела. Мне так надоело рыться в книгах! Такая тоска
и скука. Ты помнишь мою тему, да? “История производства художественного стекла в России”. Когда я
рассказала о ней Мише, он сначала из вежливости сказал, что это очень интересно, а потом, уж когда мы
поженились, стал расспрашивать, как, мол, я думаю, кому эта стеклянная история нужна, какую она принесет
пользу науке или народному хозяйству. А я и не знаю, Оленька, какую. Ведь откровенно говоря, как было дело.
Мой папа был категорически против того, чтобы я куда-нибудь уезжала из дому, он говорил: единственная
дочка, не отпущу в Сибирь или на Камчатку. Он мне сказал: на пятом курсе нажми так, чтобы одни блестящие
знания, одни пятерки. Я нажала. Помнишь, какие были восторги по поводу меня? Ну и вот. Валериан
Николаевич предложил: оставайтесь, Тамара, в аспирантуре. Мне безразлично, папа рад. Осталась. А тема?
Тему Валериан Николаевич выдумал. Мне тоже казалось: скука, мол, книжное дело. А папа считал: не все ли
равно, какая тема, главное – в Сибирь не пошлют по крайней мере еще три года. А я, знаешь, с удовольствием
поеду в Сибирь, на Камчатку – куда угодно, лишь бы с Мишенькой.
– И ты ведешь все домашнее хозяйство, готовишь обеды, убираешь квартиру? – спросила Оля.
– А как же! Все-все. Правда, квартира у нас невелика, одна комната в шестнадцать метров. Но все равно,
дел очень много. Раньше, у себя дома, я ничего не хотела делать. Мама кричит: лентяйка, хоть бы посуду
вымыла или пол подмела. Ну ничего не хотела делать. А сейчас землю бы рыла… Это, Оленька, от любви,
наверно. Как ты думаешь?
Оля отпила с ложечки кофе со сливками, который очень любила; на этот раз кофе почему-то не имел
никакого вкуса: Олины мысли были заняты иным. У нее в плане был такой пункт: вызвать Тамару Савушкину в
институт или самой съездить к ней домой и поговорить серьезно о том, что так нельзя, нельзя бросать
аспирантуру, нельзя легкомысленно относиться к своему будущему, к народным средствам, которые на нее
затрачивались почти целый год, – подействовать на Тамарину комсомольскую совесть. Теперь все
переменилось. Нет, Оля не вызовет Тамару и не поедет к ней домой. До чего же это странно – все вокруг
твердят человеку: твое счастье вот в чем, вот в чем, вот в чем, а он находит свое счастье совсем в другом. И до
чего же было бы глупо начать сейчас уверять Тамару, что она несчастна, что ее счастье совсем не в ее
Мишеньке, а в истории художественного стекла.
– Что ж, Тамарочка, очень за тебя рада, – сказала Оля.
– Правда, Оленька? – Тамара чуть столик не опрокинула, так она рванулась к Оле от радости. – А мне,
знаешь, сказали, что ты собираешься меня прорабатывать.
Они расплатились и вышли из кафе. Тамара увидела освещенный циферблат на башне райсовета,
воскликнула:
– Уже одиннадцать! До свиданья, Оленька! Заходи, заезжай, посмотришь, как я живу, – и почти бегом
пустилась к остановке троллейбуса.
На Октябрьском проспекте было тесно, густая толпа текла по широкому тротуару, Тамаре пришлось
лавировать в этом потоке. Толкая встречных, она выбегала на мостовую, чтобы их обогнать. Оля смотрела ей
вслед и думала: как хорошо, видимо, там, куда так спешит человек. Сама она, Оля, никуда не спешила. Она
медленно брела среди людей, слышала неразборчивый говор, смех, выкрики, шорох и шаркание подошв. Ей
показалось, что кто-то из идущих впереди нее заговорил очень знакомым голосом. Она насторожилась.
– Нет, отец, – говорил знакомый голос, – ты этого никогда не поймешь. В наше время преступно жить
с человеком, в котором ошибся. Это значит сознательно закопать в землю свои способности.
Оля узнала голос Георгия Липатова. Так этот модник, в широкополой шляпе, сдвинутой на один глаз, с
тросточкой в руках – это отец Георгия. Оля решила было отстать от Липатовых, но ей захотелось послушать, о
чем так горячо философствует Георгий.
– Но ведь она же у тебя беременна, – сказал Липатов-отец.
Оля поняла, что это сказано о Люсе, и, сама не зная почему, покраснела. Она почувствовала, что
покраснела, потому что лицу ее, шее, ушам стало жарко, как перед раскрытой печкой.
– Что ж такого, – ответил Георгий. – С каждой рано или поздно это случается.
– Рано или поздно, – пробурчал Липатов-старший. – Не хочешь ли ты, чтобы мы с матерью платили за
тебя алименты? Тебе еще добрых два года пребывать в твоей аспирантуре и получать – сколько там – пятьсот,
шестьсот?..
– Это ничего не значит, я пойду преподавать в техникум, мне предлагали. Сам сумею платить что надо.
Они некоторое время шли молча. Потом старший сказал, как бы с сожалением:
– Такая милая девушка…
– Ты ее не знаешь, вот она тебе и милая.
– Родители…
– Про родителей можешь не говорить, – перебил Георгий. – Если хочешь знать, ты у них называешься
не иначе как “наш пьяница”.
– Это я знаю.
– И тебе приятно?
– Нет, неприятно. – Липатов-старший помолчал и добавил: – В общем-то твое дело, тебе виднее, мама
всегда будет рада видеть тебя снова дома.
Он, кажется, даже зевнул, сказав эти равнодушные слова, и Оля поняла, что участь Люси Иванченко
решена. Она кинулась вперед и с такой силой схватила за рукав Липатова-младшего, с такой силой рванула его,
что он оказался перед нею лицом к лицу.
– Георгий! – крикнула она. – Георгий, ты подлец! – Оля понимала, что произносит не те слова,
которые бы нужны, но никакие иные не находились. – И мы поступим с тобой так, – продолжала она, – как
ты заслуживаешь. Ты не комсомолец, ты…
Она с ужасом видела, что вокруг уже собирается толпа, уже ухмыляются какие-то парни и девицы; может
быть, они думают про нее, что она устраивает тут сцену ревности или еще что-нибудь такое.
Она бросилась бежать, как недавно бежала Тамара Савушкина, но совсем не потому, что ее манило
домой, а потому, что чувствовала: еще минута – и она надает по щекам и Георгию и его равнодушному папаше.
Оля остановилась только на набережной Лады, недалеко от моста. Лед на реке лежал темный, и от него
несло полыньями, по нему уже не ходили. И ветер вдоль Лады летел сырой, весенний, из низких туч даже
капало что-то вроде дождя, но еще не дождь, – от него только леденели тротуары и делалось невыносимо
скользко. Оля прислонилась к бетонному парапету и склонила голову так, как недавно склонял свою отец, когда
старичок в обрезанных валенках сказал ему, какой марки сталь испортили заводские сталевары. Но там была
сталь, сталь, ее можно переварить и исправить. А кто же исправит Люсину жизнь? Она, Оля, сделать это не
сможет, нет, нет, не сможет.
Перед нею возникли Нина и Маруся, которых она не сумела помирить, только еще более озлобила, за
ними встала Тамара, которая так и ускользнула из института. Вот теперь Люся, которую Оля не умеет защитить
от пошлого, дрянного, мерзкого человечка. Все они вместе совершили в Олином мозгу какой-то странный круг,
еще повернулись, еще… Ломая ногти, Оля едва удержалась руками за парапет и, чтобы противостоять страшной
силе, которая тянула ее упасть навзничь – затылком о ледяные, скользкие камни, налегла на холодный бетон
грудью.
– Ишь, – услышала она над собой старушечий голос, – напоили-то сердешную. Беспутная ты,
беспутная. Поднять юбчонку да выдрать тебя под первое число.
Старушка постояла, постояла и побрела дальше, шаркая подошвами. Оля ничего ей не ответила. Не
могла.
3
У Павла Петровича не было того дара, с помощью которого счастливцы, таким даром обладающие, не
теряются ни в какой обстановке, ни при каких обстоятельствах, – дара всегда быть уверенным в своем
превосходстве над окружающими. Обладатель такого бесценного качества вдруг на крыльях этого своего
превосходства, внушенного ему или еще папашей с мамашей, или уже им самим, а то и неосмотрительными его
начальниками, возносится до весьма и весьма крупных постов. Нередко, совсем нередко случается, что высокие
руководящие организации растрачивают свою коллективную мысль и энергию на то, как же, мол, быть с
директором такого-то завода, с человеком, возглавляющим такой-то театр, а иной раз продвинувшимся и
гораздо выше. Вот, дескать, был человек как человек, неплохо работал в свое время на своем месте, а что
сталось? Назначили директором завода или театра, поначалу, год-два, все шло будто бы и ничего – теперь завод
или театр в бедственном положении.
Всем кажется, что человек за год-два испортился, ищут причины его порчи, непременно находят их,
наказывают человека за то, что он этим причинам не противостоял, – и снимают с поста.
А он вовсе и не портился, он спустя год-два работал так же, как и в первый день, может быть и лучше,
потому что приобрел какой-то навык; но дело все в том, что его самоуверенность, вскормленная чувством
превосходства над окружающими, обманула и его самого и тех, кто его взялся выдвигать. Что бы, когда его
вызывают в высокую организацию и говорят: так, мол, и так, дорогой товарищ, надо возглавить то-то и то-то, —
что бы ему тут взять да и отказаться со всей откровенностью: пожалейте, товарищи, тех, кого вы хотите
поставить под мое руководство, – с культурой у меня неважно, учился плохо; а если и культуры достаточно, то
организаторских способностей никаких, дома со своими ребятишками и то не справляюсь, жены боюсь; а если
и жены не боюсь, то в душе-то у меня не было и нет размахов, своей сверхосторожностью, страстью к
перестраховке, трусостью буду мешать людям истинно творить; мне бы, отслужив до шести вечера, домой на
диванчик или в огород грядки копать, я ведь по натуре дачник. Вот бы что сказать. Так нет же, говорит, скромно
потупясь: раз надо, постараюсь, приложу все силы. Я трудностей не боюсь.
Ну и начинается. Поскольку его отыскали где– то в низах, да в верхи вызвали, да отметили доверием, ему
уж кажется, что он персона избранная и для подчиненных достаточно присутствия среди них самой его
персоны, чтобы они старались изо всех сил и чтобы дело у них шло неслыханными темпами.
Оно вначале и идет по инерции, мало-помалу инерция угасает, а там, глядишь, начинается и та толчея,
посозерцав которую некоторое время вышестоящие организации задумываются: был человек как человек,
неплохо работал в свое время на своем месте, а что сталось?
А ничего не сталось. Так и было. Обманулись его речами с общегородских трибун, его умением никогда
не выражать ни сомнений, ни колебаний, его зазубренной формулой: “Раз надо, постараюсь, приложу все силы.
Я трудностей не боюсь”, – приняли это наносное за истинное, за силу, в то время когда это слабость.
Нет, Павел Петрович никогда себя не переоценивал, никаких таких чувств превосходства у него
развиться не могло уж по одному тому, что никогда ему ничто не давалось легко, все в его жизни было добыто
кропотливым и незаметным и, если так можно выразиться, неэффектным трудом. Нет, Павел Петрович не
считал, что достаточно присутствия его персоны где-либо для того, чтобы дело там шло само собой. Он знал,
что только большой, самозабвенный труд способен сдвигать дело с места, – так было в его бытность слесарем,
а затем студентом; еще в большей мере было так, когда он стал мастером; еще больше труда понадобилось,
когда под его начальство перешел громадный цех. А должность главного металлурга – она поглощала человека
всего целиком, даже для семьи мало что оставалось, не то что для произрастания самомнения или каких-то
неведомых чувств превосходства над теми, кто окружал Павла Петровича.
Но это отнюдь не значило, что Павлу Петровичу недоставало характера. Он умел достойно держаться и в
мирные времена и в годы сражений.
И его не могло, конечно, не тревожить состояние, в котором он оказался с первых дней пребывания в
институте, – состояние пассивного выслушивания разноречивых мнений и различных проектов. Наутро после
отвратительного вечера у Шуваловой, от которого осталось чувство стыда и мрачного раздражения, Павел
Петрович ехал в институт, переполненный решимостью изменить положение.
В подъезде главного здания он нагнал Белогрудова. Белогрудов уступил дорогу, на лице его была улыбка,
которая показалась Павлу Петровичу улыбкой сообщника; и еще Павлу Петровичу показалось, что Белогрудов
даже как-то панибратски подмигнул.
– Аве, Цезарь! – воскликнул вчерашний сотрапезник, подымая кулак для салюта.
Павла Петровича подмывало ответить на подобное приветствие какой-нибудь резкостью. Но он не нашел
должных слов для ответа и молча прошел в дверь, оставив Белогрудова пожимать удивленно плечами.
Часы били девять, когда Павел Петрович входил в свою приемную.
– Вы как граф Монте-Кристо, – сказала Лиля Борисовна. – К вам товарищ Харитонов.
Харитонов встал с дивана, уголки его губ улыбчиво загибались кверху, он был до блеска побрит,
аккуратненький, чистенький, хорошо осмотренный перед выходом из дому. Все, что на нем было надето, могло
именоваться только с применением суффиксов “чок” “чик”, “очк”, “ечк”. На нем был не пиджак, а пиджачок, не
брюки, а брючки, не рубашка, а рубашечка, не галстук, а галстучек, и ботинки не ботинки – ботиночки; были
еще носочки, ремешочек, часики на руке. Он огорошил Павла Петровича вопросом:
– Ну как она, жизнь-то, товарищ директор? Входите в курс?
Это был вопрос столь глупый, и задан он был таким развязным тоном, что Павел Петрович физически
почувствовал, как в лицо ему ударила кровь.
– Чем могу быть полезен? – спросил он, сдерживаясь.
– Да поговорить надо. Разные вопросы. Вот третий день собираюсь…
– Вам придется продолжить сборы еще дня на два, на три. Я занят. – Сказав это, Павел Петрович
прошел к себе в кабинет.
– Павел Петрович, – заговорила Лиля Борисовна, входя следом за ним, – это недоразумение! Это я
виновата, не предупредила вас. Валентин Петрович… вам, наверно, показалось, что он… ну как бы это…
– Нахал?
– Нет, он не нахал… Он… ну так сложилось все. Видите ли, он у нас в институте со дня организации.
Он тут перезанимал все должности за двадцать лет.
– И директором был?
– Был. Был секретарем партийной организации, профсоюз возглавлял, заместителем директора был по
научной части, разными отделами и лабораториями заведовал. Директором, говорю, тоже был. И. о.
Исполняющим обязанности.
– И считает, что он всем кум и сват, – так, что ли?
– Ну а как же, Павел Петрович! Посудите сами. Как только трудность с кадрами, как только кого-нибудь
снимут или не утвердят – кто спасает положение? Товарищ Харитонов.
– Все умеет, все знает?
– Не в этом дело, Павел Петрович. Но его биографические данные…
– Хорошо, Лидия Борисовна, у нас, видимо, еще будет время для собеседования по вопросам
биографических данных товарища Харитонова. А пока я бы попросил вас… – Павел Петрович взглянул на
часы, – оповестите членов ученого совета. Скажите, что я приглашаю их ровно к двенадцати. У вас есть
список?
– Зачем список! Я знаю всех без всяких списков. – Лиля Борисовна даже обиделась.
До двенадцати Павел Петрович успел поговорить по поводу предстоящего совета со своим заместителем
по научной части Архиповым и с Мелентьевым.
Разговор с Мелентьевым был довольно короткий.
– Товарищ Мелентьев, – сказал Павел Петрович, – вы мне обещали помощь, советовали не теряться.
Где же помощь? Вы даже зайти ко мне не хотите.
Мелентьев посмотрел неподвижными глазами, кашлянул и удивился:
– Извини, товарищ Колосов, претензия твоя неосновательная. Чего же я примусь к тебе ходить? Ты —
единоначальник. У нас, знаешь, руководителю мешать не принято. Помочь – да. Какая тебе нужна помощь?
Приди, скажи, подумаем вместе.
– Собрания у тебя не предвидится на ближайшее время? Я бы проинформировал партийную
организацию о тех впечатлениях, какие сложились у меня при знакомстве с планом научно-исследовательской
работы на этот год.
– Не понравился план?
– Почему – не понравился? Но поправки бы внести следовало. И принципиальные поправки.
– Нехорошо получится, товарищ Колосов. Мы ведь план уже обсуждали на общем собрании в конце
того года, вынесли рекомендации. Что ж, теперь свое же решение ревизовать? В общем, если считаешь нужным,
давай твои предложения обсудим сначала на бюро. Если бюро согласится, вынесем и на собрание.
До двенадцати еще было добрых полчаса. Павел Петрович остался в своем, неприятном ему, мрачном
кабинете. Принял сразу две таблетки пирамидона: очень болела голова после вчерашнего. Он досадовал на то,
что все эти дни держался в институте если не как мокрая курица, то во всяком случае и не так, как следовало
бы. Естественно, что ему уже панибратски подмигивают, говорят: “Ну как она, жизнь-то”, вот-вот примутся
хлопать по плечу, и тогда он повалится, так и не успев подняться. Странно, ведь на заводе он знал и умел, что и
как сказать, что и как сделать, он не стеснялся резать правду в глаза, мог употребить крепкое словцо, все мог, а
тут… тут растерялся. Если разобраться, не он один виноват в этом. И в министерстве, и в обкоме, и в райкоме —
всюду ему твердили одно: специфика научно-исследовательской работы, многообразие биографических и
творческих индивидуальностей в коллективе института, необходимость их сплотить, спаять, необходимость
быть исключительно чутким, внимательно прислушиваться к малейшему гулу этого трудового улья и
немедленно принимать меры, если возникнет хоть какое-либо нарушение в его рабочем ритме.
Его ошибка, думалось Павлу Петровичу, состояла в том, что он не начал действовать с первого дня. И
ученый совет надо было собрать в первый день, и партийное собрание созвать назавтра же, и с главным
инженером решить немедленно… Но разве он не поступил бы именно так, если бы все это случилось хотя бы
месяц назад, когда еще была с ним его Елена? Разве бы его запугали все эти специфики, разве таким
растерянным и вялым предстал бы он перед учеными?
Дверь распахнулась, вошел высокий, крупный мужчина с белой прядкой надо лбом, с красивым
спокойным лицом и умными глазами.
Павел Петрович вышел из-за стола, поздоровался. Вошедший, пожимая ему руку, сказал:
– Бакланов, Алексей Андреевич.
– Очень приятно, – ответил Павел Петрович. – Мы, кажется, встречались. О ваших работах по
жаропрочным сталям я во всяком случае знаю.
– Ну и мне ваши работы, Павел Петрович, известны, – отбросив со лба седую прядь, сказал Бакланов.
Вслед за Баклановым входили другие члены ученого совета. Павел Петрович встречал их близ дверей,
приглашал к столу, накрытому зеленым. Не без удовольствия отмечал он в уме, что из людей, которых ему
упорно на протяжении почти целой недели называли то Шувалова, то Мелентьев и из которых состояло
вчерашнее общество Шуваловой, тут оказались только подвижный Белогрудов, толстяк Румянцев да
монументальный, медлительный и важный Красносельцев.
Последней вошла Серафима Антоновна. Как всегда свежая, подтянутая. Она села в кресло возле окна.
– Товарищи! – сказал Павел Петрович, когда слева от него за отдельным столиком устроилась Лиля
Борисовна, готовая вести протокол. – Я пригласил вас для того, чтобы, наконец, состоялось наше обоюдное
знакомство. Правильнее было бы это сделать в первый день моего прихода в институт. Ну, коли произошла
ошибка, давайте ее исправим. Будем знакомы. Я думаю, мы сегодня должны подвергнуть критике все, что
только мешает работе института, высказать все претензии, быть абсолютно откровенными. Это даст нам
возможность выработать и позитивную нашу программу. Как вы считаете?
– Совершенно верно, – отозвался немедленно Красносельцев. – Мы должны быть сегодня абсолютно
откровенными. Но мне хотелось бы, чтоб уважаемый товарищ директор подал пример к этому и абсолютно
откровенно высказал свое мнение о нашем тематическом плане. Почему я так говорю? Потому что были
прецеденты: придет новый директор, вначале все тишь да гладь, а потом начинается ломка плана. Вот и хочется
знать, будет такая ломка на этот раз или нет.
– Не вижу нужды не быть откровенным, – заговорил Павел Петрович. – Пожалуйста, товарищ
Красносельцев. О плане… – Он полистал страницы отпечатанного на гектографе тематического плана. – Вот,
например, ваша тема… Как бы остроумно вы ее ни называли, что это в конце-то концов? Поиски тех
критических температур нагревания стали, которые найдены еще в прошлом веке и известны всем сталеварам
под названием точек Чернова, нашего выдающегося соотечественника Дмитрия Константиновича Чернова.
– Позвольте! – Невозмутимый Красносельцев взволновался. – Нельзя так примитивно…
– Ну, конечно, у вас это выглядит как будто бы и вполне современно, – продолжал Павел Петрович
спокойно. – Но суть-то, суть – точки Чернова, а? И этим вы заняты, товарищ Красносельцев, более чем десять
долгих лет, из года в год. Начали еще до войны… Так что, как тут не заняться пересмотром плана, я просто не
знаю. Надо к нему отнестись очень внимательно, очень. Он – основа нашей работы.
Павел Петрович говорил минут тридцать. Закончил он так:
– Если товарищу Красносельцеву угодно называть это словом “ломка”, то да – ломка, видимо, будет.
Она необходима.
– Позвольте, не могу молчать! – Красносельцев вскочил с места. Он окончательно утратил
величественное спокойствие. Суть его речи заключалась в том, что от высказывания нового директора пахнет
махаевщиной, оно противоречит установкам Восемнадцатого съезда партии в отношении интеллигенции, что,
возможно, он, Красносельцев, и оттолкнулся от работ Чернова, но что в этом удивительного? Чернов – отец
металлографии. Предположим в общем, что он, Красносельцев, взял отправными точками точки Чернова, но он
разве топчется на месте, разве в печати, в широкой печати, не отражен его громадный труд? Из года в год
увеличивается в объеме его капитальное исследование, выдержавшее уже четыре издания. Научную работу
нельзя ограничивать формальными рамками, это творчество, а творчество нельзя планировать, как производство
примусов.
Дождавшись паузы, Павел Петрович сказал:
– Товарищ Красносельцев, но ведь ваш этот печатный труд подвергся серьезной критике в центральной
печати.
– Знаете, – помолчав, ответил Красносельцев. – Критика!.. Еще Бальзак говорил: “Критика – это
щетка, которая не годится для тонких материй, она бы стерла всю ткань”.