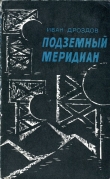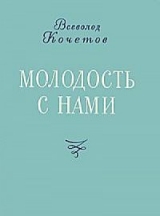
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
– ответила ему Быстрова, – то изволили бы говорить правду. Хотим, мол, вам помочь опытным партийным
работником на пост секретаря, а там смотрите сами. Вот что надо было говорить. А вы занимались мелким
интриганством. И на собрании продолжали интриговать. Вы же не рассказали собранию об ошибках секретаря
партбюро, вы не вскрыли их природу и суть.
– Мне так и поручено было: не компрометировать его.
– Разве вскрыть ошибки, указать на них – это компрометировать человека? – Быстрова, до этого
спокойная, стала возбуждаться. – Как вы рассуждаете, товарищ Иванов! Откуда у вас такие методы партийной
работы?
– От вышестоящих товарищей из руководства, – твердо ответил товарищ Иванов.
– Безобразие! – сказал один из членов бюро райкома, старый коммунист, директор школы-десятилетки.
– Извольте назвать мне хоть один документ, хоть одно устное выступление, исходящее от вышестоящих наших
партийных организаций, в которых бы нас учили интриганству. Извольте отвечать!
– Товарищ секретарь горкома Савватеев всегда указывает на необходимость быть гибкими в партийной
работе, – сказал Иванов.
– По-вашему, интриганство – это гибкость? На необходимость интриганства указывает товарищ
Савватеев?
– Не на интриганство, а на то, что мы должны умело направлять мнение масс, что излишнюю
демократию разводить нечего, от нее хлопот не оберешься, и не всегда она на пользу делу.
– Позор! – сказал директор школы.
Федор Иванович внимательно слушал. Он спросил:
– Когда же это товарищ Савватеев вас так инструктировал?
– Секретарь горкома имеет право вызывать к себе любого работника партийного аппарата, —
независимо ответил товарищ Иванов.
– Разрешите продолжать? – попросила Быстрова. – И вот представьте, товарищи, к чему привела
затеянная товарищем Ивановым игра в кошки-мышки. Коммунисты, которым ничего толком не рассказали,
ничего не объяснили, когда началось выдвижение кандидатур в состав нового партбюро, первым делом назвали
фамилию прежнего секретаря. Ну и хорошо, и мы ничего не имели против того, чтобы он оставался в
партийном бюро. Так ведь? Так. А дальше… дальше товарищ Иванов заявил, что райком считает нужным
пополнить состав бюро и рекомендует товарища такого-то, вот, мол, он сидит в первом ряду. Коммунисты не
понимают, зачем, почему, отчего это? Сыплются вопросы, записки в президиум. Как отвечает коммунистам
товарищ Иванов? Одной, совершенно таинственной, загадочной фразой: “Есть мнение райкома”. Ну что же, раз
есть загадочное мнение райкома, у коммунистов нет оснований не доверять мнению райкома. Просят товарища
с завода имени Первого мая выйти на трибуну, рассказать о себе, кто таков, что и почему, биографию, трудовой
путь. Товарищ… ей-богу, мне вот стало и за всех нас стыдно и перед ним, перед тем товарищем, совестно!.. —
Быстрова прижала руку к груди. – В какое жуткое положение поставил этого товарища наш представитель!
Товарищ вышел на трибуну, все обстоятельно рассказал, хороший товарищ, заслуженный, замечательный. Его
оставили в списке для голосования. Но интрига есть интрига! – Быстрова повысила голос. – До добра она не
доводит. Стали голосовать, и не выбрали нашего товарища! Не поняли, зачем он был послан на завод. И
виноваты мы, мы, мы! Мы не сказали коммунистам, что это их будущий новый секретарь, партийный работник
с большим опытом, что, посылая его к ним, мы хотели помочь партийной организации завода. Из-за нашей
скверной организации дела не выбрали, говорю, ни нового товарища, ни старого секретаря. Голоса
раздробились. Такова суть дела, которое вы мне поручили расследовать.
– Кто хочет высказаться? – спросил Федор Иванович. – Или у кого есть предложения?
– Пусть сам товарищ Иванов объяснит свое поведение.
Товарищ Иванов объяснял долго, нудно, вновь и вновь ссылаясь на секретаря горкома Савватеева,
намекал на то, что Савватеев его ценит и зря в обиду не даст, что демократию можно понимать по-разному, что
ее, в конце концов, можно повернуть и против советской власти, не успеешь оглянуться – тут тебе уже и
капитализм реставрируется под видом демократии.
Его сурово и беспощадно отчитал старый коммунист, директор школы, который сказал, что демократию,
о которой товарищ Ивашов говорит с таким барским пренебрежением, он с оружием в руках завоевывал в
семнадцатом году и вплоть до двадцать первого года отстаивал под огнем врага, не раз отдавая кровь, отдавая
здоровье, что он готов и жизнь отдать за нее, что товарищ Иванов – зазнавшийся чиновник, от таких только
вред и никакой пользы.
Выступили почти все члены бюро, требовали, чтобы это обсуждение, как очень поучительное, было
доведено до секретарей первичных партийных организаций, и еще требовали наказать товарища Иванова за
дискредитацию методов партийной работы; кто-то даже сказал: за провокационную дискредитацию.
Взял слово и Федор Иванович.
– Коммунисты должны знать все, что мы от них хотим, – говорил он. – Директивы, указания, мнения
вышестоящих партийных органов они должны понимать, уяснять и выполнять с полнейшей сознательностью.
Никакие магические формулы: “есть мнение райкома”, “есть мнение горкома” не помогут, если это мнение не
разъяснено всем коммунистам.
Слова Федора Ивановича встречались одобрением, потому что в партийной организации района после
его прихода в райком от месяца к месяцу партийная работа все улучшалась, становилась все более живой,
боевой, горячей. Актив охотно помогал ему искоренять канцелярщину и бюрократизм: работники аппаратов
райкома и партийных комитетов на предприятиях и в учреждениях по решению бюро были освобождены от
доброй половины ранее ежемесячно собиравшихся сведений.
Савватеев вызвал было Федора Ивановича на бюро горкома и попытался дать ему взбучку. Но Федор
Иванович выстоял. Он сказал, что большинство этих сведений никому не нужно, что в горкоме их попросту
переписывают на другой лист бумаги и отправляют в обком, а там они идут преблагополучно в архив. Савватеев
сказал: “Не ваше дело рассуждать, куда они идут, – ваше дело исполнять то, что вам прикажут”. Затем Федор
Иванович сказал, что если горком хочет знать положение в районе, то он, Федор Иванович, всегда, без всяких
бумажек и ведомостей может рассказать об этом с полным анализом, с выводами и предложениями, что это же
по своим группам предприятий и учреждений могут сделать в любое время инструкторы райкома.
Освобожденные от писанины, они имеют достаточно времени для подлинного изучения жизни и ее явлений. И
что будь он, Федор Иванович, на месте Савватеева, он требовал бы от секретарей райкомов не чтения докладов
по бумагам, а живых рассказов и тому же учил бы своих горкомовских работников.
Савватеев на него закричал, затопал, сказал, что он, Макаров, забывается, забывает, где находится и с кем
разговаривает. Но члены бюро – второй секретарь горкома партии и секретарь горкома комсомола —
поддержали Федора Ивановича. И гот и другой сказали, что его предложения интересные, методы работы тоже
интересные, что отмахиваться от них нельзя, их следует изучить, а не проходить мимо.
Единственно, чего добился Савватеев, и то четырьмя голосами против трех, что Федору Ивановичу
поставили на вид за несвоевременное доведение своих начинаний до сведения горкома, за то, что не все из них
он согласовывал с секретарями горкома.
Федор Иванович ушел с бюро горкома нисколько не огорченный этим “на вид”; он видел совсем другое:
он видел, что трое из семи членов горкома его поддерживают, да и из тех четверых отнюдь не все против него, а
просто они по инерции пошли за Савватеевым. Он думал о том, что уж слишком Савватеев много на себя берет,
слишком он стал важный, важный по должности, а вовсе не по личным качествам и заслугам.
О мелкой натуре Савватеева Федору Ивановичу рассказывал один из инструкторов обкома, который
говорил, что сила инерции пребывания бюрократа на руководящем посту очень велика, ее нарушить трудно, и, к
сожалению, ее обычно нарушают не с низов, а сверху – вышестоящие организации, которые вдруг совершенно
резонно задают вопрос низам: а что же вы там смотрели два, три, четыре года, почему сидели сложа руки и
помалкивали, зная, что вами руководит безобразник. Ну, и ответить нечего. Приходится чесать в затылке да
каяться: вот, дескать, да, близорукость проявили, беспечность и так далее.
Федор Иванович предложил дать товарищу Иванову строгий выговор за поведение на заводе моторных
лодок. Бюро его поддержало, и выговор вынесли единогласно.
Товарищ Иванов поднялся со своего места, медленно и с достоинством дошел до выходной двери, там
повернулся и сказал:
– Хорошо, товарищ Макаров, мы еще посмотрим, кто из нас прав: вы или я.
5
В Олиной жизни случилось нечто не менее страшное, чем смерть мамы. Оля не знала, что думать, что
делать, как поступать. В ее представлении о жизни не было места даже для намеков на что-либо подобное. Так
ужасно закончился день ее рождения. “Папа, что это? Папа?” – спросила она отца, застав его в тот вечер
обнимающим Варю. В этих объятиях Оле чудилось несчастье, беда, катастрофа. Павел Петрович снял руки с
Вариных плеч и обернулся. “Оля? – сказал он несколько растерянно. – Не суди ни о чем поспешно, детка.
Жизнь сложнее, чем о ней думают”. Он прошел мимо Оли, странный, непонятный, чужой. “Что это значит?”
–спросила Оля у Вари. “Это… – ответила Варя, волнуясь. – Это… я люблю твоего отца”. – “Ты?.. Папу?.. —
шепотом вскрикнула Оля. – Неправда! Не может быть!” – “Это правда”, – сказала Варя. “А он? А он?” – все
так же отчаянно шептала Оля. “А он – нет”. – “Но почему же… почему он тебя целовал?” – “Ему меня
жалко. Он пожалел меня. Он ведь очень хороший. Я тебе говорила это тысячу раз”.
Оля бросилась прочь из своей комнаты. Она ворвалась в бывшую мамину комнату, упала на не
троганную много месяцев постель и заплакала, заплакала навзрыд, с криком, с дрожью во всем теле, со стоном.
Пришла Люся, пришел Георгий и привел Виктора Журавлева. Они пытались утешать, расспрашивать – не
помогало. Георгий сказал, что она, наверно, выпила лишнего. Привели Алевтину Иосифовну. Алевтина
Иосифовна нащупала пульс, положила руку на сердце. “Что-то нервное, понервничала, – сказала она. – Надо
бы валерьянки”. Нашли ландышевые капли. Алевтина Иосифовна накапала в рюмку, но Оля оттолкнула рюмку,
она не хотела ни капель, ни утешений. Она не совсем еще ясно понимала, что с ней происходит, отчего это все,
и только позже, ночью, когда уже никого, кроме отца, в доме не было, стала разбираться в своих чувствах и
мыслях. Отец изменил маме, которая и после смерти скрепляла их семью. Костя мог долгие годы пропадать на
границе, она, Оля, могла выйти замуж, у нее могли появиться дети, но семья Колосовых от этого не перестала
бы существовать, ее скрепляла мама, мамина память, все то, что сделала мама для семьи. И вдруг у папы другая
женщина! Это все равно кто – Варя, не Варя, все равно кто, но другая, другая! Разорваны нити, связывающие
семью; их всех – Костю, Олю, папу – уже не объединяет мамина память. С маминой памятью только они одни
– Костя да Оля. Вот когда они окончательно осиротели – когда потеряли и отца, папу, родного папу. Какая же
она оказалась подлая, эта тихая, ласковая Варя Стрельцова, как незаметно вползла она в их дом, как незаметно
обвилась вокруг папы…
Оля, которая так и лежала не раздеваясь на постели Елены Сергеевны, поднялась. Она пойдет и все, все
скажет отцу. Молчать она не будет.
Павел Петрович тоже не спал. Он лежал на диване в кабинете и курил. Рядом с диваном стояла
пепельница, полная окурков. Дым вился под потолком, вокруг настольной лампы, цеплялся за листья олеандра и
филодендрона.
– Почему ты не спишь? – спросил Павел Петрович, увидев Олю в измятом праздничном платье. Оля
стояла возле стола и смотрела на отца с таким ужасом, будто видела его в последний раз, будто прощалась с ним
навсегда.
– Папа, – сказала она, – зачем это все? Папа?
Он не отвечал очень долго. Потом заговорил:
– Я не знаю, какое “зачем” ты имеешь в виду, во-первых. А во-вторых, мне бы не хотелось, не хотелось,
понимаешь, чтобы ты была моим судьей. Ты слишком еще молода для этого. – Отец намекал на то, что
разговаривать с ней он не хочет и что лучше всего будет, если она уйдет.
Она ушла. Как на другой день прошел у нее урок, она даже и не помнила. Девочки в классе решили, что
Ольга Павловна нездорова, что у нее жар. После уроков она отправилась на службу к дяде Васе. Она
рассказывала ему все подряд, трясясь, стуча зубами. Он давал ей попить водички, гладил по голове. Но говорил
совсем-совсем не то, чего ждала от него Оля. Он, родной мамин брат, уж который бы, наверно, должен был…
нет, ничего он не понял, не захотел понимать. Он говорил Оле, что никакого преступления в действиях ее отца
не видит, что она должна трезвее и взрослее смотреть на явления жизни, что человек создан для движения
вперед, а не для воспоминаний о прошлом – для человека значительно естественней думать и заботиться о
будущем, но не о минувшем. И если эта Варя Стрельцова, эта симпатичная девушка, сможет Олиному отцу в
какой-то мере заменить Елену, которую он, конечно, очень любил, если она, эта девушка, сумеет вновь внести в
его жизнь хоть часть той радости, какую вносила Елена, если будет ему другом, помощницей, – то что же здесь
плохого, Оленька? От воспоминаний человек стареет; тот, кто рвется вперед, – всегда молод.
Нет, нет, дядя Вася ничего не понял. Он резонерствовал, он рассуждал. Если он хочет знать, то на
подобные рассуждения способна и она, Оля. Но рассуждать так спокойно можно лишь о том, что не касается
тебя самого. Книжные мысли к собственной жизни применить невозможно. Они правильные, но что от них
толку, если тебя они все равно не убеждают и тебе от них все равно не легче. Дядя Вася еще сказал, что,
напротив, она, Оля, должна быть в это время особенно чуткой и тактичной по отношению к отцу, а то его можно
напрасно обидеть и оскорбить, ни к чему это.
А к чему, спрашивается, ей щадить его и устраивать Варино счастье?
Виктор Журавлев тоже не разделил ее горя, он тоже сказал, что для такого человека, как Павел Петрович,
главное – что? Главное – помогать в его большом труде. А ведь сейчас ему никто из близких не помогает.
Разве вот Оля ему помогает? Нет же.
Никто не понимал Олю, никто ей не сочувствовал. На всем свете оставался у нее – кроме Виктора,
конечно, – один-единственный родной человек. Это Костя, брат, резкий, неласковый, но родной. Оля послала
ему телеграмму с просьбой приехать. Костя ответил, что приехать не может. Тогда Оля сама попросилась
приехать к нему. Он ответил, что пусть приезжает, он ее будет встречать на вокзале пограничного городка, лишь
бы только сообщила о дне приезда. Телеграфный разговор занял шесть часов. Оля договорилась в школе с
другой учительницей истории, чтобы та провела за нее несколько уроков, потом пошла к директору, сказала, что
ей очень нужно съездить к брату на границу. У нее был такой страшный вид, такие заплаканные глаза, что
директор разрешил отпуск на семь дней.
Вечером Виктор Журавлев провожал Олю на поезд. Павла Петровича не было. Оля оставила ему дома
записку. Ей очень хотелось уехать без всяких записок – пусть, мол, поволнуется, попереживает. Но потом она
подумала, что это с ее стороны будет уж совсем низко и подло.
Виктор был грустный; он говорил, что Оля затеяла никому не нужную канитель, что она так портит
жизнь своему отцу, брату, себе и ему, Виктору.
– Ты, кажется, просил меня выйти за тебя замуж? – сказала Оля, стоя на перроне и глядя на стрелку
вокзальных часов.
– Да, просил, прошу и всегда буду просить, – ответил он.
– Ну, так приготовься к тому, что жизнь у тебя будет трудная: у нас всегда будет то, что ты называешь
канителью. У меня плохой характер.
Виктор схватил ее в объятия и принялся целовать. До отхода поезда оставалось еще добрых двадцать
минут, и потому отъезжающих и провожающих, которые стояли возле вагонов, такое заблаговременно начатое
прощанье привело в недоумение.
Через двадцать два часа пути поезд подошел к вокзалу пограничного городка, чистенького,
аккуратненького, уютного. Костя стоял на перроне в шинели и в зеленой фуражке. Милый Костя! Оля думала,
что он, как всегда, грубовато спросит ее: “Как дела? Что надулась?” или еще нечто подобное в его стиле. Но на
этот раз – видимо, и ему было тяжко, бедному Косте, без семьи, без родных – на этот раз, когда она бросилась
к нему, он крепко ее обнял, неуклюже поцеловал в самое ухо и, взяв у нее чемоданчик, повел ее под руку, крепко
прижимая к себе.
За вокзалом, в переулочке, Костя подсадил Олю в зеленый автомобиль-вездеход с брезентовым верхом;
вездеход мчался по лесным дорогам со страшной скоростью, подпрыгивал, подскакивал; пассажиров так мотало
на поворотах, что Оля то и дело хваталась за Костю, чтобы не вылететь на дорогу. Костя расспрашивал Олю о
жизни, Оля рассказывала о школе, о Новгороде, о том, как работается на новом месте отцу. Кое-что было
сказано и о Викторе Журавлеве – главным образом то, как он голой рукой рубит расплавленную сталь.
После часа сумасшедшей езды приехали на заставу. Возле ворот заставы гостью встретили капитан
Изотов, его заместитель по политической части старший лейтенант Андрющенко и несколько солдат. Они
поздоровались с нею, подняв руки к козырькам. Капитан Изотов предложил поесть с дороги. Несколько минут
спустя Оля сидела в кухне. Веселый повар Миша Сомов подал ей кашу с маслом и чай. Капитан Изотов и
старший лейтенант Андрющенко сидели с Олей рядом, просили рассказывать, что нового в ее городе на Ладе,
что нового она увидела по дороге. Оля рассказывала все, что знала, что видела и что слыхала.
Наконец они оказались вдвоем в Костиной комнате.
– Костя, – сказала Оля. – Я приехала, чтобы очень серьезно с тобой посоветоваться. Я тебе сейчас все-
все расскажу. Ты слушай и думай, как нам с тобой быть. У нас плохо в семье, Костя.
Оля долго и подробно рассказывала о Варе, которую Костя видел несколько раз в те времена, когда еще
учился в пограничной школе и когда случайно встречался с ней, приезжая по воскресеньям домой. Оля
пересказала ему весь путь, каким, по ее мнению, Варя проникла в их семью. Она, Оля, ей в этом сама помогала,
да, помогала, помогала и даже пригласила жить у них. И вот что получилось. Рассказывая, Оля сгущала краски,
она изображала дело так, будто бы Варя влюбила в себя Павла Петровича, что она хочет заставить его жениться
на ней, что отец уже плюнул на семью, ему все теперь нипочем.
Они сидели рядом на Костиной койке, на матраце, набитом соломой, и размышляли вслух.
– Ну что ж, – сказал Костя, – все это очень грустно, сестренка. Но мне кажется, что мы должны
простить батьку. Ему очень тяжело. Тяжелей, чем нам. Ты вот нашла себе какого-то орла, ты не сидишь при
папочке, верно? Ты носишься, гуляешь, танцуешь. А ему что же осталось? Его надо понять. Он, сестренка,
моими письмишками да твоими налетами не проживет. Мне его, нашего батьку, если говорить начистоту, очень
и очень жалко.
Оля испуганно посмотрела на Костю: да Костя ли это, ее ли это брат? Что за чепуху он говорит, еще
хуже, чем говорил дядя Вася.
– Ты ничего не понял, – сказала она. – Семья же развалится, Костя!
– А ты не так рассуждай, – снова заговорил Костя. – Ты знаешь как суди: давай эту Варю тоже примем
в семью. Пусть не замена будет в семье, а прибавление. Разве так нельзя?
– Нет! – горячо сказала Оля. – Нет! Сто раз – нет! – Подумав, она сказала: – Пусть бы не папу,
пусть бы тебя она полюбила… Ну зачем папу?
Костя улыбнулся, вытащил из кармана кителя комсомольский билет в красной кожаной обложке, извлек
из-под обложки фотографию и протянул ее Оле. Оля увидела девушку с очень серьезными глазами. Она вернула
карточку Косте и сказала:
– Можешь ничего больше мне не объяснять, не читать никаких моралей. Я все поняла. Я поняла, что
тебе совершенно безразличны мои волнения и переживания, что ты такой же эгоист, как и все, что к тебе
пришло твое счастье, а на остальное – махнем рукой. Разве не так, Костя?
– Конечно, не так.
– Так, Костенька, так! А ведь было когда-то иначе. Помнишь, как мы друг друга выручали в трудных
случаях? Помнишь, как я заступалась за тебя, брала на себя твою вину, зная, что тебе-то, мальчишке, может
влететь, а мне-то, девочке, папа и мама все прощали? Мы были друзьями, Костя.
– Мы и сейчас друзья. И всегда будем друзьями. Не устраивай трагедий.
– Не будем мы друзьями. Ты женишься на ней. У вас заведутся детишки, и прощай мой брат Костя.
– И ты выйдешь замуж. И у тебя заведутся детишки. И прощай моя сестренка?
– Я не такая, – ответила Оля. И ей стало горько оттого, что все пытаются подавить ее логикой, а никто
не хочет понять происходящего в ее душе. – Ладно, – сказала она. – Не поняли друг друга – и не надо. Не
будем об этом больше. Расскажи лучше, как ты тут живешь? Кто эта девушка?
Костя рассказывал о пожаре, о книгах, которые спасал, о Любе – какая она замечательная. Он с ней
встречается в лесу на половине дороги, чтобы каждому было быстрее возвращаться домой – три километра
одному, три другому. Но вот теперь осень, начались дожди, в лесу мокро. А потом начнется зима, – неизвестно,
что будет тогда. В село к Любе он ездил только два раза, а она на заставе не была еще ни разу. Сюда ведь так
запросто ходить нельзя. Даже чтобы привезти родную сестру, и то надо было попросить разрешения у
начальства. Капитан Изотов просил.
Костя показывал Оле усадьбу заставы, коров, собак, галку с подбитым крылом, которая жила в собачнике,
и собаки ее не трогали.
Брат и сестра бродили по осеннему лесу. Тут было невиданное количество брусники, крупной и до того
перезрелой, что сок у нее был вроде квасу, шипучий. На каждом шагу встречались грибы, из-под ног с грохотом
и треском вылетали огромные птицы.
– Какая природа! – сказала Оля. – Пожить бы тут хоть месяц. Все нервы пройдут.
– Не стыдно тебе про нервы! – ответил Костя. – Еще девчонка, а уже нервы. – Оля заметила, что он
изо всех сил старался изображать бывалого пограничника – выдержанного, непреклонного; он даже говорил:
мы, чекисты.
Вечером, по просьбе старшего лейтенанта Андрющенко, Оля рассказывала солдатам и сержантам о
новых открытиях в Новгороде, об истории Руси, о берестяных грамотах. На заставу редко кто заезжал со
стороны и редко кто рассказывал такие интересные истории. Олю готовы были слушать еще и еще, если бы
дежурный не подал команду: отбой. Надо было ложиться спать.
В комнату Кости внесли еще одну узкую железную кровать, положили на нее такой же, как и у него,
соломенный матрац, постелили довольно тонкое одеяльце.
– Холодно будет, – сказала Оля.
– Здесь, сестренка, народ закаленный. Здесь обстановка такая, чтобы не очень-то изнеживаться.
Они легли, как бывало в детстве, на постелях рядом и долго говорили в темноте. Мимо заставы
прогрохотал во мраке поезд, в Костиных окнах страшно задребезжали стекла.
– И ты это терпишь? – удивилась Оля.
– Привык, даже не слышу. Я скорее от шороха проснусь.
Среди ночи Оля, которой было очень холодно под тоненьким одеяльцем, почувствовала, как Костя
накрыл ее еще шубой из белого меха, которую она видела днем в углу на гвозде. Под шубой стало тепло, и Оля
крепко уснула.
Она проснулась от Костиных толчков.
– Оленька, вставай! – говорил Костя, стоя возле ее постели, уже одетый и умытый. От него пахло
улицей. – Ты хотела на границу, Оленька. Только что позвонили: есть разрешение. Вставай, Оленька, я тебе
покажу интересное. Будем поезд пропускать с участниками международного фестиваля, едут на ту сторону,
домой. Молодежь.
Оля потянулась. Наверно, еще было очень рано. В окна розово и студено входил осенний медленный
рассвет. Вылезать из-под шубы не хотелось, но разве можно было упустить такой случай, о котором говорит
Костя!
Костя оставил ей чью-то гимнастерку, чьи-то брюки, резиновые сапоги и вышел. Оля одевалась в
непривычные, непонятные одежды. Когда снова вошел Костя, перед ним был молодой, стройный маленький
солдатик. Костя застегнул ей шинель, помог затянуть пояс: “Так теплее будет, – утро очень холодное”.
Утро и в самом деле было холодное. На пожелтевшей мертвой траве лежала густая студеная роса,
похожая на иней, и даже появившееся над лесом солнце светило холодно, как луна.
На железную дорогу вышли недалеко от полосатых шлагбаумов. Там уже было несколько пограничных
офицеров и сержантов, одетых в комбинезоны.
На той стороне, за шлагбаумами, прохаживались два человека с автоматами на груди. Оля думала, что это
чужие пограничные солдаты. Но Костя сказал, что это не солдаты, а жандармы. Слово было из далекого
прошлого, давным-давно забытое. Оле было трудно поверить и осознать, что она видит живых жандармов, о
которых только читала в книгах.
Костя и Оля стояли на песчаном откосе, когда медленно подошел и остановился перед шлагбаумом поезд
из восьми цельнометаллических новых вагонов. В каждом окне были букеты цветов, из каждого окна
выглядывали девушки и юноши, на ломаном русском языке они кричали пограничникам: “До свидания, дорогие
друзья, до свидания!” – махали платками, руками. Костя тоже помахал рукой. Глядя на него, помахала и Оля. В
одном из вагонов на незнакомом языке пели “Гимн демократической молодежи”.
– Некоторые из них приезжали к нам на Ладу, – сказала Оля, указывая на высунувшихся из окон
молодых иностранцев. – Им показывали наш город. Они, кажется, гостили в Советском Союзе целый месяц.
Косте и Оле было приятно, что молодежь в вагонах поет, радуется, разговаривает. Значит, эти молодые
люди увидели много хорошего, много такого, от чего подымается настроение и хочется смеяться и петь. Оле и
Косте было приятно, что их родная страна так принимала и так провожала гостей – в таких чудесных вагонах,
с таким количеством цветов.
Паровоз дал короткий гудок, поезд пополз к шлагбаумам. В окнах вагонов еще яростнее замелькали
платки, руки, еще громче зазвучало: “До свидания, русские друзья! Желаем счастья! Всего хорошего!”
Пограничники тоже махали руками. Костя сказал:
– Нам счастья желают! У самих бы все обошлось благополучно, и то ладно.
Оля не сразу поняла, что он имел в виду, говоря это Она поняла лишь тогда, когда поезд ушел за
шлагбаумы и остановился метрах в двухстах за границей у низкого перрона пограничной станции той стороны
и когда Костя помог ей подняться на дозорную вышку и дал в руки большой бинокль: на, мол, смотри и
запоминай.
На перроне, возле которого остановился поезд, не было никого, кроме двух десятков жандармов. Оля уже
узнавала их по форме. Молодые люди, вернувшиеся на землю своей родины, весело выходили из вагонов с
полученными при прощании подарками, с цветами в руках. Может быть, им было немножко грустно оттого, что
их не встречают с песнями, с радостными возгласами, к чему они уже привыкли в Советском Союзе, – может
быть, – но все же было и радостно: ведь вот она – родная земля, родная!
Одна из девушек уронила свой букет на асфальт перрона. Жандарм тотчас поддал его ногой, и цветы,
рассыпаясь в воздухе, полетели за деревянный заборчик. Оля вскрикнула от негодования. Видимо, что-то
кричала и та девушка, наскакивая на полицейского. Но полицейский замахнулся на нее рукой. Он, конечно, ее
не ударил, ему бы и не дали это сделать друзья девушки, – они окружили полицейского, кричали на него,
грозили ему. Они, наверно, кричали ему про родную землю, на которую вернулись.
Такие схватки происходили по всему перрону. Оля слышала гул возмущенных голосов. Особенно
выделялись высокие девичьи голоса. Уже не было ни песен, ни смеха.
Оля удивлялась, почему все толпятся на перроне и не расходятся кому куда надо. Потом она увидела, что
всех приехавших, окружив их, как арестантов, полицейские повели в сторону от вокзала.
– Проверят документы, а потом отпустят: езжайте по домам кто как знает, – сказал Костя. – На билет
им денег уж не дадут. Бесплатно никто не повезет. Хорошо, что харчи есть, наши выдали им на станции
Полянка.
Тут только Оля поняла, что имел в виду Костя, говоря: “У самих бы все обошлось благополучно, и то
ладно”. Может быть, одних из них завтра же уволят с работы, другим запретят проживать в столице, за
третьими организуют слежку, а кое-кого и просто арестуют. Родная страна, родная страна, как ты встретила
своих сынов и дочерей!
Оля вернулась на заставу переполненная впечатлениями. Делать ей было тут больше нечего. Костя не
оказался ее единомышленником, она не нашла у него поддержки. Ее отпустили в школе на неделю, но неделя
эта ей не нужна. Она приедет раньше. Она видела, что Костя живет своей границей, своей девушкой Любой и
нечего к нему ни с чем иным вязаться. Она сказала Косте, что хочет уехать в тот же день, пусть он ее отвезет в
город и посадит в поезд. Костя удивился такой спешке, но Оля сказала, что ведь она преподает в школе, а он
разве сам не помнит, что история бывает часто, не меньше двух раз в неделю, – она не может пропускать свои
уроки.
Костя проводил ее в город на тряском вездеходике, снова он был предупредителен и ласков, снова обнял
и поцеловал и долго стоял на перроне, глядя вслед поезду. Уже все расходились, а он все стоял и махал рукой.
Бедный, милый Костя. Может быть, зря она от него уехала так поспешно, ведь ему тут еще труднее, чем ей, еще
более одиноко и грустно длинными темными вечерами. Оля почувствовала слезы на глазах, ей хотелось
выскочить из поезда, вернуться к Косте и провести с ним на границе много-много дней. Но она не выскочила,
она мчалась и мчалась назад, на Ладу, домой. Домой? Как трудно стало произносить это слово.
Олю никто не встречал на вокзале, потому что должен был встречать Виктор Журавлев, но она же сказала
ему, что приедет позже и что о дне приезда предупредит телеграммой.
Она одна приехала с вокзала домой. Дома было холодно и тоскливо, пахло застоявшимся табачным
дымом. В кухне грудами стояла грязная посуда, не мытая со дня празднования Олиного рождения. В коридоре, в
столовой валялись окурки. Ее записка была обронена со стола на пол. Видимо, отец приходил домой поздно,
только переночевать, и ему было совершенно безразлично, что тут творится в доме, что происходит с его
дочерью и жива ли она. Может быть, он проводит время с ней, с ней, с той…
Стало нестерпимо больно. Нет, Оля тут больше не останется, тут, где растоптали мамину память.
Она собрала несколько платьев в чемодан, вошла в кабинет отца, сняла со стены портрет Елены
Сергеевны, положила его поверх платьев и вышла из дому на улицу. Шел меленький осенний дождь, холодный
и противный.
Оля остановилась на тротуаре, раздумывая, что же делать, куда идти? Идти надо, надо, но куда, куда? Она