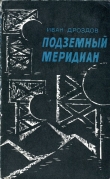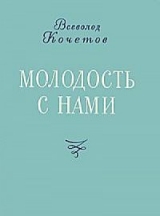
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Бакланов спокойно сказал:
– Во-первых, это говорил не сам Бальзак, а один из его героев. А во-вторых, ни о какой тонкой материи
речи нет. Я позволю напомнить заглавие статьи, которую имеет в виду товарищ Колосов. Статья называлась:
“Толстая, но пустая книга”.
Некоторые из членов совета засмеялись. Был слышен тенорок Румянцева: “Вот теоретик, ну и теоретик!”
– Мне очень приятно, – продолжал Бакланов, – что завязывается такой откровенный разговор. Это у
нас не часто случается.
– Неправда! – крикнула Серафима Антоновна. – Зачем же говорить неправду, Алексей Андреевич?
Мы всегда откровенны.
– В известных пределах, до известных граней, в известных случаях, – ответил Бакланов. – Итак,
повторяю, сегодняшняя откровенность очень приятна.
Он заговорил о тех неполадках, из-за которых лихорадило институт, о случайности многих тем, о их
весьма относительной ценности и для науки и для практики. Красносельцев отнюдь не одинок, устаревшими
проблемами заняты и еще некоторые. Кандидат технических наук Мукосеев вообще года четыре подряд
ухитряется оставаться без темы, и, что делает, чем занимается, одному господу богу известно.
Попросил слова доктор технических наук Малютин. Павел Петрович уже знал биографию этого старика
и с большим уважением смотрел на человека, которому довелось слышать и видеть Ленина, слышать гром
пушек революции, работать со Сталиным и участвовать в создании советской власти.
Малютин не встал, остался сидеть в кресле и заговорил тихо, глядя в окно, поглаживая ладонью белые
усы, как бы вслух размышляя:
– Товарищ Шувалова заявила тут, что Алексей Андреевич Бакланов не прав. Она настаивает на том, что
мы всегда откровенны. Нет, нет. Не всегда мы откровенны. Мы частенько кривим душой там, где надо быть
прямыми. Часто, очень часто прямота нам изменяет, особенно когда надо дать оценку работе товарища. Разве
все наши работы хороши? Нет же. Но разве всегда мы говорим о них то, чего они заслуживают? Разве не жив
еще среди нас принцип – кукушка хвалит петуха за то, что петух хвалит кукушку? Наш институт сильно
оторван от производства, от жизни. Это констатируют и в партийных органах, и в министерстве, и сами мы это
сознаем в конце-то концов. Почему же могла получиться такая оторванность? Потому что наши крупнейшие
авторитеты вроде Кирилла Федоровича Красносельцева слишком затеоретизировались, позабыв о нуждах
производства, под всякими соусами стали внушать коллективу идею служения чистой науке. Авторитеты есть
авторитеты. К ним прислушиваются. Это одна причина. Вторая причина в том, о чем я уже сказал: мы
неоткровенны в оценке работы товарища. У нас принято думать, что если критикуешь работу товарища, то это
значит – выступаешь и против личности самого товарища, хочешь ему зла, ты ему враг. Мы боимся резкости,
мы требуем реверансов и к каждому слову критики требуем длинных предисловий о талантах и заслугах
критикуемого. В итоге действенная горечь критики растворяется в патоке славословия.
– Вы бы хотели выстроить нас всех по ранжиру, – перебил Красносельцев, – да и распекать одного за
другим перед строем. А ты нишкни, руки по швам. Так, что ли?
– Вас еще никто, никогда и нигде не выстраивал и не распекал, – ответил Малютин все тем же
спокойным тоном. – Скорее вы распечете, Кирилл Федорович, чем вас распекут. И вот, – продолжал он, – в
такой обстановке мы пришли к застою. Я тут недавно высказывал сомнение: надо ли нам руководителя со
стороны, разве не можем мы выдвинуть его из нашего коллектива? Товарищ Колосов рассеял мои сомнения. Он
прямой человек, и это очень важно для той ситуации, в какой сейчас оказался институт. С предыдущим
директором было как? Он заигрывал с сотрудниками, завоевывал дешевый авторитет, старался быть хорошим
для всех, призывал к какой-то консолидации во имя тиши, глади да божьей благодати. И вот у него ничего не
вышло. Беритесь, товарищ Колосов, за дело энергичней! Прежде всего дайте свободу критике. Мы вас
поддержим.
– Совершенно точно! – сказал Бакланов.
– Когда закладывается фундамент, то, если в это время спросить обывателя, что делают строители,
обыватель ответит: ничего, забивают какие-то бревна, укладывают в землю камни, а строения никакого не
видно, – заговорил Красносельцев. – Так рассуждают и обыватели при науке, когда ученые разрабатывают
проблемы дальних перспектив, теории различных процессов, физико-химические константы. А ведь это
фундаменты наук! Вы развернете критику, разрушите все созданное нами, сокрушите фундамент и займетесь
прикладными чердаками и мансардами. Чудовищно!
– Это действительно было бы чудовищно, если бы товарищ Красносельцев был прав. Но, к счастью, он
совершенно не прав, – ответил Бакланов. – За разговорами о фундаментах науки у нас частенько скрывается
рутина, нежелание искать и открывать новое. Именно так живете и работаете и вы, уважаемый Кирилл
Федорович.
– Стыдно вам, доктору технических наук, интеллигентному человеку, мыслить так примитивно, так
ходяче, так мелко, Алексей Андреевич! – ответил Красносельцев.
Когда заседание было закрыто, он подошел к Павлу Петровичу и, поблескивая выпуклыми очками,
сказал:
– Значит, поход против меня объявляете, товарищ директор? Не ожидал, не ожидал.
Павел Петрович не успел ответить, Красносельцев вышел из кабинета; всей спиной своей,
выпрямившейся более обычного, он демонстрировал обиду.
Бакланов, уходя, пожал руку и сказал:
– Очень, очень рад был с вами познакомиться.
Дольше всех задержалась Серафима Антоновна. В ее глазах Павел Петрович увидел выражение
некоторого изумления. Она сказала:
– Мне не хотелось сегодня говорить. Во многом правы были и вы, милый Павел Петрович. Но была
правда и у них, у ваших противников. Нам бы надо встретиться. Ну, как вы себя чувствуете?
Павел Петрович понял, что она имеет в виду вчерашнее.
– Хорошо, – ответил он. – Голова болела, да прошла.
Она коснулась его руки:
– Вы сегодня нервничали, не надо нервничать. Надо себя беречь. На каждый чих не наздравствуешься.
У нас народ трудный. Этот Бакланов… Он, конечно, талантлив, но Сталинская премия ему вскружила голову.
Надо быть очень крепким человеком, чтобы почести тебя не погубили. Вот у нас есть еще Ведерников…
– Да, да, я все хочу спросить о нем. Он, кажется, трижды лауреат, но его нигде не слышно и не видно, в
совете он не участвует почему-то.
Как почему-то, Павел Петрович! В свое время он был в совете. Вы, я вижу, ничего, не знаете. Это же
невозможный человек! – Серафима Антоновна поднялась на носки и зашептала в самое ухо Павлу Петровичу
так, что он ощущал прикосновение ее губ: – Он пьяница. Он последнюю рубашку с себя пропивает.
– Да что вы?
– Спросите кого угодно. Кстати, Павел Петрович… Милый, только, пожалуйста, не отказывайтесь, я вас
умоляю, слышите? Борис Владимирович… мой муж… сегодня уходит по своим редакционным делам. А у меня
два билета… Ну будьте так добры, пойдемте. Приезжает московская знаменитость. “Раймонда”. Мой любимый
балет. Не отказывайтесь…
– Нет, нет! – решительно отказался Павел Петрович. – Не могу. И… не хочу, – неожиданно добавил
он. Слишком свежо было в памяти впечатление от вчерашнего вечера, проведенного в доме Серафимы
Антоновны, слишком тяжелым и неприятным было это впечатление.
4
Только тот, кто вернулся бы в эти места после перерыва лет в восемнадцать – двадцать, сумел бы в
полной мере оценить изменения, какие произошли в институте со времени его возникновения. Были когда-то в
парке два домика да кирпичный сарай, в котором размещалась мастерская, было человек двадцать научных
сотрудников, большинство которых работало тут по совместительству, было столько же рабочих – слесарей,
литейщиков и подсобников, стояли в бревенчатой конюшне две лошади – гнедой высокий мерин да рыженькая
с белой гривой и таким же хвостом кобылка. Мерина, поскольку он был красивей и сильней, запрягали в
рессорную пролетку, на которой ездил директор; кобылкина судьба сложилась менее удачно: кобылка была
главной тягловой силой при мастерской, таскала телегу с железными тяжестями, ходила в приводе, когда не
хватало электрического тока и останавливались моторы, возила кирпичи, песок, бревна.
Куда они подевались, эти резвые институтские кони, никто, пожалуй, теперь и не припомнит. На смену
гнедому мерину незаметно пришла вороная “эмка”, а рыжую кобылку вытеснил зеленый грузовичок “газ”.
Вскоре к этому грузовичку прибавился грузовик Ярославского завода, его называли “язь”, а потом пришли сразу
два “зиса”. Тогда же и один из очередных директоров пересел с “эмки” на казавшийся в ту пору красавцем, при
легкости форм необыкновенный, огненно-красный автомобиль “зис-101”.
Парк вытаптывался, в нем появились глубокие котлованы, вокруг котлованов росли груды камня, клетки
кирпича, штабели досок и бревен, пакеты кровельного железа. Все это постепенно превращалось в
фундаменты, в стены, в перекрытия, в крыши – в новые здания. Территорию пришлось обнести бесконечным
забором; народу стало так много, что понадобились табельщицы, понадобились бюро пропусков и проходная
контора – тот домик, которым представлен сейчас институт со стороны улицы.
С началом войны институт вообще было прекратил свою деятельность, но в первой половине тысяча
девятьсот сорок второго года вновь ожил в Сибири. В его прежних помещениях стояли воинские части – то
чьи-то автобаты, то подразделения реактивных минометов, попросту “катюш”, то вдруг въехали сюда склады
военторга. Парк окончательно изуродовали – ископали вдоль и поперек под блиндажи и противоосколочные
щели, завалили банками из-под консервов и старой рухлядью, из которой лезли ржавые пружины и труха,
называемая морской травой.
Когда институт вернулся на Ладу, для сотрудников настала пора сплошных субботников и воскресников,
происходивших в любые дни недели. Об этой поре сотрудники вспоминают и по сей день не без удовольствия.
Это была пора волнующего взлета чувств, знаменовавшего собой переход от войны к мирному труду. Изящные
дамы, надев мужские сапоги и подпоясавшись веревками, охотно таскали носилки с кирпичами; мнительные
мужчины, которые в обычные времена, указывая пальцем на грудь в районе сердца, говаривали: “Шалит”, тут
безропотно орудовали лопатами, чтобы поскорее заровнять уродливые щели и ямы в парке.
Потом правительство отпустило громаднейшую сумму денег для восстановления и реконструкции
института. Развернулось строительство, начались работы по переустройству и оснащению лабораторий,
перепланировали территорию, привели в порядок парк, посадив множество новых деревьев и кустов.
Перед Павлом Петровичем институт предстал уже в виде крупного научно-исследовательского
учреждения, которое располагало всеми средствами для всеобъемлющего изучения природы и обработки
металлов на всех этапах, начиная от выплавки из руды и кончая самыми совершенными методами
электроискрового или анодно-механического резания.
Можно было бы изумляться тем, как великолепно оснащен институт оборудованием, какого отличного
качества это оборудование, Но редко кто изумлялся этим, редко кто выражал восхищение институтскими
материальными богатствами, – разве что директоры в официальных или парадных отчетах.
Удивительно наше общество. Как чуждо ему любование успехами, как не терпит оно этого любования,
как его отвергает! Вот выйдет на трибуну какой-нибудь директор или иной руководитель и начинает хвалиться
делами своего предприятия или учреждения. И то-то хорошо, и это отлично, и выросли-то, и повысили, и
увеличили – идут ослепительные цифры и факты, все великолепно, – а в зале ропот: что, мол, он там
расписывает, кому это надо! Бывает, газеты расшумятся вдруг по поводу успехов того или иного предприятия —
читатели читают и морщатся.
Что это такое – не зависть ли, не досада от того, что сосед тебя обошел? Нет, не зависть, не досада —
любовь к трезвости и деловитости. Всякая шумиха подобна дымовой завесе, которая мешает видеть
перспективы. Любование собственными успехами – тяжелая, разъедающая волю болезнь, и наше общество
всеми силами ей сопротивляется. Там, где возникает излишний шум, общество тотчас настораживает свое
внимание: что случилось, отчего такие восторги? И как часто оказывается, что за неумеренными восторгами
скрываются тяжкие недостатки. Склонность к восторгам всегда сопряжена с однобокостью восприятия
действительности. Восторгаясь одной стороной явления, невольно забываешь о других его сторонах. Ухаживая
только за фасадом, украшая и расписывая только его, можешь дождаться, что тыльную сторону здания подточат
дожди и ветры, съедят жучки-древоточцы, и она рухнет, увлекая за собою и великолепный фасад.
Вот почему, когда на трибуне не славослов-оратор, а человек, который трезво и без треска рассказывает о
том, какими путями он шел и идет к успехам, какие трудности преодолевал на этих путях и как он их
преодолевал, какие трудности еще остались, что мешает движению, – его слушают в глубокой тишине. “Он
наш единомышленник, – так думают слушатели. – Мы идем такими же путями, его опыт нам пригодится,
ошибки, совершенные им, помогут нам не ошибаться, его планы и замыслы будут полезны и нам”.
Вот почему, когда газета печатает материалы острые, когда она, как прожектор, освещает все рифы и топи
на нашем пути, – ее читают; когда она перестает это делать – в нее завертывают.
Оглянешься сейчас на нашу историю – как будто бы время мелькнуло с того часа, когда в невских
волнах вспыхнуло гулкое пламя пушки крейсера “Аврора” и большевистская партия взорвала старый мир, —
что там треть века в сравнении с тысячелетиями человеческой деятельности! Но треть века – это треть века,
это не мгновение, и это время не мелькнуло, на его протяжении выросло несколько новых поколений людей, для
жизни человека это длинное, долгое время, и за это длинное, долгое время партия большевиков, взорвавшая
старый мир, совершила еще одно великое дело – она вырастила новых людей. Эти люди еще далеко не
свободны от привычек, навыков и побуждений, которые складывались веками и тысячелетиями, прошлое еще
цепко держится на наших ногах, но у людей уже возникли привычки, навыки и побуждения, незнакомые
прошлому, новые, которые от года к году берут верх над привычками, навыками, побуждениями прошлого. Идет
суровая борьба, жестокая. Как при всякой борьбе, иной раз противник прорывает фронт, контратакует, собрав
все свои силы, и, что тут говорить, в таком случае победа на какое-то время бывает и не на стороне нового.
Борьба есть борьба. В дни тяжких сражений Отечественной войны мы теряли так много, что казалось, сердце не
выдержит тяжести этих потерь. Мы теряли Киев, Минск, Одессу. Мы теряли Курск, Орел, Харьков. Мы теряли
огромные пространства нашей Родины, мы теряли сотни тысяч наших людей. Невозможно исчислить, как много
мы теряли. А итог этой гигантской борьбы? Мы во много раз крепче, чем были прежде.
Так и в борьбе за нового человека: старое метко и злобно бьет из-за углов, из подполий, подкрадывается
неслышно, маскируясь под новое. И уносит наших людей, вырывает их из наших рядов. Одного оно ввергнет в
воровскую шайку; другого толкнет на путь легких приобретений благ жизни – на путь злоупотребления
должностными возможностями; третий запутается так, что даже станет орудием врагов своей родины;
четвертый примется строить свое благополучие за счет несчастья других, он порочит их, клевещет на них, лишь
бы убрать с дороги, лишь бы очистить ее для себя; пятый – пустоцвет, обманывает всех и вся, лишь бы
доказать свою значительность и приобрести право на то, на что он не имеет никакого права…
Их еще очень и очень много, различных видов и степеней ранений, наносимых нашему обществу силами
умирающего, но не умершего прошлого. Это наши потери, тяжелые потери. А итог борьбы за нового человека?
Он есть, этот человек, он есть уже в каждом из нас. Но, занятые повседневным своим трудом, мы не замечаем
тех глубоких изменений, какие в нас происходят год от году, так же вот, как никто не заметил того, что там, где
когда-то были два домика и кирпичный сарай, возникло крупнейшее научно-исследовательское учреждение.
Всем кажется, что так всегда и было и иначе быть не могло. И то, что наше общество не терпит похвальбы, тоже
черта нового, воспитанная, выросшая с годами.
Что же тут удивительного, что, когда Павел Петрович после ученого совета в течение нескольких дней
ходил по лабораториям и мастерским, никто, ни он сам, ни сотрудники отделов, не говорил ни о каких
достижениях, ни о каких успехах, – разговор был везде и всюду сугубо будничный: что мешает, чего недостает,
что можно и нужно сделать для улучшения работы.
Что же касается самого Павла Петровича, то его особенно-то ничто и не поражало тут и не удивляло.
Знакомясь с оборудованием лабораторий и мастерских, Павел Петрович вспоминал свой цех, – вот там бы
развернуть исследовательскую работу! Вот там оборудование, там возможности! Ему сказали, да он это и сам
уже знал, что некоторая доля работы института так и производится – в цехах заводов, в различных частях
страны; но Павел Петрович знал и то, что в цехах такая работа ведется не постоянно, а наскоками.
Обходя институт, на третьем этаже главного здания в одном из боковых коридоров Павел Петрович
увидел дверь с табличкой: “И. И. Ведерников”. Он уже давно, несколько лет тому назад, слыхал о работах
Ведерникова, читал о нем в газетах, знал, что этот человек трижды получал Сталинскую премию. Несколько
дней назад он, правда, услышал от Серафимы Антоновны еще и иной отзыв о Ведерникове.
Павел Петрович вошел в большую неуютную комнату, в которой были стол, три стула и несгораемый
шкаф. У окна, глядя в парк, стоял седой высокий человек в синем халате. Он медленно обернулся на скрип
двери и сказал:
– Если вы директор, то можно уже и не стучать?
– Прошу извинить. – Павел Петрович искренне смутился. – Как-то так получилось, задумался.
– Что ж, будем знакомы. Ведерников, Иван Иванович.
Павел Петрович пожал протянутую руку и тоже назвался.
– Ну, давайте присядем, – предложил Ведерников, придвигая к столу второй стул. – Пить могу в
любом положении, об этом вас, наверно, уже информировали мои друзья, думаю обычно стоя, а вот
разговаривать люблю сидя. Присаживайтесь.
В остром, сухом его лице, похожем, насколько Павел Петрович помнил иллюстрации к рассказам Конан-
Дойля, на лицо Шерлока Холмса, в серых пристальных глазах все время держалась усмешка умного,
проницательного и желчного человека. Павлу Петровичу трудно было начинать с ним разговор. Ведерников,
видимо, догадался о его затруднениях.
– Знаете, – сказал он в раздумье, – ответьте прямо: вы ханжа или не ханжа?
Павел Петрович даже растерялся, так неожиданен был этот вопрос.
– Видите ли, к чему я это спрашиваю, – объяснил Ведерников. – Если вы ханжа, мы обменяемся
взаимными пустопорожними учтивостями и разойдемся, так друг друга и не узнав. Ну вы что-то такое
спросите, что, мол, мне мешает, чего недостает. Я что-то такое придумаю в ответ, скажу, мол, спасибо за
внимание и буду думать о вас – что бог на душу положит, а вы будете думать обо мне – что там вам наговорят
мои друзья и доброжелатели. Так ханжа вы или не ханжа?
– До сих пор меня в этом не обвиняли, – ответил Павел Петрович, заинтересованный Ведерниковым.
– Прекрасно, – сказал тот и пошел к несгораемому шкафу, с грохотом отомкнул дверцу, потом, подумав,
пошел к двери, защелкнул ее на замок, вернулся к шкафу, достал из него химическую бутыль без этикетки и две
градуированные мензурки, поставил их на стол перед удивленным Павлом Петровичем. Еще достал из шкафа
большую луковицу, соль в маленьком кулечке, кусок черного хлеба; на листе бумаги порезал луковицу
кружочками, утер глаза и только тогда заговорил снова: – Да, я пью. Да, мне без этого трудно. И если вы,
новый директор, хотите знать меня таким, каков я есть, снизойдите и до моих слабостей. Наливаю?.. – Он
поднял бутыль и задержал ее над мензурками, ожидая ответа Павла Петровича.
Павел Петрович в одно мгновение испытал сложный комплекс переживаний. Он не находил никакого
сколько-нибудь удовлетворительного объяснения для такой странной гульбы двух совершенно незнакомых
людей – нового директора института и старого его сотрудника, в рабочем кабинете, в рабочее время, под корку
хлеба и луковицу – по-извозчичьи. Объяснений и оправданий не было, но был какой-то азартный интерес к
Ведерникову, и Павел Петрович сказал с той отчаянной смелостью, с какой первые купальщики бросаются в
ледяную весеннюю воду:
– Наливайте!
Они чокнулись, выпили: оказалось, что в бутыли был слегка разведенный спирт; Павел Петрович с
удовольствием ел лук и черствый хлеб, посыпанный крупной солью, что смутно напоминало ему далекие
времена, юные годы, новостройки и длинные переезды в товарных вагонах.
– Я ни о ком не говорю худо за глаза, – сказал Ведерников, снова наливая в мензурки. – Поэтому не
пытайтесь информироваться у меня о моих коллегах.
– Вот вы свое мнение о них уже и обнародовали, – сказал Павел Петрович, удерживая руку
Ведерникова, когда мензурка была налита до половины.
Ведерников усмехнулся:
– С вами ухо держи востро. В общем леший с ними, с моими коллегами. Поговорим о другом. Вы как
намерены руководить институтом? Будете медленно входить в курс дел, неторопливо осваиваться с обстановкой
или начнете с перестройки? Видите, в чем штука. Если вы изберете первый путь – медленное вхождение и
ознакомление, – поверьте мне, вас постигнет полнейший неуспех. Почему? Вот почему. Вы сейчас влетели в
эту научную цитадель, как раскаленное ядро, стены цитадели от такого удара расселись, связь между
кирпичами ослабла – такое сооружение можно как угодно ломать, рассыпать, перекладывать его компоненты в
любых комбинациях, перестраивать. Сопротивление будет минимальным. А если упустить время, все,
подождав, станет на место, трещины закроются, связи вновь окрепнут, и вы будете замурованы, вам будет не
шевельнуть ни рукой, ни ногой. Поначалу вы приметесь биться в своей клетке, с запозданием пытаясь ее
сломать. А потом привыкнете к неволе, сживетесь с ней. И конченный вы руководитель. Надежд тех, кто вас
сюда послал, вы не оправдаете. Ломайте все! – почти крикнул Ведерников и поднял мензурку. – Не теряйте
времени! Ваше здоровье!
Потом он еще сказал:
– Во мне, правда, вы большой опоры не найдете. Для общественной жизни я малозначительная
величина. Я – туманность. Меня называют иной раз изобретателем. А я не изобретатель. Я ничего не изобрел.
Я даю только идею, идею! Конструкции создают другие. Что мне остается? Сидеть и думать. И меньше всего —
бушевать. Ну как, налить еще? Не хотите. Ладно, понимаю: директор, время рабочее и так далее.
Павлу Петровичу очень хотелось поподробнее расспросить Ведерникова о его семейной жизни, о
причинах, из-за которых он пьет – не без причин же, – но Павел Петрович не решился трогать эти темы с
первого дня знакомства. Ведерников тем временем сказал:
– Ну как вам наш народ? Кто-нибудь вызвал интерес, понравился?
– Да как же, много прекрасных людей, – ответил Павел Петрович автоматически. – Вот, например,
Шувалова или Бакланов.
– Шу-ва-ло-ва. – Подняв глаза кверху, Ведерников как бы прочел эту фамилию по слогам на потолке.
– Да… – И неясно было, что же он хотел сказать этим. – Бакланов? – продолжал Ведерников. – Он бы так
не выпил со мной тут под луковицу. Не-ет. Но я его люблю. Умный.
В дверь громко постучали. Ведерников не торопясь убрал в сейф бутыль, мензурки, остатки лука и хлеба,
отворил дверь. За нею, блестя очками, стоял Красносельцев.
– Можно? – сказал Красносельцев, входя. – Прошу прощения, если помешал, – добавил он, увидев
Павла Петровича. – Ну как, Иван Иванович, твое сердце?
– Не знаю, – глядя в окно, ответил Ведерников. – Меня не вскрывали.
– Видишь ты какой? – Красносельцев улыбнулся, обнажив крупные желтые зубы. – Лежал ведь три
дня. – Он понял, что оказался тут совсем некстати, и сказал: – Я, пожалуй, зайду позже.
– Зайди, – так и не обернувшись к нему, ответил Ведерников. А когда Красносельцев вышел, он сказал
Павлу Петровичу: – Наверно, за поддержкой шел. Блокироваться со мной. Я ведь тоже, по его мнению,
служитель чистой науки.
– А что у вас с сердцем? – спросил Павел Петрович.
– Там что-то, в клапанах. Ерунда.
В этот вечер, выйдя из машины, Павел Петрович увидел во всех окнах своей квартиры свет. Так давно не
бывало. Обычно последнее время окна стояли темные, потому что и Оля возвращалась домой поздно, или
бывал свет в кабинете, где Оля сидела с ногами в кресле. А тут вдруг везде огни.
Павел Петрович быстро поднялся по лестнице, послушал у дверей: в квартире раздавались голоса, что-то
громыхало, будто по полу катали тяжелое, шлепали шаги. Он позвонил. Не открывали так долго, что Павел
Петрович подумал, уж не воры ли, похозяйничав, удирают черной лестницей во двор. Наконец, открыли. Перед
Павлом Петровичем стояла Оля, растрепанная, босая, на лице пятна, будто ее обрызгал проезжий грузовик. По
полу в передней плыли потоки именно такой дорожной мутной воды, которую так любят разбрызгивать
грузовики на прохожих.
– Что такое? – спросил Павел Петрович. – Что у нас происходит?
– У нас происходит генеральная уборка, папочка! Мы заросли с тобой грязью. Это выяснилось только
сегодня, когда пришла Варя.
Павел Петрович увидел Варю. Она стояла в распахнутых дверях столовой, тоже босая, в подоткнутой
юбке, с грязной тряпкой в руках, которая висела до полу.
– Узнаю, – сказал Павел Петрович, – узнаю инициатора этих преобразований. По почерку видно —
работы развернуты всем фронтом. Что ж, здравствуйте, Варя!
– Здравствуйте, Павел Петрович! – крикнула Варя радостно.
– Она совсем пришла, – быстро шепнула Оля. – Мы уже и вещи перетащили. Машину у тебя просить
не стали, все равно не дашь. На трамвае.
– А вот дал бы машину! – с неожиданным задором ответил Павел Петрович. – Что ты из меня какого-
то старого черта строишь!
5
Из кабинета Павла Петровича только что вышел Бакланов. Разговор с ним был долгий и трудный.
Бакланов пришел просить помощи.
– Если так может работать Красносельцев, то так работать не могу я, – сказал он решительно. – Мне
не нужны ни личная слава, ни почести, ни златой телец в завышенных дозах. Я готов делить это все с кем
угодно, если оно вообще будет. Я требую, чтобы по жаропрочным сплавам была создана специальная группа. Я
не могу год за годом в одиночку тянуть эту важнейшую работу со столь мизерным успехом, какой имеется
сейчас. Это не государственно, это не по-хозяйски…
– А что надо, чтобы такая группа появилась? – спросил Павел Петрович.
– Ваша решимость отстоять ее перед министерством – это раз, и люди – это два.
– Предположим, что я полон решимости бороться за вашу группу, Алексей Андреевич. Поговорим о
втором – о людях. Какие вам нужны люди?
– Ну, во-первых, надо, чтобы в группе непременно был крупный специалист по химии металлических
сплавов. Например, Румянцев.
– Румянцев?
– Да, да, именно Румянцев, Григорий Ильич. Хватит ему пустяками заниматься. Он когда-то работал с
хромом, ниобием, молибденом и другими металлами, которые при их высокой температуре плавления должны
стать основой для жаростойких сплавов. Я не химик, я не могу заставить взаимодействовать между собой
семьдесят элементов периодической системы Менделеева, относящихся к металлам. Это может сделать он,
Румянцев.
– Хорошо, – сказал Павел Петрович. – Допустим, мы сумеем договориться с Григорием Ильичом.
Дальше кто?
Бакланов называл фамилии работников, подробно объяснял, почему он выбирает именно этих
товарищей. Павел Петрович отметил для себя, что Бакланов совсем не руководствуется личными симпатиями
или антипатиями, главным для него, очевидно, были деловые качества людей, с которыми он хотел работать.
Вдвоем они составили список, вдвоем они набросали приблизительный план работы группы, наметили,
какое ей понадобится оборудование, какие материалы, подумали о помещении в институте, о заводах, на
которых работу можно было бы повторить и проверить в производственных условиях.
– Удовлетворен, – говорил Бакланов каждый раз, когда они решали очередной вопрос. – Удовлетворен
вполне.
Когда нерешенных вопросов уже не осталось, Павел Петрович спросил:
– А почему раньше вы не могли собрать необходимую вам группу? Народу в институте даже больше,
чем надо, не то что недостаток.
– Во-первых, мешало многотемие. У каждого сотрудника непременно своя тема. Он за нее обеими
руками держится. Есть у него тема – следовательно, и он самостоятельная величина. Работает над темой в
группе – значит плохо, несамостоятелен. Мне, например, два предыдущих директора твердили одно и то же:
зачем, мол, вам, уважаемый Алексей Андреевич, растворяться в группе. Сделайте работу самостоятельно, снова
представим вас к Сталинской премии. И тому, знаете ли, подобное. Все это очень мешало. Ну, во-вторых, какая
помеха? Во-вторых, надо полагать, помеха в той сумме денег, какая требуется на группу. Финансирующие
организации, там, в нашем министерстве, а может быть, даже и в министерстве финансов, пугаются этой
суммы. Они готовы на каждого из нас по отдельности, но зато в три, в четыре, в пять лет израсходовать гораздо
больше денег. А вот сразу отпустить значительную сумму на ударную разработку темы – жмутся. Это, Павел
Петрович, если хотите знать, тоже не по-хозяйски и тоже не по-государственному.
Павел Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Это уже был другой кабинет, не тот мрачный и
длинный, который действовал ему на нервы. Вопреки уговорам Лили Борисовны, он все-таки переехал в эту
значительно меньшую по размерам, зато более светлую и уютную комнату; притом потребовал, чтобы
хозяйственники приобрели новую мебель, он не захотел тех громоздких чернильных приборов и темных штор
на окнах, которые его так удручали. Никакие протесты Лили Борисовны не помогли. Кстати, в приемной Павла
Петровича уже не было и самой Лили Борисовны. Он предложил Лиле Борисовне выбрать себе другое место,
ему неприятно было работать с этой женщиной, которая пережала двенадцать начальников и дождалась
тринадцатого, которая знала все и вся в институте до малейшей сплетни. Лиля Борисовна, кажется, даже и не
обиделась на подобное предложение, во всяком случае и словами, и всем своим видом, и поведением она
продемонстрировала радость, и ее назначили секретарем заместителя директора по хозяйственной части.
Теперь на звонок Павла Петровича в кабинет входила строгая, исполнительная Вера Михайловна Донда.
– Алексей Андреевич, – сказал Павел Петрович, останавливаясь перед Баклановым, который сидел в