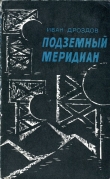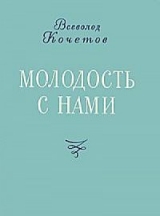
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
первый взгляд лес стоял пустой, мертвый. Костя размечтался, он вспоминал свои первые экскурсии с дедом,
отцом Елены Сергеевны, биологом и ботаником, от которого Елена Сергеевна унаследовала увлечение
биологией. Дед так умел рассказывать и так показывать, что природа перед маленьким Костей раскрывалась,
будто книга, напечатанная большими понятными буквами. Два человека, кроме отца, влияли на Костю в пору
формирования его интересов и увлечений: дед, заставивший полюбить природу, и дядя Вася, который своими
рассказами увлек Костю так, что Костя стал пограничником. Одно другому нисколько не мешает, рассуждал
Костя, граница – это природа; любовь к природе и знание природы только помогают пограничнику в его
службе.
Костя думал об отце, о том, что странно, как это отцовская профессия не увлекла его, Костю? Ведь отец
не меньше, чем дедушка и дядя Вася, любит свое дело, не меньше, чем они, рассказывал дома о своих
металлургических делах. Может быть, потому так получилось, что дед мог разложить перед своими
слушателями гербарии, коллекции бабочек, выставить из шкафа банки с диковинными существами, вывести
слушателей в лес, в поле; дядя Вася рассказывал истории, такие захватывающие, что поинтереснее, пожалуй,
историй Шерлока Холмса; кроме того, он мог показать маузер в деревянной кобуре с кавказской серебряной
насечкой или крошечный пистолетик, который умещался в обыкновенном портсигаре. А что мог показать отец?
Все его дела происходили на заводе, не повезет же он оттуда домой мартеновскую печь или слиток стали тонн в
пятнадцать весом.
Костины размышления были прерваны самым неожиданным и грубым образом. Два незнакомца в
пограничной форме шагнули из-за толстой елки, мимо которой только что прошел Костя, схватили его за локти
и стиснули с двух сторон. Костя рванулся изо всех сил, он опрокинулся назад, пытался хоть одного перебросить
через себя. Но незнакомцы тоже знали приемы борьбы без оружия и на Костины маневры отвечали такими же
умелыми действиями.
– Вот как получается, молодой человек, – услышал Костя знакомый голос, и из-за другой елки вышел
подполковник Сагайдачный. – Предположим, оказались бы тут сейчас не мы, а те… оттуда… – Сагайдачный
сделал жест в сторону границы. – Интересно, как бы вы выглядели. Вот и получилось, товарищ Колосов, что
вы плохо исполнили долг по охране государственной границы своего отечества. Стыдно?
Косте было втройне стыднее от того, что Сагайдачный не разносил его, не повышал голоса, а говорил все
это сухим, строгим, но ровным тоном.
– Будьте знакомы, – сказал Сагайдачный в заключение. – Подполковник Жданов и майор Орлов.
Приехали проверить нас, товарищ Колосов, как мы несем тут службу, как живем, как учимся.
Костя чуть не заплакал: вот так проверили, вот так выяснили, как он несет службу и изучает пограничное
дело! Разве он этого ждал, разве к такому готовился? Чего же они идут-то все молча, пусть бы ругали его, и то
бы легче было.
Вместо того чтобы ругаться, подполковник Жданов заговорил:
– Да, и у меня было аналогичное в такие годы, в такую вот пору пограничной желторотости. Так же
вышел один на южной нашей границе, в Средней Азии. Брожу в прибрежных камнях, разгуливаю. А уж вечер,
смеркается, звездочки вспыхивают в небе. Загляделся на одну, яркую такую, думаю, может, и моя Катенька
вышла на крыльцо, да и тоже смотрит на эту звездочку, вот и встретились наши взгляды в мировых простран -
ствах… Да, смотрю так и вдруг слышу шорох, шаги. Присел за камнями. Идут четверо через речку на нашу
сторону. Силуэты их хорошо видны на фоне воды. В мохнатых шапках. Басмачи, кто же еще? Потом вижу —
еще пятеро. Что делать? Одному с наганом, в котором семь патронов, против девятерых? А ведь главное-то: я
пограничник, я не имею права ни упустить их обратно, ни пропустить к нам.
Подполковник Жданов умолк, видимо, вновь переживая пережитое в ту давнюю ночь.
– И что же было? – не выдержал Костя.
– Что? Оказался шляпой, как и следовало тому быть. Они разбились на две группы. Если я пойду вслед
за одной, потеряю другую. Пустил сигнальную ракету, выдал себя. Они шарахнулись обратно через реку. И
ушли бы все, пока наши скакали с заставы на мой сигнал. Мне ничего не оставалось, как вступить в бой. Двоих
убил, одного ранил… Да, крепко мне тогда всыпали, товарищ Колосов, крепко. А еще крепче засело это все у
меня в памяти. Вот вспомню, и по сей день стыдно.
Костя, конечно, тоже навсегда запомнил, что выходить на границу одному нельзя. Это был его
собственный опыт.
Вторая неприятность произошла у Кости, когда лес и поля уже стояли зеленые, когда вокруг все цвело и
цветочная пыльца желтыми облаками проплывала над полевыми дорогами, над речками, ложилась на воду
душистым туманом; губастые рыбы высовывали большие головы и глотали ее вместе с водой.
Дело было на этот раз не на границе, а на колхозной пашне, возле которой Костя увидел сломанный,
покрытый ржавчиной плуг. Косте пришло в голову попробовать: не пробьет ли пистолетная пуля отвал
плужного лемеха, который изготавливается, как ему было известно, из довольно прочной стали. Костя отошел
шагов на двадцать, вытащил пистолет, прицелился и выстрелил; в лемех он попал и, ободренный успехом,
выстрелил еще и еще.
Все было хорошо, Костя стрелял метко, пистолетная пуля отлично пробивала сталь отвала. Но на границе
поднялась тревога.
Час спустя Костя стоял перед капитаном Изотовым в служебном помещении заставы; капитан Изотов,
нервничая, расхаживал вдоль окон и говорил:
– Подняли в ружье всех, кто отдыхал, кто спал после ночных нарядов, сорвали у людей отдых.
Сообщили в штаб. Теперь штаб ждет наших донесений. Что мы донесем? Лейтенант Колосов развлекался —
это, что ли? Вот и пишите сами донесение и подписывайте его сами, вы мой полноправный заместитель.
Действуйте!
Костя написал такое донесение и подписал…
Нет, не только из волнующей романтики состояла пограничная жизнь. В ней было больше трудовых,
нелегких, суровых будней. Она не давала залеживаться, засиживаться, лениться, она все время будоражила
мысль, держала начеку, волновала. И странно, что именно это и тянуло к ней.
– Кто хлебнул нашей жизни, – говорил как-то капитан Изотов, который в пограничных частях
прослужил уже четырнадцать лет, начав рядовым солдатом, – тот навеки пограничник. Вот возьми меня,
товарищ Колосов. Поеду, бывает, в отпуск, на родину, к родителям, и не удержусь – хоть на неделю, хоть на
пять дней, да раньше срока еду на границу. И в отпуске-то ходишь сам не свой. С первой ночи берут тебя думки:
а как-то там сейчас, на заставе, что ребята делают, спокойно ли?
Обязанностей у Кости была уйма. У пограничников не то, что в войсковых частях. У них совсем иной,
непохожий распорядок дня. В войсковых частях все четко, ясно и просто: во столько-то утра подъем, во столько-
то завтрак, потом занятия, обед, отдых, снова занятия, наконец отбой.
У пограничников круглые сутки уходят наряды на границу, круглые сутки они приходят. Странно
выглядит казарма, где среди белого дня спят на койках солдаты, странно выглядит столовая, где в три или
четыре часа ночи обедают несколько пограничников. И вот при таких условиях Костя должен был каждому
пограничнику спланировать его задачу на каждый завтрашний день. Ежедневно вечером эти задачи объявлялись
личному составу или капитаном Изотовым, или самим Костей.
Вначале Костя путался в этих планах, робел, оказываясь перед строем внимательно слушающих солдат и
сержантов, стеснялся того, что он, сам еще мальчишка, должен отдавать приказы людям, многие из которых
гораздо опытнее его в пограничных делах. Но постепенно привык, освоился, перед строем держался уверенно.
Этот процесс привыкания, вхождения в должность облегчался тем, что на заставе, кроме духа беспрекословного
подчинения младших старшему, существовал еще замечательный дух дружеских отношений. Офицеры
состязались с солдатами в работе на спортивных снарядах, ходили вместе с ними на рыбную ловлю, сидели на
скамейках вечером в цветнике, разбитом посреди двора, и беседовали о семейных делах, о прочитанных книгах,
рассказывали разные случаи из жизни: кто что знал. Дружно пели. Когда Костя раздумывал о своей заставе, она
не умещалась в слово “подразделение”, она была для него значительно шире и воспринималась как большая
семья, спаянная одной общей задачей. Об этой задаче, во имя которой на заставе в лесу со всех концов страны
были собраны советские люди, ни на минуту не давали забыть пирамида в казарме с винтовками и автоматами,
участок земли на дворе, обнесенный заборчиком и с табличкой на заборчике: “Место для заряжания и
разряжания оружия”, и пистолеты на поясах у офицеров.
Дни шли, Костя все меньше и меньше совершал ошибок и промахов. Он уже не только сам знал, что на
границу одному выходить нельзя, что палить в лемехи и в ворон – это такой же стыд, как по тревоге выбежать
в строй, забыв надеть брюки, что шуметь, болтать, курить ночью на границе – это непростительное
мальчишество; помимо того, что это грубые нарушения пограничной службы, это еще и то, что в иной
обстановке называют дурными манерами, неумением вести себя в приличном обществе. По этим дурным
манерам узнают зеленого, начинающего, еще не обтесанного пограничника. Все это Костя уже знал, и сам уже
мог учить этому молодых солдат.
Однажды, обходя участок, он увидел совершенно нетерпимую для границы картину. Повар Сомов,
который тоже, как и любой человек из личного состава пограничного подразделения, каждую неделю несколько
раз выходил на границу, пригрелся на солнышке, привалясь спиной к валуну; он, видимо, размечтался и не
услышал Костиных шагов. На валуне лежали сапоги и сушились портянки другого солдата. Костя знал, что
Сомов ушел в наряд с молодым пареньком Кондрашевым. Оглядевшись, Костя увидел и Кондрашева, – тот
сидел меж кочек в болоте, голова у него была накрыта носовым платком, а в фуражку он что-то собирал. Костя
подозвал его, фуражка была полна клюквы.
От Костиного оклика вскочил и Сомов. Оба они – и Кондрашев и Сомов – стояли перед своим
начальником испуганные, удрученные, готовые на все, лишь бы было не так, а по-другому, как полагается.
Костя видел это. Он вспомнил, как во всех случаях его собственных промахов с ним разговаривали его
начальники – и подполковник Сагайдачный и капитан Изотов.
– Эх, Сомов! – сказал он. – Вам бы на печи сидеть с молодухой да мечтам предаваться. Чудесное
занятие для пограничника!
– Виноват, товарищ лейтенант! На природу загляделся, родные места вспомнил.
– Не ожидал от вас, Сомов, не ожидал, – продолжал Костя, стараясь говорить таким же ровным и
сухим тоном, каким когда-то разговаривал с ним самим подполковник Сагайдачный. – Наоборот, я надеялся,
что вы еще и Кондрашева поучите. Так и в наряд вас назначили: самостоятельный пограничник товарищ Сомов
и с ним молодой пограничник товарищ Кондрашев. Что же вы, товарищ. Кондрашев, клюковки захотели? А
представьте, что бы получилось, если бы на вас, на этакого босого молодца, вроде как пляжника с крымского
курорта, да на заснувшего Сомова нарушители вышли, диверсанты. Разве вы в таком состоянии выполнили бы
как надо свой долг по охране государственной границы Советского Союза?
– Да мы бы, товарищ лейтенант… – загорячился Кондрашев.
Костя понимал, что Кондрашеву в эти минуты очень стыдно, и поэтому считал, что щадить его не надо —
надо на эту рану сыпать соли как можно больше.
– Поздно “мы бы”! – не дал он закончить Кондрашеву. – Поздно, товарищ пограничник. Вы бы глупо
и зря погибли. Не как герои, а как шляпы. Надеть сапоги! – приказал он. – Привести себя обоим в должный
порядок и продолжать нести службу!
Ефрейтор Козлов, который сопровождал Костю, когда они отошли подальше, сказал:
– Будут теперь переживать ребята. Не хотел бы я быть на их месте.
– Я тоже, – сказал Костя.
Выйдя к железной дороге, к полосатым шлагбаумам, возле которых обычно происходила передача
международных поездов, Костя увидел на полотне группу людей, узнал среди них капитана Изотова и
подполковника Сагайдачного. Он знал, что Сагайдачный приехал сюда, чтобы принимать какой-то пакет от
пограничного комиссара соседней страны.
Костя подошел к группе пограничников, поздоровался. Вместе с ними он двинулся к шлагбауму, к
которому с той стороны направлялась группа военных. Подполковник Сагайдачный и пограничный комиссар
той стороны сошлись на нейтральной полосе меж двумя поднятыми шлагбаумами, козырнули друг другу, и
Сагайдачный принял большой конверт с гербами и печатями.
Сагайдачный и пограничный комиссар той стороны снова козырнули друг другу и разошлись.
Шлагбаумы опустились.
Костя впервые присутствовал при подобной церемонии. Ему было очень интересно и очень хотелось
знать, что скрывается в этом конверте, о чем там пишут из-за границы. Он тихонько сказал об этом Изотову. А
Изотов сказал громко:
– Ну что ж, товарищ подполковник нам, наверно, скажет, что там, если нет особых секретов.
На заставе конверт вскрыли, и Сагайдачный прочел:
– Ко мне вчера вечером обратилась сельская жительница такая-то с заявлением о том, что во время
полоскания белья на речке такой-то у нее уплыли кальсоны ее мужа. При визуальном обследовании местности
выяснено нашей стороной, что указанная часть туалета мужа сельской жительницы такой-то зацепилась за
корни прибрежного дерева на вашей стороне в районе пограничного знака номер такой-то. Частную
собственность мужа, сельской жительницы такой-то просим… и так далее. Возвратите, в общем.
– Где эти подштанники? – сказал Изотов Косте. – Кто видел, кто знает?
В казарме нашли рядового Федюшкина, который сказал:
– Верно, чего-то такое в воде болтается, розовое.
– Что ж ты, брат, – пожурил его Сагайдачный, – видишь, что болтается, а не докладываешь?
– Да ведь тряпка.
– Тряпки разные бывают. На границе нет тряпок, на границе всё – предметы, одни непосторонние, а
другие посторонние. О посторонних надо немедленно докладывать.
– Есть, товарищ подполковник, слушаюсь!
– Доставить розовые подштанники сюда! – приказал Изотов.
Пока их разыскивали, Сагайдачный говорил Изотову и Косте:
– Учтите, что, может быть, так проверяют нашу бдительность. За этой тряпкой может приплыть нечто и
более существенное. Надо смотреть зорче, товарищи.
Вечером у шлагбаумов состоялась передача на ту сторону частной собственности сельской жительницы
такой-то. К шлагбаумам послали старшину Лазарева. В порядке воинской дисциплины он нес розовые
подштанники на палке, вперекидку, далеко отставив руку.
Была бы жива Елена Сергеевна, Костя, конечно же, написал бы ей и о том, как его проверили бывалые
пограничники; и об этой истории с тряпкой, приплывшей из-за границы, написал бы в юмористическом духе.
Но Елены Сергеевны, мамы, нет…
Он представил себе отца, занятого институтскими делами, сердитую Ольгу, – и вместо того чтобы сесть
за письмо, позвонил на почту и попросил принять телеграмму в долг. Получилось очень коротко:
“Жив здоров приветом Костя”.
5
Павла Петровича с Баклановым вызвали в Москву, в министерство. Пришлось делать длиннейшие
объяснения к изменениям в тематическом плане. Изменения утвердили. Утвердили тему, предложенную
Ратниковым. Министр сказал, что мысль очень интересная, это правильно, что создается группа, надо поставить
работу так, чтобы в конце концов были подготовлены рекомендации для всех металлургических заводов.
С группой по теме Бакланова произошло осложнение. Павлу Петровичу и Бакланову было сказано,
чтобы они побыли в Москве еще денька два-три. Лицо министра приняло при этом совершенно непроницаемое
выражение. “Погуляйте, погуляйте. Вот так”, – сказал он.
Директор института и его заместитель, конечно, не гуляли. В Москву попадешь – дела тебе там
найдется столько, что к вечеру ноги гудят, валишься на постель в гостиничном номере, даже шевельнуться
трудно. В эти дни составили и согласовали в министерстве список крупнейших заводов страны, с которыми
предстояло заключить долголетние договоры на совместную разработку наиболее важных, актуальных тем;
Павел Петрович это особо подчеркивал в тексте договора, который они составили с Баклановым: именно
долголетние, именно совместная разработка и непременное включение в рабочую группу инженерно-
технических работников из заводских цехов и лабораторий.
В эти дни побывали в институте Академии наук, который занимается проблемами металлургии,
познакомились с новыми работами; Бакланов исписал там довольно толстую тетрадь в коленкоровом переплете.
Павел Петрович поразился скоростью его письма. “Это же стенография, Павел Петрович, – объяснил
Бакланов. – Изучал на досуге. С одной стороны очень удобно. Но есть и крупнейший недостаток. Если сразу
не расшифровать, потом ничего не понять. А далеко не всегда захочется сразу сесть за эту крючкопись. К
счастью, расшифровкой моих записей занимается жена”.
На четвертый день ожидания их снова пригласили к министру, и министр не без торжественности
объявил им, что один из заводов страны по заданию правительства разрабатывает конструкцию мощнейшей
паровой турбины, которая будет рассчитана на давление пара до двухсот атмосфер, на температуру более чем в
шестьсот градусов по Цельсию, то есть на такую температуру, когда металл уже светится. Строителей этой
турбины надо обеспечить сталью большой жаропрочности. Сделать это должны они, коллектив научных
работников института металлов.
– Работа над жаропрочной сталью утверждена правительством, – сказал министр, вставая из-за стола.
– Это для вас правительственное задание. Поздравляю, товарищ Колосов и товарищ Бакланов.
Из кабинета министра вышли возбужденные.
В коридоре Павел Петрович сказал, что, собственно говоря, поздравлять надо прежде всего Бакланова, и
он это делает с особенным удовольствием. Вот ведь как замечательно получилось: тема, которая была в
институте чуть ли не второстепенной, выросла в государственно важное дело.
– Жизнь! – сказал он весело, вспомнив их недавний разговор о диалектике борьбы нового со старым.
Оба засмеялись.
На радостях Павел Петрович поставил перед министром еще один очень важный для института вопрос:
он попросил, чтобы вот так, среди года, институту отпустили несколько миллионов рублей на достройку
начатого еще до войны жилого дома для научных сотрудников. Дом перед войной был доведен до второго этажа
и заброшен. Ни один из руководителей института им впоследствии не интересовался, все считали, что проект
его устарел, фундамент ослаб, кирпичная кладка размокла. Оказалось иначе. Оказалось, что проект требует
самой незначительной переработки, и то касающейся внутренних помещений, что фундамент сложен отлично и
выстоит сотни лет, что кладка тоже достаточно прочна, надо лишь убрать несколько верхних рядов кирпича,
действительно пострадавших от дождей и морозов.
Недели две назад Павел Петрович собственными руками ощупывал эти кирпичи и стучал молотом по
бетонным массивам фундаментов, своими глазами, вместе с инженерами и архитекторами, рассматривал
чертежи и планы дома.
На мысль взяться за достройку этого дома навел Павла Петровича случай с Ведерниковым. После того
как выяснилось, что Ведерников живет в Трухляевке, где ни телефонов, ни водопровода, ни тротуаров, Павел
Петрович решил навестить Ведерникова и разобраться, почему он живет в таких условиях.
Он сказал тогда о своем намерении Ведерникову, но Ведерников ответил, что ездить никуда не надо,
ничего интересного у него нет, что живет он чуть ли не за русской печкой, как сверчок, в комнате, которую
снимает у одной вдовой старушки. Павел Петрович стал допытываться, почему так получилось, и Ведерников в
своей лаконической манере изложил: “Три года назад нам с женой дали отличную квартиру в центре города.
Теперь в ней живут две старухи: моя мать и мать жены. А мы с женой… Старухи рассорили нас. Жена живет в
одной комнате, тоже за городом. Я вот – в другой. Быт. Проклятье”. – “А если переселить ваших старух?” —
“Не уйдут. Они уже заявили: только через их трупы. Это была наша ошибка. Их сразу надо было селить
отдельно. Так нет же, обрадовались: великолепная квартира, создадим условия старушкам. Создали. Какой-то
большой негодяй сказал: бойся первого движения души, оно обычно бывает благородным. Кажется, Талейран”.
Павел Петрович улыбнулся, услышав такое высказывание. Он уже давно заметил, что Ведерникову
доставляло удовольствие казаться хуже, чем он был на самом деле.
О нескладной бытовой истории Ведерникова Павел Петрович рассказал при встрече Федору Ивановичу
Макарову. Тот ответил: “Дружище Павел! Да у меня таких историй сотни! Быт, быт – проклятье, как говорит
твой ученый. У меня есть один парень, у которого из-за этого быта жизнь в двадцать лет разваливается. С женой
и с бывшей невестой под одной крышей вынужден жить. Страшное дело, вдумайся только в него. А куда
денешься? Мы вдвоем с комсомольским секретарем никак не можем решить проблему. Дома надо строить, печь
их как блины, расселять, расселять людей! Каждая семья должна жить отдельно. Сколько нервов сохранится,
здоровья, моральная сторона жизни подымется. Кухонные дрязги, очереди к уборным и прочие красоты
коммунальных квартир унижают человека, портят его, развращают”. – “Не совсем ясно, Федя, – сказал Павел
Петрович, внимательно выслушав длинную тираду. – А вот ведь нас в свое время это все как-то не очень
унижало и развращало. И не скажу, чтобы слишком испортило”. Макаров засмеялся. “Я заметил, ты все меришь
на свой аршин, – ответил он. – Время, дорогой друг, было иное. Мы иной жизни тогда не знали, не видели.
Всем нам жилось туго, тесно, в общежитиях, в углах, где попало. Мы так и считали: разрушили старый мир, на
его развалинах строим новый, живем среди обломков во имя того, чтобы со временем, все вынеся и
перестрадав, войти в созданные собственными руками дворцы. Вот и настала пора, когда дворцов охота”. —
“Ну как так иной жизни не видели! – возразил Павел Петрович. – Видели мы ее вокруг. Видели нэпманов,
видели представителей старой интеллигенции…” – “Нэпманы! – снова засмеялся Макаров. – Сказал тоже,
Павел! Это же были недобитки. Ты что, согласился бы в ту пору жить как нэпман?” Засмеялся и Павел
Петрович: “Да, верно, первый раз помню, галстук надел – и то шел по улице, озирался по сторонам: не
показывают ли на меня пальцем”.
После этого разговора с Макаровым Павел Петрович и решил во что бы то ни стало достроить дом для
сотрудников института.
У Павла Петровича совершенно отсутствовали какие-либо дипломатические способности в их
житейском понимании. Он не умел ни хитрить, ни ходить окольными путями, ни говорить одно, а думать
другое. Елена Сергеевна, случалось прежде, укоряла его: “Павлик, ну разве можно так вот все сплеча, открыто,
в глаза, что вздумается? С людьми надо мягче, осторожней, с ними надо уметь ладить. Посмотри на Сергея
Леонтьевича…” На Сергея Леонтьевича, нашумевшего металлурга, который “умел ладить с людьми” и через
это преуспевал, Павел Петрович не смотрел. И все равно, хотя и с большими трудами и значительно медленнее,
чем у Сергея Леонтьевича, у Павла Петровича образовался свой вес в металлургии, свой авторитет. Елена
Сергеевна махнула рукой на его “неумение ладить с людьми” и больше не пыталась перевоспитывать, напротив
того, к ней самой перешли от него прямота и откровенность.
Так вот: не обладая никакими дипломатическими способностями, Павел Петрович вновь появился перед
начальником главка, затем перед министром. Просто, как за домашним столом, излагал он им свои доводы и
соображения, в полной уверенности, что его понимают, что с ним одинаково мыслят и разделяют его
убеждения. И так как все требования его были трезвы и действительно продиктованы необходимостью, то и в
самом деле его понимали, с ним мыслили одинаково и ему не отказывали.
Словом, Павел Петрович и Бакланов за эту поездку в Москву сумели добиться для института столько,
сколько не добились прежние руководители за много лет.
На Ладу они возвратились, переполненные впечатлениями, планами, замыслами. Павел Петрович тотчас
пригласил к себе Мелентьева, сказал, что надо бы подготовить партийное собрание, на котором руководство
института доложит об изменениях в плане, о правительственном задании, обо всем новом, произошедшем в
институте за последнее время. Бакланов с удвоенной энергией принялся комплектовать группу, в которую
должны были войти несколько десятков сотрудников.
Теплым летним днем сидели в кабинете у Павла Петровича при распахнутых окнах, в парке радостно
пели птицы, смеялись какие-то девушки, наверно молоденькие лаборантки. Шелестели под легким ветерком
старые липы, солнце пробивалось сквозь их листву в кабинет, и от этого на хорошо натертом паркете было
будто на реке в солнечную погоду.
Одно из кресел перед столом занимал Бакланов, другое, напротив – Румянцев.
– Придется вам, Григорий Ильич, поработать рука об руку с Алексеем Андреевичем, – говорил Павел
Петрович, крутя в пальцах цветной карандаш. – В группе вы будете заместителем Алексея Андреевича. Трудно
придется. Ведь Алексей Андреевич должен действовать на два фронта: и группой руководить и обо всей
научной работе института не забывать. Так что, если говорить начистоту, основная тяжесть в группе ляжет на
ваши плечи.
– Робею, – ответил Румянцев, разводя руками.
– Ну, если дело только в робости, это еще не страшно, это полбеды. Робость преодолима.
Павел Петрович смотрел на Румянцева, и вспоминалась ему злосчастная вечеринка у Шуваловой. Ведь
это же он, именно Румянцев, затеял там карточную игру, напевал какую-то чепуху: “Возьмем четыре взятки,
обгоним остальных”, бренчал на пианино. Ведь это же он, Румянцев, молчит на ученом совете, уклоняется от
обсуждения острых вопросов; ведь это же о Румянцеве говорят, что он стал обывателем, дачником, ушел от
общественной жизни института. Понятно, почему Бакланов требует его к себе в группу: Румянцев, как
специалист в области химии металлических сплавов, – большая сила. Но почему Алексею Андреевичу пришла
в голову фантазия сделать Румянцева своим заместителем, это Павел Петрович представлял себе не совсем
ясно. Действительно же, товарищ излишне робкий. Больше тянется к преподавательской деятельности, чем к
исследовательской.
– Любой из нас робеет, принимаясь за новое дело, – добавил Павел Петрович, разглядывая большое,
добродушное лицо Румянцева.
– Все понимаю, а вот робею, Павел Петрович. Робею, да и только, – повторил Румянцев.
– Будем твою робость, Григорий Ильич, преодолевать вместе, – сказал Бакланов. – Помнится мне
такое время, когда ты был смелее.
– Укатали сивку крутые горки! – Румянцев, опустив голову, обеими руками погладил себя по коленям.
– Словом, за работу! – завершил разговор Павел Петрович.
Румянцев вышел. Едва закрылась за ним дверь, в нее тотчас вошла Вера Михайловна Донда.
– Павел Петрович, – сказала она, – приехали два товарища с Верхне-Озерского завода.
– Просите. – Павел Петрович встал из-за стола, пошел навстречу приезжим.
Оказалось, что один из них – главный металлург Верхне-Озерского завода Лосев, а второй – инженер
заводской лаборатории Калинкин. Фамилию Лосев Павел Петрович слыхал неоднократно. Он пригласил гостей
в кресла. Бакланов хотел было уйти из кабинета, Павел Петрович попросил его остаться и представил гостям.
– Принимаете вы нас, товарищи, как дорогих гостей, – сказал Лосев без улыбки. – А ведь мы к вам
ругаться приехали, и крепко ругаться. Вот будьте любезны ознакомиться с этими документами. – Он принялся
извлекать из портфеля листы желтоватой бумаги. Павел Петрович узнал бумагу, на которой писались все работы
в институте. Потом Лосев достал из своего объемистого портфеля синюю папку. – Начните с нее, – добавил
Лосев. – Будем следовать по хронологической линии.
Павел Петрович раскрыл папку. Лосев и Калинкин вынули из карманов трубки – видимо, у них на
заводе завелась такая мода: курить трубки, – принялись их набивать и раскуривать. Бакланов подсел к Павлу
Петровичу, и они вдвоем листали бумаги, подшитые в папке.
Минут пятнадцать – двадцать спустя Павел Петрович сказал:
– Из-за чего же мы будем ругаться? Насколько я понял, вы на заводе разработали и применили очень
интересный, оригинальный, экономически эффективный, новый, свой собственный метод разливки стали.
Можно вас только поздравить. Думаю, что и мы, наш институт, заинтересуемся вашей работой.
Лосев выслушал его не перебивая, затем затянулся, выпустил густое облако дыма и ответил:
– Уже заинтересовались. Об этом и разговор. Вот, пожалуйста! – Он разложил перед Павлом
Петровичем желтые листы институтской бумаги.
На восьмидесяти страницах тут шло несколько иначе изложенное, снабженное таблицами и графиками,
множеством цифровых выкладок, фотографиями и рисунками описание этого же, разработанного на заводе
метода разливки стали. Но последняя страница в синей папке была подписана Лосевым и Калинкиным, а
последний желтый лист заканчивался так: “Работа проведена доктором технических наук профессором С. А.
Шуваловой. Институт металлов”.
– Шувалова? – Павел Петрович посмотрел на Бакланова. – Что это значит, Алексей Андреевич?
Бакланов пожал плечами. А Лосев сказал:
– Вот и мы хотим знать, что это значит? Взяли нашу работу, выдали ее за свою, прислали нам обратно и
еще в довершение ко всему… вот вам счета, полюбуйтесь!.. требуете с нас за какое-то внедрение сто
восемьдесят тысяч рублей. Это же неслыханно!
История оказалась действительно неслыханной.
– Что же делать? Как быть? – спросил Павел Петрович, когда представители Верхне-Озерского завода
ушли.
– Не знаю, – ответил Бакланов. – Затрудняюсь… Беспрецедентно. Никогда не сталкивался ни с чем
подобным. Думаю, что надо прежде всего спросить у самой Серафимы Антоновны, как это получилось. А
впрочем, не знаю, не знаю. Может быть, еще с Мелентьевым посоветоваться?
Пригласили Мелентьева. Заводскую папку, желтые листы, подписанные Шуваловой, счета института
разложили перед ним, рассказали о разговоре с Лосевым и Калинкиным. Мелентьев посмотрел в бумаги ясными
голубыми глазами, сказал:
– Во-первых, почему мы должны верить представителям завода и не верить своему ведущему
работнику?
– Так ведь вот документы… – сказал Бакланов.
– Во-вторых, – не обратив внимания на его слова, продолжал Мелентьев, – даже если товарищ
Шувалова и опиралась как-то на опыт завода, не вижу в этом ничего предосудительного.
– Она его выдала за свой, – снова вставил Бакланов.
– В-третьих, – продолжал Мелентьев невозмутимо, – если и случился такой грех: выдала за свой, —
то можем ли мы допустить, чтобы кто-то из-за случайной ошибки шельмовал ведущую ученую. Это будет на