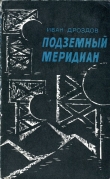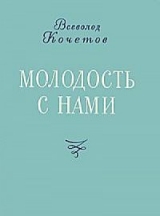
Текст книги "Молодость с нами"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
на землю.
Он постоял, постоял и оказал:
– Никогда я сюда больше не приду.
До самой гостиницы он шел молча. Оля взяла его под руку. Он почувствовал это, взглянул на нее, понял
движение ее души и улыбнулся, как бы говоря: спасибо. Оля подумала о том, что у этого художника и у ее отца
Павла Петровича есть общая черта: они. любят вспоминать свое детство, свою молодость. Но вспоминают не
ради воспоминаний, а чтобы сравнивать – вот так было, так стало. Многое, мол, из того, о чем мы мечтали в
комсомольцах, достигнуто и даже превзойдено. Мечтайте и вы, и чтобы через двадцать лет мечты ваши
осуществились! Живите так, чтобы их осуществить. У нас, стариков, фантазии уже не хватает. Павел Петрович
любил пококетничать, сказать о себе: “старик”, прекрасно зная, что сам еще совсем молодой. Художник тоже
упомянул свой якобы солидный возраст, но глаза у него при этом сверкнули как у мальчишки.
В гостинице договорились, что отдохнут часик-полтора, а потом снова встретятся и снова отправятся
питаться. Варя и Оля пошли в свой номер; художник, спохватившись, сказал, что ему надо идти за автомобилем,
с утра покинутым возле ресторанчика.
Но едва Варя и Оля надели на ноги домашние туфли, как раздался стук в дверь, и вошел он, беспокойный
художник.
– Милые девушки! – сказал он. – Ведь кто-то из вас историк?
– Я, – ответила Оля.
– Отыскал вам такого человека, что всю жизнь будете мне благодарны. Ведь в Новгороде ведутся
археологические раскопки. Блестящие результаты! Вот мой хороший знакомый тут тоже занимается
раскопками. Да вы, наверно, его знаете? – Он назвал фамилию известного Оле московского историка.
– Познакомьте! – закричала Оля.
– Мне необходимо было принципиальное желание, – сказал художник. – Если желание есть, то
знакомство состоится вечером. Он сейчас отправился копать дальше. На днях они сделали феноменальные
находки… Ну ладно, до вечера!..
Вечером художник повел Варю и Олю в соседний номер. Там их встретил старик лет семидесяти,
довольно бодрый и румяный.
– Здравствуйте, – сказал он, – здравствуйте! Садитесь. Будем пить чай, закусывать. Мой друг хотел
вас волочить в харчевню. Я не позволю. У меня есть пития и яства в достаточном количестве.
На столе появились различные консервы, историк извлекал их из книжного шкафа, заменявшего в номере
платяной, появилась запеченная баранья нога, масло, сахар и два лимона. В довершение всего горничная внесла
шумевший медный самовар. Давно, давно не пила Оля чай из самовара; с тех пор, как не стало мамы, не стали
греть самовар.
Наливая чай в чашки и стаканы, историк говорил:
– Насколько я понял из сообщения моего друга, одна из вас, мои юные девы, работает над диссертацией,
так оказать будущий кандидат исторических наук, наша, так сказать, смена.
Варя, увидев, что историк упорно смотрит на нее и, наверно, ее считает своей сменой, поспешила указать
на Олю:
– Это она.
– Какова же тема вашей работы? – спросил историк Олю.
Оля стала рассказывать, что темой она выбрала общественные отношения в древней Руси, что она уже
перечитала множество книг, что план диссертации еще не составлен, что еще надо сдавать предметы по
кандидатскому минимуму – марксизм-ленинизм, английский язык…
– Понятно, понятно, – историк кивал головой. – Мне нравится уже то, что вы говорите: работаю над
диссертацией. Это хорошо. А то ведь появился такой терминчик: писать диссертацию, пишу, писал, написал.
Тонкая деталь! Диссертации, да, да, да, стали именно писать. Так сказать, списывать с книг, без
самостоятельного глубокого исследования, исследуя лишь цитаты других авторов. Вот это безобразие, вот это
позор! Нет, милые мои, вы сами покопайтесь в земле, поковыряйтесь в болотах, в курганах, в собственных
руках подержите историю, а тогда “пишите”. Вот так! К нам тащат этих писаных диссертаций горы. Была у нас
однажды, называлась: “Архитектура дагестанской сакли первой половины XIX столетия”. Ну какая
архитектура! Четыре стены и плоская крыша. А вот в кандидаты наук через эту крышу гражданин пробивается.
– А в одном институте, у нас в Ленинграде, как мне рассказывали, – вставил художник, – есть один
пастырь юного поколения, который стал кандидатом наук через такой труд: “Исследования грунтов беговых
спортивных дорожек”. Клянусь, не вру!
– Верно, верно! – подхватил историк. – Что бы взять да тиснуть статеечку насчет этих грунтов в
спортивный журнальчик, получить гонорар и тем быть вполне довольным, ан нет, хочу в кандидаты наук. Я вот
вам расскажу историйку. Во время войны мне пришлось жить в одном приволжском селе. Баня там была такая,
знаете, с каменкой, с полком, с вениками. Понравились мне пар и веники. Бодрят. Нахлещешься веником,
выйдешь – орел-орлом, все недуги долой. Размышлял: с чего бы такое магическое действие? Вот возвратился
из этой сельской жизни после войны, поехал в командировку в Ленинград, зашел в Публичную библиотеку, у
меня там знакомая в научном зале. Тары-бары, растабары, как жизнь, то, се. Повернулся разговор так, что я
спросил, нет ли у них печатных источников по вопросам этих веников, которые мне так полюбились.
“Посмотрим, – сказала моя знакомая. – Сформулируйте тему, составим вам библиографию”. Что-то такое
сформулировал, вроде влияния на организм механических раздражений березовыми ветвями во время парения в
народных банях. Постарался формулировать понаучнее. Ну и забыл об этом, конечно. Приезжаю в Ленинград,
тут уж, совсем недавно, минувшей зимой. Моя знакомая и говорит: “Что это вы, дорогой мой, скрылись? Вам
полная библиография приготовлена”. Какая такая библиография? С трудом вспомнил. И что вы думаете? По
вопросу механического раздражения организма во время парения в народных банях оказалось больше тридцати
источников! Среди них три диссертации! Где-то, понимаете ли, бродят научные кандидаты по веникам.
Все посмеялись над этой историей.
– К сожалению, – сказал художник, – вы во многом правы. Расплодилось немало очень слабых, но
крепко дипломированных ученых. Мне рассказывали об одном, видимо очень неглупом человеке, не имеющем,
правда, высшего образования, который после войны написал для других четыре диссертации, за известную,
конечно, мзду. Это стало его основной профессией.
– Позвольте! – сказал, смеясь, историк. – Кандидатов в кандидаты с подобными липовыми
сочинениями мы иной раз режем беспощадно. У нас был такой. Он уже и банкетик заказал в ресторане
“Арагви”. Потратился. С защиты надо было прямо за стол ехать. Казалось бы, чего тут влезать в тонкости,
воспреем для виду, да и к закускам! Нет, отклонили притязания юноши средних лет. Затраты на шашлыки да на
грузинское номер три не оправдались. У него, помню, тема была такая: “Из истории крестьянских волнений
1905-1906 годов в Тамбовской губернии”. Дело в том, что знающие люди это сочинение сличили с сочинением
другого диссертанта на тему: “Из истории крестьянских волнений 1905-1906 годов в Орловской губернии” и
третьего – на тему: “Из истории крестьянских волнений 1905-1906 годов в Саратовской губернии” и не нашли
заметной разницы между ними, разве лишь названия губерний да названия помещичьих имений, сожженных
крестьянами, были иные. Вот так. Говорю я вам это, юные мои деятели исторической науки, совсем не для того,
чтобы вас запугать. А для того, чтобы вы поняли: работать надо, самим работать, долго работать, упорно, а
перетасовка различных цитат, даже самая хитроумная, еще не сделает из вас ученых. Такой перетасовочный
метод я называю рояльным. Он заключается в том, что стригут цитаты и затем раскладывают их на крышке
рояля. Почему на крышке рояля? Потому что обычно это самая обширная плоскость в доме. Вот разлόжите и
смόтрите, куда какую цитату поместить, в каком порядке. После этого остается только выдумать связки для
цитат, а дальше отдаете в перепечатку, переплетаете в красный или зеленый дерматин– чик… Получается у нас
сейчас так, что присуждение ученой степени превратилось в некий экзамен. Его случайно может выдержать и
плохой ученик. Нет, милые мои, надо, чтобы присуждением степени по логике событий венчалось свершение
общепризнанного важного творческого акта в науке, в технике, в производстве. Вот так!
– Боюсь, как бы таким разговором мы не отбили у наших гостий охоту к науке, – сказал художник.
– Ничего, завтра мы им такое покажем, – сказал весело историк, – что потом их от науки клещами не
оторвешь. Мы тут кое-что такое нашли, из чего может вырасти – и вырастет – новая, неведомая доселе наука.
5
Наутро после чаепития в номере у старого историка Варя, Оля и художник отправились со стариком к
месту раскопок.
Варя уже в восемь часов позвонила в больницу, ей сказали, что отец ее чувствует себя вполне
удовлетворительно, что в три часа дня она может приходить, ее пустят в палату, поэтому она шла вместе со
всеми и чувствовала, как освобождается от страшной тревоги, которая мучила ее с того часа, когда пришла
телеграмма, – с души сползала гнетущая тяжесть.
По дороге историк говорил:
– Много существовало всякой болтовни о том, что русский народ был еще непроходимо сер в то время,
когда на Западе культура находилась в полном цветении. Здешние раскопки бесповоротно опровергают эти
измышления. Здесь удивительные возможности для археологов. Известно, что дерево и деревянные изделия
отлично сохраняются в земле в двух случаях: когда в почве очень сухо и когда очень сыро, то есть когда они в
воде, без доступа воздуха. В новгородских почвах очень сыро, тут дерево совершенно не гниет. В Новгороде под
землей лежат неразрушенными целые деревянные замощения древних улиц, остатки площадей, домов,
хозяйственных сооружений, колодцев, дренажная система, так называемые водоотводы, трубы для которых
изготавливались из половинок древесных стволов. Сначала в них выдалбливались желоба, затем они
складывались. Ну, в общем, многое вы увидите сейчас сами.
Все вчетвером подошли к раскопу, который охватывал довольно большую площадь и углубился в землю
уже больше чем на два человеческих роста. Работой тут было занято человек двадцать. Одни осторожно копали
землю, другие извлекали из нее найденные предметы, фотографировали их, зарисовывали. Оле было очень
интересно. Видя, что она больше других заинтересована работами на раскопке, историк обращался теперь
исключительно к ней.
– Вот смотрите на эти плахи, – говорил он, – они положены одна на другую и подогнаны одна к
другой. Это же мостовая! Новгородская деревянная мостовая. Мы тут насчитали двадцать пять настилов, они
относятся к периоду с десятого по пятнадцатый век. Следовательно, простая арифметика показывает, что за
пятьсот лет улица настилалась заново не менее двадцати пяти раз; причем старый настил не снимался, а на него
накладывался новый. Город был замощен сплошь. Нет ни одной улицы, на которой мы бы вели раскопки и
чтобы на ней не было настилов. Видите, дорогая моя коллега, мостовые имели ширину от трех до четырех, а на
главных улицах и до шести метров.
Оля смотрела на эти древние, очищенные от земли мостовые, которые сохранились так, будто бы они
были уложены не тысячу лет назад, а два года или от силы пять лет. Они были чистенькие, словно их только
сейчас вымели метлой и поскребли скребочком. По Олиной спине вновь шел холодок от сознания того, что она
стоит лицом к лицу перед древними временами, когда по этим мостовым катились колеса телег новгородских
купцов или цокали копыта боевых дружин, когда по ним шли молодцы с голубыми глазами и курчавыми
светлыми бородками и румяные молодицы несли ведра на коромыслах.
Историк водил Олю по раскопу. Варя с художником отстали, они сели на одну из древних плах и о чем-то
оживленно беседовали. Оба они были новгородцами и, наверно, вспоминали детские годы. Оля вскоре позабыла
о них, ее все больше захватывали рассказы историка.
– Милая моя, учтите, – говорил он, – мы полностью сокрушим теорию о том, что в древности
грамотность у русских людей была исключительно достоянием верхушки, что только верхушка, мол, и жаждала
образования. Вот, например, смотрите, – он подвел ее к навесу, под которым в земле обнажились венцы
древнего сруба, – видите, на этом бревне древнерусская цифра “А”, вырубленная топором? Это, как вам
известно, тогдашняя единица. Что же все это значит? Это значит, что сруб перевозили с места на место, и чтобы
не перепутать венцы, плотник – грамотный плотник! – пометил их цифрами. Несколько лет назад мы нашли
женскую сапожную колодку, она была помечена именем заказчицы – “Мнези”. Затем была найдена бочка с
надписью на крышке “мнь” или “мень”, что значит “налим”. Значит, была и грамотная хозяйка, которая
пометила бочку с налимами, чтобы не перепутать ее с другими бочками.
Историк достал из кармана бумажный пакетик. Оля ожидала, что там скрыто нечто крайне
необыкновенное. Но в пакетике оказались зеленые, красные, синие, желтые и изрядно слипшиеся леденцы.
Историк взял было один из них в рот, спохватился – предложил Оле. Оля из вежливости тоже взяла. Они так
стояли несколько минут посреди раскопа, вгрызающегося в тайны новгородского тысячелетия, и чмокали
губами. Оля думала: какой он счастливый, этот седенький, бодрый, румяный человек. Он видит сквозь землю,
сквозь каменные стены, сквозь время. Это зрение далось ему долгими годами труда, многолетним опытом. Ну
что, в самом деле, она, копошащаяся в книгах, написанных вот такими людьми? Ведь он совершенно прав, она
только надергает цитат для своей диссертации. Ей стало стыдно за ту диссертацию, которую она готовилась
писать, именно писать. Она представила себе, как вынесет свою работу на суд таких вот, умудренных опытом
специалистов, а они, делая вид, что относятся к этой диссертации всерьез, поговорят каждый по нескольку
минут, щегольнут терминами, чтобы было более наукообразно, потом меж собой посмеются: что, мол,
поделаешь, жалко цыпленочка, желторотенькая такая, раскритикуешь – расплачется, ну пусть кандидатствует,
не жалко.
– Ну, а теперь, – прервал ее горькие думы историк, – пойдемте к одному очень симпатичному
товарищу и там увидим нечто. Вам известно, конечно, – говорил он по дороге, – что основным материалом
для древней письменности было… Ну что? Пергамент! Он изготовлялся из телячьей кожи. В четырнадцатом
веке появилась бумага. Пергамент чем плох? Тем, что хотя в земле он сохраняется и хорошо, но ведь на нем
можно писать только чернилами, а чернила во влажной почве наших городов сохраниться не могут.
Следовательно, с пергаментом далеко не все в порядке. Однако есть свидетельство и того, что, кроме
пергамента, для письма употреблялся еще один интересный материал.
Историк привел Олю в помещение, где работал реставратор. На столе перед реставратором лежало
несколько берестяных трубочек, таких, какие получаются, если бересту содрать с дерева или с полена. Только
если бересту драть с дерева или с полена – она светлая, свежая. А тут она была старая, потемневшая,
потрескавшаяся.
Реставратор тщательно промыл одну из таких трубочек в горячей воде, от которой шел пар, при этом он
пояснил Оле, что в воде растворена сода, потом бережно расправил свиток и плотно зажал между двумя
толстыми стеклами.
– Итак, это девятая по счету! – сказал он, вставая.
– Так мало? – удивилась Оля. Она удивилась, потому что на раскопе видела целые вороха берестяных
свитков. Она сказала об этом историку.
– Дорогой друг! – засмеялся он. – Верно, мы нашли их тысячи. Но это были поплавки для рыбацких
сетей. По внешнему виду они ничем не отличаются от древних писем. На сотни поплавков мы находим только
один исписанный свиток. – Он кинул в рот зеленый леденчик, задумчиво посмаковал его. – Ну так, —
заговорил он другим тоном, – пока грамота номер девять подсыхает, давайте посмотрим несколько
предыдущих. – Историк взял со стола реставратора большие фотоснимки берестяных грамот, которые были
найдены ранее сегодняшних. Оля увидела, что все они испещрены древними славянскими буквами, которые,
как ей казалось, она знала вполне прилично. – Писалось это все, – говорил историк, – на наше великое
счастье, отнюдь не чернилами, а вот такими стержнями. – Он показал острую костяную иглу. – Ну
попробуйте прочесть, – предложил он Оле. – Это грамота номер три, по форме букв и по залеганию в слоях
земли она относится к четырнадцатому веку. Кое-что тут оторвано, но прочесть можно. Читайте же!
Запинаясь, умолкая в растерянности, с непременной помощью историка, Оля принялась читать вслух:
“Поклон от Грикши к Есифу. Прислав Онанья мол… Яз ему отвечал: не рекл ми Есиф варити перевары
ни на кого. Он прислал к Федось: вари ты пив, седишь на безатьщине, не варишь жита”.
– Учтите, это первое в истории науки древнерусское частное письмо! – Историк даже снял с головы
серенькую кепочку. – Первое! Так о чем же тут речь? Видите: и прочесть трудно. Его читали коллективно. А
перевести на современный язык еще труднее. Но у нас товарищи и это сделали. “Перевары”, например. По
словарю древнерусского языка Срезневского получается, что перевара – это чан для варки меда и пива. О
безатьщине в том же словаре оказано: “Безадьщина – безатьщина – выморочное имение”. Вот изволим это
письмо понимать так: Онанья хочет, чтобы ему сварили пива, Грикша, как видим, отказывается, ссылаясь на то,
что Есиф, мол, не велел ему это делать. Тогда Онанья, которому пивка все-таки хочется, послал “к Федось”,
пусть она, или он – не сразу разберешься, какого пола Федось, – варит пиво, тем более, что Федось сидит в
выморочном имении и, согласно феодальным правам, обязана или обязан работать на того, кто приобрел такое
имение.
– Никогда бы ничего тут не поняла! – воскликнула Оля.
– Да, до этого смысла только коллективно и можно добраться. Но зато слышим настоящий, разговорный
народный язык того времени. Вот закрою глаза, вижу и слышу: спорят Онанья с Грикшей. Онанья хочет выпить.
Грикша тверд. Есиф ему запретил варить пиво для Онаньи. Возникает конфликт. Может быть, они смертельно
поссорятся впоследствии. Да, вижу их, слышу их, наших щуров и пращуров. Общаюсь с ними. Великая сила —
грамотность. Да здравствует она, и да здравствуют те великие выдумщики, которые придумали такой
долговечный способ письма! А вы можете себе представить, что будет, если мы на подобных свитках найдем
еще и древние повести, стихи, научные трактаты? Если мы найдем мемуары, записки бывалых людей,
письменные раздумья мыслителей тех времен?..
Они возвращались к раскопу взволнованные. Оля так была захвачена новгородскими открытиями, что
совсем позабыла о своей подруге. Она вспомнила о Варе, только увидев ее возле раскопа, – взглянула на часы:
третий час, уже надо идти с Варей в больницу, Варя уже, наверно, сердится.
Варя еще не сердилась, но уже посматривала на часы и не так увлеченно беседовала с художником.
Обе они извинились перед историком и художником и пошли в больницу. Там им выдали белые халаты,
впустили в длинный коридор и сказали, чтобы они искали палату номер четыре. Волнуясь, вошла в нее Варя. Ее
волнение передалось и Оле. В палате было шесть кроватей. Но Варя сразу кинулась к той, что крайней стояла
возле большого окна. Оля никогда не думала, что Варин отец такой старик, она предполагала, что он немногим
старше ее отца, Павла Петровича. А тот, кого так горячо обнимала Варя, был морщинистый и бородатый, будто
с иконы. Оля поздоровалась с ним, и он сказал:
– Вот спасибо, что приехали. Хорошо, что приехали. Добро привезли. Говорят, через две недели встану.
Оля посидела минут пятнадцать и, понимая, что у отца с дочерью могут быть разговоры, которые при ней
им вести неудобно, попрощалась с Вариным отцом, пожелала ему здоровья и сказала, что ей надо идти, что ее
ждут. Варя не стала уличать ее во лжи.
Выйдя на улицу, Оля присела на скамейку. Здесь сидело еще несколько женщин. Все они ожидали
очереди на впуск к больным родственникам, все говорили о болезнях, о врачах, о лекарствах, о всяческих
домашних средствах лечения. Всем хотелось здоровья и долгой жизни. Оля слушала эти разговоры и
вспоминала свою мать, которая тоже хотела здоровья и долгой жизни. Олины мысли мешались, рядом с ее
мамой возникали Грикша, Есиф, Онанья и Федось, которые когда-то умерли земной смертью и вдруг шесть
веков спустя ожили для своих потомков, вместе со всеми распрями, переварами и медами. Какое чудо способны
сотворить простая береста и костяная палочка!
После больницы Оля и Варя зашли в знакомый им ресторанчик возле Летнего сада., и, когда вернулись в
гостиницу, было около семи. Услышав, видимо, их возню в комнате, к ним тотчас постучался художник.
– Девушки! – воскликнул он. – Где же вы пропадаете? Немедленно к профессору! Там идет мощный
научный спор. Будете потрясены. Скорее, скорее!
Оля и Варя вошли в номер историка, где было полно народу. Из рук в руки переходили стекла, меж
которыми была зажата – Оля ее узнала – та самая грамота номер девять, которую при ней в этот день
обрабатывал реставратор. Олю и Варю никто не заметил, только старый историк кивнул им: садитесь, мол, где
найдете место. Никакого места они не увидели, остались стоять.
– Итак, – говорил толстый человек лет пятидесяти с обритой загорелой головой, – читаем… – он
держал грамоту в руках, – читаем: “От Гостяты к Васильви. Еже ми отьць даял и роди сдаяли, а то за ним. А
ныне, водя новую жену, а мне не вдасть ничьтоже. Изби, в рукы пустил же мя. А иную поял. Доеди, добре
створя”.
– Но ведь уже прочли десять раз, – сказал молодой человек в очках.
– Еще прочтем сто десять, – возразил бритый. – Только тверже уяснится смысл от повторного чтения.
Итак, попробуем разобраться. Что это за имя – Гостята? Женское или мужское? Нет сомнения – мужское. Оно
родственно новгородским именам Гостилец и Гостомысл. С окончанием “ята” они встречаются в летописях
одиннадцатого и двенадцатого веков. Слова “еже ми отьць даял” не вызывают сомнения: “что мне отец дал”.
Слова “и роди сдаяли” тоже ясны: “и родные дали”. “Водя новую жену”… Водить вокруг аналоя, вероятно. Не
совсем понятны слова “в рукы пустил”.
– Чего же тут не понять? – возразил молодой человек в очках. – Просто вы не так ставите знаки
препинания.
– Обождите, – взмахнул рукой бритоголовый ученый, – дайте закончить! Вы получите слово в свое
время. Разбираю дальше. Глагол “поять” означает: “брать в жены”. Это есть в летописях одиннадцатого-
двенадцатого веков. А наша грамота по форме букв и залеганию в слоях почвы как раз и относится к
одиннадцатому веку. Итак, прочтем смысл письма полностью. Гостята жалуется на своего отца, женившегося на
двух новых женах и отнявшего по этому случаю у него имущество. Сын обращается к некоему Василию —
может быть, это его друг, может быть, дядя, – просит приехать, разобраться в трудном деле и тем сотворить
добро.
– Че-пу-ха! – раздельно проговорил молодой человек в очках. – Совершеннейшая чепуха! Получается,
так сказать, априорное отражение извечной борьбы между старым и новым, между папашей – носителем
традиций большой семьи с патриархальным укладом и сынком – активным носителем новых норм городской
жизни. Простейший путь для истолкования письма. Попробуем внимательнее вчитаться в текст.
– Так мы же его десять раз читали! – воскликнул бритый.
– Ничего, еще раз прочтем. Прежде всего я отвергаю всякий разговор о женитьбе сразу на двух женах.
Если грамота относится к концу одиннадцатого века, как тут установлено, то ко времени ее написания уже
прошло сто лет от официального принятия христианства на Руси. А известно, что христианская церковь
утверждала и защищала единобрачие. Это во-первых. А во-вторых, просто обратимся к письму: все, что отец
мне дал и родные дали, все осталось за ним, у него. Вот как надо читать первую фразу. У кого же? Изучим имя
– Гостята. Это имя не мужское, а женское. Точнее – это даже и не имя, а прозвище. Вся беда в том, что
никакими письменностями древнее одиннадцатого века мы не располагаем совсем, если не считать отдельных
слов, написания которых найдены в смоленских и последних здешних раскопках. Да и от одиннадцатого-
двенадцатого веков осталось ничтожно мало. Не удивительно, конечно, что летописи и другие
немногочисленные памятники почти не донесли до нас имен и прозвищ, принадлежавших женщинам тех
времен. Случаи упоминания имен княгинь Ольги, Рогнеды, Переславы – единичны. Княгинь! А имен женщин
других слоев общества и совсем нет, мы их не знаем; и я беру на себя смелость утверждать, что наша Гостята —
это женщина и жалуется она на своего мужа, который действительно, взяв новую жену, оставил у себя все, что
дали Гостяте в приданое ее отец и ее родные. Вот так! Но муж не оставил при себе Гостяту в качестве второй
жены. Отнюдь нет. “Изби, в рукы пустил же мя” не так надо читать. Вспомним старинные народные выражения:
“ударить по рукам”, “рукобитье”, которые означают заключение сделки, в данном случае – свадебного сговора.
При сговоре били по рукам. А тут – “изби, в рукы пустил же мя, а иную поял”. Следовательно, избив руки —
нарушил рукобитье, с Гостятой развелся, “пустил” ее, “иную поял” – женился на другой. Ну, а дальше
согласен. “Доеди, добре створя”. Приезжай, значит помоги, что ж я тут выгнанная из дому, без всяких средств к
существованию.
– Мне это толкование кажется более правильным, чем первое, – сказал старый историк. – Но вот что,
друзья, интересно. Гостята ни слова не говорит о том, что ее муж поступил как-то неправильно, разведясь с нею
и взяв новую жену. Виновата, значит, в чем-то. Признает свою вину. Ведь, насколько я помню, в уставе Ярослава
имеется статья четвертая, излагающая законные причины развода. В ней есть семь установленных причин, и все
они говорят лишь о вине жены. В двух случаях это ее супружеская измена, в трех – попытки жены, или с ее
помощью, привести в исполнение злые умыслы против мужа. “Аще подумает жена на мужа зельем”, “велит
мужа своего красти” и “иметь кто мыслите на мужа ея, она ведает, а не скажет”. И в последних двух случаях —
хождение жены “опричь мужа своего” на игрища и на пир. Что же сотворила наша бедная Гостята девятьсот лет
назад?
– Думаю, – сказал художник, – что надоел, опостылел ей ее бородатый толстосум, сходила она
“опричь мужа своего” с заезжим красавцем Василием на пир да на игрища…
Он не закончил, все засмеялись. Не улыбнулись только Варя да Оля. Им было очень жалко Гостяту. Оля
была убеждена, что художник прав, что Гостяте нравился Василий, похожий, как себе представляла Оля, на
былинного молодца, что Гостята, как только муж-купец уезжал из дому по своим торговым делам, тотчас
убегала к красавцу Василию. А потом и Василий уехал… Муж догадался… Ах, кабы знать, откликнулся ли на
эту весточку Василий, приехал ли он за Гостятой? И кто обронил берестяную весточку на новгородскую
мостовую? Он ли, Василий, прискакав в Новгород за своей Гостятой, или сама Гостята, пешком уходя по
деревянным мостовым от выгнавшего ее мужа.
– В свое время, когда были найдены папирусы древнего Египта, – сказал историк, – было положено
начало новой науке – папирологии. Такими источниками, какими для истории эллинистического и римского
Египта являются папирусы, для нашей русской истории станут берестяные грамоты. Друзья мои, мы
присутствуем при рождении новой науки, стоим возле самой ее колыбели!
Слушая старого историка, Оля мысленно дала слово посвятить себя этой новой науке. Она во что бы то
ни стало извлечет из глубины веков и грешницу Гостяту, которая очень любила жизнь, и пивоварку Федосью, и
всех своих прапрабабок, у которых была тяжкая доля, которые, наверно, гоже очень любили жизнь, тоже хотели
здоровья и долгой жизни, но от которых – как это несправедливо! – не осталось даже имен.
Оля найдет эти имена во мраке веков, непременно найдет!
Г Л А В А Д Е В Я Т А Я
Перед Павлом Петровичем сидел его бывший заместитель по заводу Константин Константинович
Ухваткин, тот маленький рыжеватый старичок с веснушками на лице и шее, с которым Павел Петрович
проработал много лет, с которым работалось не так-то легко из-за упрямства и сварливости старичка и с
которым все же была связана одна из лучших полос жизни Павла Петровича.
Константин Константинович утер лицо красным носовым платкам, поправил на носу старомодные очки и
кашлянул. Павел Петрович знал, что он сейчас же заговорит о том деле, ради которого пришел. Сердитый
старик совершенно не умел вести “светский” разговор, который у многих непременно предшествует разговору о
деле. Он ничего не сказал о погоде, не спросил Павла Петровича о здоровье, не принялся комментировать
международные события, о которых слышал утром по радио.
– Вот ты еще зимой, Петрович, высказал одну идею, – говорил он без обиняков. – Потом ты, наверно,
про нее и сам позабыл. А предлагал ты интересное дело – остроумный способ связывания водорода со
шлаками. Помнишь или нет?
– Почему же не помнить? Помню, – ответил Павел Петрович. – Но ведь никто со мной не согласился.
Консультанты оказали, что это невыполнимо.
– А получилось так, что вроде бы… ну посмотри сам. – Константин Константинович вынул из
папочки, которую принес с собой, лист миллиметровки с вычерченным на нем графиком. Красная линия ползла
медленно вниз. – Видишь, – повел он по ней пальцем, – содержание водорода падает, падает, падает… Сорок
опытных плавок. И все вели к снижению водорода. Только вот тут одна что-то стрельнула кверху. Может быть,
сырая шихта была или что. Вот тебе еще фотографии шлифов. Полюбуйся, какая плотная, однородная
структура. Могу принести пробы та излом, на скручивание, на разрыв. Отличные результаты. Что же ты
молчишь, не веришь, что ли?
– Просто сижу и думаю. Молодцы вы! Ведь это же крупный удар по одному из главных бичей
производства высоколегированных сталей. Ведь так, чего доброго, можно и совсем ликвидировать эти “белые
пятна”, флокены. Радуюсь за вас, старина! С кем работали-то?
– Технолог цеха, ты его знаешь, это, значит, раз. – Константин Константинович принялся загибать
пальцы на левой руке. – Из плавильных мастеров двое – с первого участка и третьего… Сталевары
Анохина…
– Подходящий народ.
– И вот пришел к тебе, Павел Петрович… только ты, пожалуйста, не говори мне про перегрузку, про то,
что занят, и всякое такое. Стоим на пороге большого открытия. Подошли к самому порогу и стоим. Не хватает
нам твоей головы. Может, загнешь, ошибешься – леший с тобой! Приди, дорогой мой, к нам, расшевели. А то
мы уж маленько отупели, в своем-то соку перевариваясь.
Павел Петрович засмеялся.
– Своих ошибок вам мало! Еще и моих захотелось.
– Да, да, да! – сказал Константин Константинович. – Взлеты нужны, фантазия. Я бы на месте нашего