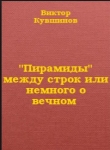Текст книги "В движении вечном (СИ)"
Автор книги: Владимир Колковский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Знакомая жгучая волна подступала вновь, вскипала, захлестывала игольчатой пеной, грозила могучим цунами обратить благодатный оазис в постылую мертвую пустыню. Чернея лицом, он хмурил брови – она, приметив это, начинала допытываться:
– О чем ты все думаешь?
– Ни о чем.
– Я же вижу.
– Ни о чем!
"Я виновата? – слышалось ему неизменно в этих расспросах. – Но в чем?"
В чем же она была виновата?
– Скажи, Игнат.
– Что тебе сказать?
– О чем ты все думаешь?
– Ни-о-чем! – снова и снова отвечал он неприступно. – Да тебе и без разницы.
Огромный чернильный купол мигал теперь изредка холодными отсветами зорь. "Что, дружок, финиш? – читал с легкостью мысли, дразня. – Завтра айда на танцы по новенькую?"
И вдруг пронзал пространство снова метеорной искристой стрелой, словно усмехаясь в полнеба. И назавтра снова был вечер, и снова непослушные легкие камешки крылато встечали знакомое окошко на самой окраине поселка.
6
Генка-Артист
Не сказать, что Генка-Артист был уж очень «красавец» – с ударением на последнем слоге по Василию Макаровичу. Овал лица почти квадратный, нос рыхловатый, глаза белесые, блеклые, волосы прямые, жесткие. Блондин, впрочем, а блондины тогда были в большой моде.
И, все же, была в его весьма бойкой натуре та известная природная помесь безграничной уверенности в себе и некоей своеобразной шутовато-дурашливой обаятельности, что вкупе так часто манит, притягивает властно доверчивый женский пол.
И фигура. У него была аленделоновская фигура. Никак не мог понять Игнат, как с такой ладной фигурой Генка-Артист был бестолковым спортсменом. В футболе "матки" набирали его в команду последним, а на коньках он катался так, что смех один. Но хоккей в поселке был любимейшим видом спорта, школа даже за большие деньги закупила настоящую форму, ослепительно яркую, в спартаковских красно-белых тонах, и каждый мальчишка мечтал хоть раз выйти в ней за сборную. Хоккейные герои были героями и в глазах девчат, поэтому Генка-Артист, все-таки, ухитрился примазаться к сборной, пускай и в роли третьего запасного голкипера. На лед его, разумеется, так и не выпустили, зато теперь он имел полное право рисовать артистически "их" победные ледовые достижения.
Но Артистом его прозвали не за это.
– Генка, ты у нас вылитый Чубин... Артист! – первым так сказал Витька.
И это была правда.
Кто теперь помнит Олега Чубина?
Лет тридцать назад он уехал за кордон и словно растворился там. За эти годы Игнат видел его лишь один раз в двухминутном эпизодике какого-то голливудского фильма, тотчас забытого. Но вот тогда, после выхода на экраны страны знаменитого "Таинственного всадника", его имя в Союзе гремело.
В выпускных классах многие девчата делили обычную общую тетрадку на отдельные, ярко озаглавленные страницы с различными жизненно важными вопросами, как то: "Что такое любовь?", "Что такое счастье?", "Твоя любимая книга?" Затем отдавали друзьям и знакомым на руки для ответов. Читая с любопытством некоторые, Игнат зачастую дивился их исключительной оригинальности. Так, например, один утверждал, что любовь есть "хождение двух дураков по асфальту нашего города", а другой называл танцы всего лишь "печальной необходимостью". В этих традиционных девичьих тетрадках обязательно присутствовал и такой вопрос: "Кто твой любимый артист?" – и самое, самое удивительное для Игната было здесь. Все девчата до единой называли только одно-единственное имя Олег Чубин.
Была ли тут внешность?
Вряд ли только это, ведь каждая из девчат наверняка бы назвала более симпатичного. И как артиста его очень скоро позабыли в стране. Однако, по-видимому, было в его личности одно из явственных проявлений той необъяснимой загадочной силы, что так магически давит на людскую породу, заставляет слепо слушать, восхищаться, выбирать...
Артист-Генка смастерил из небольшого фото артиста Чубина круглый, величиной с пятак цветной значок, и всегда красовался с ним, когда шел на танцы или свидание. У каждого из нас имеется Свыше пускай и не броский, но некий особый талант; был такой талант и у Генки – красоваться. Как это ему удавалось, он никогда не рассказывал, да и вряд ли бы смог: это было именно то природное, что дается нам изначально, дается неизвестно за что, почему, и за какие заслуги.
Так, например, Игнат неизменно тюленькался долгое время, пока обвыкался с обновкой – Генка же в новом обличье блистал. Любая самая простенькая одежка всегда смотрелась на нем так, что непременно казалось: нарядись в нее ты, и будешь выглядеть точно также эффектно. И он сам это видел и знал, он всегда любовался собой, наблюдая успех; и успех вдохновлял, и успех нарастал по накату.
Модник он был наипервейший. Прическа не иначе, как последний крик планетных веяний: "ветерок", "ежик", "а ля хиппи"... Аналогично и шмотки, все! – поселковые парни ему подражали, благодаря чему мода никогда не запаздывала в поселок. А однажды вот какой анекдот получился.
В то время среди мужской половины земного шара были в моде брюки-клеш от колен, вроде матросских, с широким на три пуговицы поясом и прямыми карманами спереди. Чем шире клеш, тем "хипповее", но:
– Двадцать два на двадцать семь, больше не выйдет! – говорил сочувственно миниатюрный шустрый мужчинка, закройщик в поселковом швейном ателье.
– Щирины маловато в куске, – разъяснял он далее, показывая на выбор разноцветные рулоны материи. – А коль уж так хочешь, бери двойную.
Бери двойную, легко сказать! Двойная длина – это же и двойная цена, а тут и на одну еще попробуй, выпроси у матери денег. Так и граничило строго, так и держались поселковые парни на скромных пяти сантиметрах, как вдруг в ателье завезли очень недорогую материю. Плотную, темно-бордового цвета, наверняка не кондицию, однако с незаметными глазу дефектами. Генка-Артист заказал себе сразу двадцать два на пятьдесят.
– Даже и закройщик сначала не брался! – рассказывал он впоследствии. – Мол, форму не выдержит, надо убавить чуток. А потом, ладно! Мол, и самому интересно, что из этого получится.
– А с модой как, ведь пошла на отбой. Дал ты тут Генка маху?
– Да знал я, знал...Так ведь двадцать два на пятьдесят! Два года мамка денег жилила.
Характерно, что сам он на сей раз лишь успел поразить, а покрасовался в этой обновке очень недолго, до первой гостевой поездки в город. И вернулся оттуда в тех же брюках, однако уже перешитых аккуратно по новой моде. Но почин его уже успели подхватить по привычке другие, и еще долго впоследствии изумлялись приезжие, наблюдая на поселковых улицах неимоверное количество широченных, повсеместно отживших свое суперклешей:
– Мореходку, нейначе, у вас тут на Нёмне открыли?
Если бы в поселке с самого начала его тысячелетней истории вели собственную книгу рекордов Гиннеса, то в ней бы оказался непременно и Генка-Артист. Навряд ли кто-то здешних окрестностях заинтересовался девчатами в столь юном возрасте: и не втайне, а всерьез. Еще в шестом классе он показал однокласснику Витьке, своему соседу по парте маленькое фото симпатичной незнакомки. Спрятав затем, между прочим, заметил:
– И тебе бы давно пора завести.
А спустя год он влюблялся так часто, что обычно даже не успевал до конца разобраться со своим предыдущим увлечением. Любовные похождения были для него чем-то вроде увлекательнейшей игры, бесценным достоинством которой было то, что она никогда не могла наскучить. Не раз замечали парни, как, проводив домой одну девчонку, он возвращался снова в ДК и уже подкатывал к другой.
– Одной, Генка, вчера было мало? – интересовались назавтра.
– Разного товара надо в жизни испробовать.
– Так, может, и не предел?
– Х-ха, есть еще резервы.
В конце прилегающей к старому парку маленькой улочки была заброшенная хата с жестяной крышей и дощатой верандой. Хозяева давно выехали, покупателя пока не находилось, вот она и стояла с забитыми окнами в кустистом бурьяне, высоком крапивнике посреди приусадебного дворика. На веранде у Генки была "резиденция". Он подобрал ключ, притащил туда пару старых стульев, смастерил из ящиков нечто заменяющее стол; была там еще и гитара. Из него Генки и музыкант-то был никакой, но это было неважно... И не раз, проходя мимо, парни слышали из веранды негромкое треньканье струн, приглушенные голоса и смех.
Вот только с Юлей у него было хоть и недолго, но для него, как никогда. И даже! – в то время лишь с ней.
– Что это на тебя нашло? – удивлялись парни, вспоминая его прежние подвиги.
В ответ он только улыбался совершенно на себя не похоже, словно удивляясь не менее сам. Обычно он очень любил рассказывать о своих амурных похождениях, любил рассказывать даже более, чем сами эти похождения, но вот тогда он почти ничего не рассказывал.
Это были действительно странные, непонятные для многих отношения. Ведь и у каждого донжуана есть вполне определенная специфика, свой ограниченный контингент женских характеров, здесь зависит не только от внешности и той самой шутовато-дурашливой обаятельности, но и от уровня интеллекта. А вот тут-то как раз и была совершенная нестыковка.
Очень мало он говорил, и почему расстались.
– Так, завязали. Завязали, и все тут! – отвечал на расспросы неохотно и очень уж неопределенно, будто и сам до конца не разобравшись в итоге.
А веснушчатая рыжая болтушка Танька, соседка и одноклассница Юлии, по секрету рассказывала, что в последний раз именно Генка попросил ее вызвать подружку из дома. И еще долго маячил у калитки на улочке после того, как погас свет во всех окнах.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЕЩЕ ВЧЕРА
1
Витька и златые горы
В этот год Генка-Артист окончил школу, но его абитуриентские хлопоты не беспокоили вовсе. Учился он слабо, однако его мать давно работала секретарем в поселковой школе, была на «ты» со всеми учителями, и перед каждым выпускным экзаменом тишком метила билеты. Потому аттестат у Генки в итоге вышел весьма приличный, он подал документы в престижное столичное радиотехническое училище, где не было вступительных, а только конкурс аттестатов, и теперь без забот веселился на танцах в ДК до самой осени.
Совсем по-другому обстояли дела у его одноклассника Витьки. Он никогда не рассказывал, где работает мать, а Инат никогда и не спрашивал. Внешне это была женщина невысокая, худенькая с характерной красниной на мелком лице, она была человеком весьма неприметным в поселке.
Зато батька наоборот был мужчина видный, огромного роста, широкоплечий, мощный. Круглый год он расхаживал по поселку в старой затертой телогрейке с белесыми разводами то ли от муки, то ли от извести, и лишь в зимние холода вдобавок кособучил на голову что-то совершенно невразумительное с кожаным верхом и задранным на бок одним ухом. Левый глаз он имел привычку прищуривать, грудь при ходьбе выпячивал немного вперед, а руки назад – все это придавало ему весьма грозный вид; в детстве Игнат, едва завидев его издали, перебегал тотчас на противоположную сторону улицы. Но в действительности это был человек спокойный, рассудительный, крайне неразговорчивый даже в компании. Лишь изредка, выпивши, он мог вдруг затянуть широко и в полный голос:
– Чтоб я имел златые горы и реки полные вина-а-а...
На последнем слове он неизменно обрывал, растягивая его секунд на десять.
– Ха-ха-ха! – гремели хохотом собутыльники. – Не видать тебе, Петро, златых гор, как ушей своих, а вот когда ты с женкой получку получишь... Вот тогда у вас и реки потекуть!
Однако Петро не обращал внимания на подобные шутки. Работал он грузчиком в хлебном магазине, кроме того разводил на подворье всякую мелкую живность: кроликов, нутрий и т.п. Очень часто у людей его типа главный смысл жизни заключается в накоплении, однако в данном случае было полное исключение. Почти весь совокупный семейный прибыток уносили стремительно те самые винные реки, и действительно до краев полноводные во время очередной получки. Впрочем, это отнюдь не мешало ему с насмешливым сожалением поглядывать на тех, кто отдавал свободное время пустым на его взгляд забавам:
– И чо, чо? – не раз вопрошал он досадливо, наблюдая сыново увлечение спортом. – И чо ты там бегаешь, нема тебе работы?.. Так дам я тебе и работу!
Каждый год в конце октября, едва дождавшись первых морозцев, они, мальчишки, убегали за Неман на луговые озерца смотреть лед – держит ли? И если первый хрупкий ледок не рушился тотчас гремучим обвалом ко дну, а лишь слегка ободряюще потрескивал, в радости неудержимой неслись по домам за коньками и клюшками, а потом до темноты гоняли шайбу.
Витька так стремительно бегал на коньках, что казалось летит надо льдом невесомо, касаясь его поверхности лишь во время поворотов, резких, бесстрашных, с вихрем искристых снежинок из-под полозьев.
– А сейчас секите, мальцы, сольный проход! – восклицал он часто в азарте игры.
И как ас-горнолыжник слаломную трассу с легкостью огибал, оставлял за спиной словно застывшую замертво, растерянную команду противника; в наслаждении от своего превосходства, смеясь с беспомощных защитников, колотил вдруг шайбу в пустые ворота пяткой клюшки, а мог еще запросто и по второму кругу пройтись.
Витька играл за сборную школьников области.
– У вас там Витек есть, Бутовец. В хоккей – класс играет! Знаешь его? – познакомившись едва, спрашивали у Игната.
– Как не знать, друг мой лучший! – спешил признаться он в ответ.
Очень непросто было Витьке хоть что-нибудь выловить в бездонных, никогда не мелеющих винных реках. Каждое лето он искал и находил, где подработать, потому приодеться мог по моде, со вкусом, даже элегантно. Волосы у него были светло-русые с особенным золотистым отливом, глаза большие зеленоватые, спокойные, но с весьма заметной хитринкой. Стройный, под сто девяносто, длинноногий, узкий в поясе и широкий в плечах, не по-юношески мужественный, он на танцах всегда был одним из самых заметных кавалеров, но никогда не вертелся вроде Генки-Артиста возле каждой новой юбки, выбирал, высматривал, мог и за весь вечер так и не выбрать достойной.
"Бывают же и такие чудеса на белом свете!" – думал иногда Игнат, воображая друга рядом с батькой. Впрочем, вместе на поселковых улицах он их никогда не видел, и в гости Витька его никогда не приглашал. За все годы их детской дружбы Игнат так ни разу и не побывал у своего лучшего друга дома.
С первых сознательных дней они, мальчишки, тогда слышали и знали, что в их самой справедливой на планете социалистической стране нет бедных и нет богатых. Слышали и знали, что они равны, равны всегда и во всем. Они учились в одной и той же школе, выбегали на одну и ту же улицу, дружили, ссорились, дрались – и поначалу даже не задумывались о том, что между ними может быть на самом деле большая разница. Так Игнат, например, был из элитной "шляхетской", как здесь шутливо говорили семьи: отец хирург, главврач в поселковой больнице, мать учительница.
– Ты там гляди с Бутовцом со своим! – говорила порой тревожно мать. – И разве нету тебе хороших мальчиков?
В особенности, она говорила так, когда кто-нибудь из поселковых хозяек приходил жаловаться за свой сад.
– Ну вот, я и говорю! – кивала тогда мать головой растерянно. – Научит тебя твой Бутовец. И пусть бы своего не было, и разве вкусней у соседа?
Соседские яблоки почему-то и впрямь казались вкуснее, да только Витька был тут непричем. По чужим садам ничуть не меньше лазили и другие, у кого так же своего хватало. И так, чтобы напрямую, дружить им никто не запрещал. Потом, когда они выросли, мать даже так говорила:
– Хлопец он, видать по всему, неблагий. И толк из него был бы...
И прибавляла затем, помолчав, а то и со вздохом:
– Когда бы его в толковые руки.
Зато с различными неприятными вопросами про уроки и школу к Витьке дома никто никогда не цеплялся.
– Я в школу только побалдеть наведываюсь! – все десять лет насмешливо поговаривал он.
И на пару с Генкой-Артистом, приятелем и соседом по парте был в своем классе главным организатором всего того, что превращает порой в испытание крепости нервной системы высокий учительский труд. Взахлеб и с величайшим наслаждением он рассказывал Игнату о своих классных придумках; оригинал и фантазер, он умел изловчиться, имея наготове в особо типичных случаях даже свою собственную теорию. Вот как, например, можно, если совсем "не бум-бум", продержаться успешно десять последних минут до звонка:
"Сначала выходишь на класс. Двигаешь, чешешь себе потихонечку, тому подмигнешь, этому, мол, погнали, друзья, подключаемся. Добираешься таким вот макаром к переднему ряду, ступаешь, потом вдруг р-раз туфлей за парту – и чуть не носом в пол!
Все, конечно, ржут. Тут ты вдобавок словечко накинешь, фразу в придачу, пускай, мол, поржут до упора. Глядишь, и компашка моя начеку, подключились ребята с тылов на подвязку. Этот в тему закинул словечко да тот, короче, заваришь потеху – три минутки тут верные слепится, а то и все пять. Сам можешь проверить, вот попробуй когда.
Ну ладно, на этом приплыли. Первый этап завершили, теперь можно двигаться дальше. Только добрался к учительскому столу, повернулся к народу лицом – цоп вдруг себя за вихры!
– Что там у тебя еще?
– Дневник в портфеле забылся.
И назад потихонечку чешешь. Залезаешь в портфель, шебуршишь, ковыряешь, копаешься. Вот он, вот он, дружок... ай нет! – извиняйте, ошибочка вышла. Вот он...ай! – и снова не это, промашка выходит, тетрадка по химии. Туда-сюда снова балбесом покрутишься, глядь на часы, а еще три минутки накапало... Плюсуем, что было, и что, что осталось-то, в принципе?
И в конце своих рассказов Витька восклицал с победным заливистым смехом:
– Смех, мизер, практический ноль, минимум импровизации!
Заливистый победный смех был главным героем большинства его подобных "импровизаций". Подобного смеху за школьные годы случилось немало, да вот только сразу после выпускных экзаменов ему стало совсем не до смеху. Ведь аттестат получился на троечку с маленьким хвостиком.
Только теперь Витька, да и многие рядом только теперь осознали конкретно, зачем вообще он нужен по жизни, хороший аттестат. И в чем заключается подлинный смысл вот этого постоянного, учительского:
– Ско-оро, скоро дойдет до вас, братцы. Да смотрите, чтобы поздно не было.
2
Пьяный угол
Пришла пора поступать, и у каждого теперь появилась желанная цель, которая приобрела постепенно значение заветной мечты. От воплощения этой мечты, казалось, зависит все твое будущее.
Поступил – и ты вмиг на победном коне, твоя особа приобретает тотчас твердый и неоспоримый авторитет в родном поселке, ведь ты теперь при важном деле. По улицам, площади ты теперь похаживаешь гордо, независимо, взрослые глядят на тебя по-иному, а строгие учителя при встречах улыбчивы вовсе не строго, они словно празднуют вместе с тобой и говорят с тобой нынче вне прежних дистанций; ты видишь и чувствуешь, что оправдал.
Поступил ты – и перед тобой разом открылся мечтательный мир, мир непознанный, мир загадочный и романтичный. Тысячи радужных перспектив восстают ослепительно перед тобой, и само их достижение видится теперь делом приятным и плёвым, ведь для этого нужно очень немного, нужно всего лишь чуток постараться.
И пускай вчера ты был безнадежный троечник, которого давно рукой махнули, а подготовился, поступил нежданно, и тотчас себя реабилитировал, как тот футбольный форвард, у которого целый сезон игра толком не клеилась, но который в последнем решающем матче забил последний решающий гол. В одно мгновение все забыто, его восторженно носят на руках, ликующей сто тысячной толпой ему аплодирует весь стадион.
– Не хотел в школе учиться, а пришла пора, взял себя в руки! С характером парень...
Так уважительно теперь говорят о тебе, и ты героем возвращаешься в родной поселок, без конца и с наслаждением рассказываешь о волнительных приключениях на вступительных; а те, кому еще придется пережить, слушают с завистью и с тревожным холодком в груди воображают свои собственные будущие испытания.
Ну а неудачники с наступлением осени разделялись на две совершенно разные группы.
Первую составляли бывшие крепкие ученики из уважаемых в поселке семей, которым просто не повезло на вступительных. Эти ребята старались как можно реже появляться на улицах, кто-то в домашней тиши усердно готовился к новой попытке на следующий год, а кто-то, кому пришло время, дожидался весеннего призыва в армию. Даже парадокс выходил своеобразный, они жили постоянно в поселке, а встречали их на улицах гораздо реже, чем уехавших на учебу в город счастливых победителей. Те так наоборот каждые выходные непременно наезжали в поселок и целыми днями торжествующей шумной толпой без конца разгуливали по знакомым улицам.
В другую группу входили обычно те, чьи родители бездумно плавали в тех самых бездонных "винных реках". Этих также было очень просто повстречать в поселке. С самого утра они уже занимали один из самых приметных уголков центральной площади, и это было особое, знаменитое на всю близлежащую округу местечко. С неких незапамятных времен оно даже имело в поселке и свое собственное название "Пьяный угол".
Дело в том, что немножко поодаль по главной улице располагался на вид скромный неброский подвальчик, однако под весьма звучной вывеской "Винный бар".
– Во всем Союзе только два винных бара! – любили похвастаться приезжим бывалые посельчане. – Пивных сколько хочешь, а вот винных – только в Вильнюсе и в нашем г.п.!
Так ли это в действительности, и как оно там в Вильнюсе Игнату было неведомо. Но вот в их собственном баре что-что, а комфорт да уют с интерьером наверняка считали чем-то совершенно излишним. Четыре каменные, окантованные поржавевшим железом невысокие ступеньки вели круто вниз в тесный сумрачный подвальчик, наполненный всегда удушливым сигаретным смогом и беспорядочным гулом многочисленных посетителей. Здесь было только самое необходимое. Голые казематные стены, полтора десятка грубых стальных стояков, пластиковый "столовский" поднос с обычными на две сотки грамм гранеными стаканами. А на простеньких дощатых полках неудержимо манило в хмельные объятья рублевое жидкое счастьице или т. н. "чернило".
На Пьяном углу непременно приостанавливался как тот, кто только шел в бар, так и тот, кто оттуда только что вышел. Угол не пустовал с раннего утра до поздней ночи, обсуждал, дискутировал, взрывался дружным смехом, а иногда и кровавым мордобоем. Неподалеку в десятке метров на площади располагалось небольшое кирпичное знание автобусной станции. Ни один проезжий не мог выскользнуть из автобуса так, чтобы его не заприметили на Пьяном.
– А, гостейка наш, дорогой! – окликали тотчас любого знакомого. – Как житье-бытье? Ну-ка, с нами постой, поделися..
И через минутку-другую с улыбочкой, вкрадчиво:
– Так что тут стоим, на сонейке тепленьком киснем?.. Так, глядишь, и ено скоро скиснет. А не пора ли потишку туды, на четыре ступеньки?
И уже вскоре можно было видеть, как очередной гостейка движет неспешно "туды", а с ним рядышком и парочка счастливцев за компанию, скаля зубы в предчувствии сладостном, бросая напоследок всем прочим:
– А у нас сегодня рыбный день, мальчики, хвосты обрубаем!
3
Урбанизация
То бурливым, сметающим вихрем, а то и лениво, неспешно писал тысячелетнюю историю поселка неодолимый поток вечности. Был поселок и знатен когда-то в средневековье, имел «магдебурское право», но постепенно мельчал по судьбоносному ходу времен, превращаясь в забытое миром, крохотное рабочее поселение на тысячу жителей. Бывали времена, когда многое здесь словно застыло в глубокой задумчивости на целые столетья, а бывало и день единственный разом «рушил все до основанья». Десять лет также лишь мгновение, неуловимо скользнувшее в необъятной по людским меркам тысяче, но вот тот, кто примерно в 65-том году прошлого века лет на десять покинул поселок – даже и не узнал бы его после.
Не забыть Игнату, как в детстве: бурлит, струится людской ручеек по улицам, в парк, в магазины. В Доме культуры тогда каждый праздник были концерты; сами же посельчане были и умелыми исполнителями, и благодарными зрителями. Таланты не приходилось искать далеко, вот и Игнат с первого класса танцевал в школьном ансамбле, с тех пор неизменно выступал на праздничных концертах. И каждый раз просторный зрительский зал, казалось, не мог бы вместить еще больше народу, стояли, толпились в дверях, мальчишки лепились на подоконниках.
В старом парке, что на окраине поселка, была тогда летняя танцплощадка. Точь-в-точь как в городе, с высокой дощатой эстрадой, огороженная по периметру прозрачной металлической сеткой. И точно также, как в городе, там тогда летом было не пробиться.
– Что ж ты думаешь, вас тогда в школе одних поселковых за семьсот было. А теперь и со всей округой половины не наберется! – говорила с видимой грустью про те недавние времена мать, учительница.
Стадион в парке с рублеными в пять ярусов, ярко окрашенными трибунами, с аккуратно подкошенным травяным газоном был тогда гордостью поселка.
– Добрая у вас поляна футбольная! – говорили не без зависти приезжие знатоки. – Тут хоть республику принимай.
И действительно, тогда стадион принимал соревнования республиканского масштаба. Каждое лето тут гремели спартакиады, каждая точь-в-точь как маленькая Олимпиада. Древний парк в эти дни был так похож на столичный в выходной теплый солнечный денек. Весь поселок был тут, и они, мальчишки, и самое важное авторитетное начальство, все вместе болели за "наших". И они не подводили, они были победителями, они были кумирами, каждый мальчишка мечтал быть таким, как они.
В особенности, как Андрюха Петровский. Такому форварду, казалось, хоть за Союз в сборную.
– Андрюха ваш от Бога форвард! – нахваливая, завидовали соседи.
Вечерами Игнат часто видел, как его кумиры с разноцветными спортивными сумками через плечо, в полосчатых ярких тренировочных костюмах, гомоня оживленно, проходили на стадион. До темноты там были слышны азартные вскрики, топот ног, гулкие стуки футбольных мячей. Земля на тренировочных полях вокруг была выбита в камень. Теперь это кажется фантастикой, разве можно теперь даже представить себе этих немногих, кто так и не съехал в город – на тренировке?
С каждым годом все чаще слышал Игнат в разговорах:
– Молодцом парень, в столице остался!
– Ну вот, буде теперь ростить патлы на Пьяном..., – а это уже про тех, кому так и не посчастливилось где-то "остаться".
В детстве всегда, когда дома было одиноко и скучно, убегал Игнат в свой любимый старый парк. Там словно в ход в мир иной заповедный, там незабытые прелести детства, там он обычно встречал кого-нибудь из друзей, приятелей, а то и целую компанию.
Но в тот день в старом парке было безлюдно, не было слышно и звонких мальчишечьих голосов. И только возле стадиона у самых входных ворот Игнат вскоре приметил тесный мужской кружок. Там на мягкой травке дружно присели футбольные кумиры последнего поколения футбольных кумиров. В полном составе собрались, по всей видимости, на выездной гостевой матч в соседний поселок, к извечным своим соперникам.
Неспеша, из-под огромных тенистых деревьев выходит к воротам, как кавказец чернявый, высокий худощавый Арсентьевич. Он и шеф, и тренер, а еще "дамский мастер", как его прозвали в поселке. Знали: так мечтал иметь сына, а имел вместо этого целых пять невест на выданье.
– Ну, что сказал? – подхватывается первым с места Андрюха Петровский, лучший бомбардир последнего поколения футбольных кумиров. – Что новое начальство решило, едем?
– А до ж... мне твой спорт! – сказал. – Нема у меня для твоей банды автобуса.
На лице у "дамского мастера", всегда флегматичного спокойная безнадежность.
– Вишь ты, как значит Михалыч на пенсию, так сразу и "банда". Эх, Михалыч, Михалыч! Одно слово, наш был мужик, председатель, а этот, приезжий... Вот так и сказал без кругов, слово в слово. Продовольственная программа в советской державе нынче всему голова, вот как сказал. Народ, говорит, накормить пришло время.
Шеф, тренер и дамский мастер в одном лице подсаживается рядышком на травку. И кумиры еще долго сидят у ворот стадиона тесно сжатым, застывшим кружком. Смотрят подолгу вниз, кусают сухие травинки, бросают редкие и теперь никому неслышные слова.
Тогда Игнат только в шестом был.
Прошло еще три годика с малым, и уже многое из того, что было, теперь казалось фантастикой. Словно не стало вдруг праздничных дней, а с ними и прежних концертов в поселке. Давно растаскали на дрова и дела по хозяйству последние не догнившие столбы и доски, одно то, что еще оставалось от некогда шумной летней танцплощадки. Заросло густо травой то место.
А через некогда знаменитое футбольное поле теперь напрямки ходят, торные стежки-дорожки протяжно чернеют убитой землей вдоль и поперек. Скоро догниют, развалятся пожухлые, кривые трибуны, уродливо гнутые, в щелястых рассохах, нелепые бревна футбольных ворот, зацветут беговые дорожки... Что тут было, кто тогда отгадает?
* * *
Промелькнет незаметно бирюзовое лето.
И вновь живой души не встретишь вечером в поселке, окромя как на Пьяном.
4
Где-то там и далёко
Однажды в один из редких в то жаркое лето пасмурных июньских вечеров друзья неспешно прохаживались в центр возле «Винного». Как огромный пчелиный улей бар рокотал басовито и глухо, выдыхая горячий прилипчивый смрад. Витька приостановился вдруг, с минутку неподвижно разглядывая четыре знаменитые ступеньки, мутные, едва видимые из-под земли, влажные стекла крохотного окошка.
– Неужто и я? – выговорил он, наконец, едва слышно. – Буду вот так заседать?
И тот час смех, крик и хохот, словно в ответ:
– Рулюй, Андрюха!.. по центру задний ход!.. стоять! – гремит разноголосо и беспорядочно сквозь приоткрытые, обитые железной бляхой, тяжкие двери.
Он "выруливает" на коленках криво, цепляет вскользь руками заплеванные, грязные ступеньки. На ногах без носков скребут носами пыль дырявые футбольные бутсы.
– Андрюшка, сынка, ты один разик не выпей, а носки хоть купи! – по утрам, когда он еще не на Пьяном, часто просит мать тихим голосом. – Сынка, так просто. Один раз, один только разик.
Но в ответ лишь:
– Не, мамо, не-е... Видно, так уже не получится.
Он взглядывает порывисто вверх, вертит незряче косматой мосластой головой:
– Р-рубаль даешь, делавы! – хрипит вдруг неразборчиво в заплеванные бычками, низкие ступеньки. – Ты, слышь делавы, рубаль...
И снова крики, смех и хохот, снова в ответ посыпанные густо матерком, кудряво соленые фразы:
– Го-отов, клиент!
– Хор-рош, Андрюха, повыступал чуток, пора и задний.
– Не смажь только.
– Он не сма-аже... Футболер, целкий хлопец!
Июньский тихий вечер все гуще наливался унылой душной непроглядной тьмой. Было молчаливо и безлюдно на улицах, и только там, под землей кипели страсти, гулким эхом, как по сообщенным едино сосудам отдаваясь на Пьяном углу.