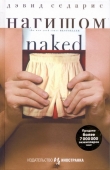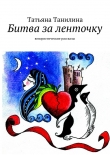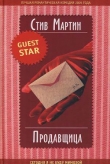Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Владимир Елистратов
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц)
Эстоголизм, или Край непуганых алкашей
Сами эстонцы пьют в меру. А если эстонец всерьез напьется, то он или заснет, или запоет что-нибудь эстонское.
Когда я учился в университете, у нас на курсе был один эстонец. Томас. На соревновании по перетягиванию каната он перетягивал шестерых. Вывести его из себя было почти невозможно. Но если он все-таки выходил из себя, справиться с ним было нельзя. Он проучился у нас всего полсеместра. Потому что однажды на семинаре по истории КПСС, когда преподаватель долго и нудно рассказывал что-то про теорию пролетарской революции, Томас вдруг встал, сказал: «Ннетт, этта нневазмооожнааа!» – и вышел.
Вечером он напился в общежитии и всю ночь пел эстонские народные песни. Его отчислили, и больше я его не видел. С тех пор Томас мне чем-то очень мил.
В Эстонию я попал полтора-два года назад. Раньше бывал – в раннем детстве. И вот я опять в Таллине. Я очутился там как раз тогда, когда была эта нашумевшая история с бронзовым солдатом. Ну, думаю, сейчас приеду, а кругом враги.
Ничего подобного. Нормальные спокойные эстонцы. Никакой агрессии. Врагами оказались другие. Когда я прилетел в Таллин, в аэропорту было несколько сотен в хлам пьяных англичан, основательно заблеванных и очень злых. Сильное впечатление. Но об англичанах ниже. Вернемся к Эстонии.
В Эстонии всё так же, как было полвека назад. И как было век назад. И пять веков. Всё, конечно, антисоветски переименовано. Но в целом – никаких существенных изменений. Тихо, спокойно, терапийно. Все та же фигура старого воина Вана Тоомаса, та же Ратушная («Ра-а-а-атушная») площадь, та же башня Толстая («То-о-олстая») Маргарита.
Все та же скульптура безутешной вдовы Линды. Линда – очень серьёзная вдова.
Напоминаю легенду: в ней дух, так сказать, Эстонии.
Погиб славный богатырь Калева, первый вождь гордых эстов. И его вдова Линда собственноручно сложила ему могильный холм из камней. Камни – по нескольку тонн. Собственно, весь Верхний Таллин – это и есть могильный холм богатыря Калева.
Утомилась Линда, булыжники таскаючи, и выронила последний камень из своих могучих рук. И заплакала Линда, и наплакала целое озеро, и села на камень Линда, и сидит безутешная Линда на том самом камне до сих пор…
Очень трогательная, кстати, история. И очень эстонская в смысле соединения настоящего чувства с трудолюбивым тасканием валунов. В общем – романтическое сумо по-прибалтийски. Уважаю.
Эстонки и сейчас похожи на Линду, а заодно и на То-о-олстую Маргариту. И видно, что они вполне склонны к такой вот долгосрочной преданной тяжелоатлетической любви.
«Горячие» эстонцы – очень симпатичные и приветливые. Просто они сначала думают, а потом говорят или делают (мы – наоборот). Отсюда и анекдоты об их заторможенности. Они – заторможены, мы – отморожены. Вот, собственно, и вся разница. И ещё неизвестно, что лучше.
Впрочем, эстонцы в Эстонии вообще не очень заметны. В Нарве их почти совсем нет. В Таллине их меньше, чем местных русских плюс туристов. Где-нибудь в Пярну, конечно, с эстонцами погуще. Но общая разряженность населения создает комфортную атмосферу ненавязчивости аборигенского элемента.
Если бы четверть века назад эстонцам сказали, что Эстония станет алкогольной столицей северо-восточной Европы, они бы, конечно, не поверили. Но это – факт.
В Эстонии всё (пока!) относительно дёшево, включая и алкоголь. Весь алкогольный люмпен Европы, вся интерпьянь Старого Света неуклонно тянется к могильному холму Калева. Глядя на Линду, невольно думаешь, что скорбит она уже не только о своём муже, сколько о том, что творится на улицах и в барах Старого и Нового Таллина.
Главное направление, по которому в Таллин съезжаются европейские синюшники, конечно, северное. Раньше финны массово ездили квасить в Питер. Теперь ездят в Таллин.
Из Финляндии в Эстонию каждые полчаса прибывает паром. На каждом пароме – несколько сотен возбужденно-предзапойных финнов.
Многие финны ужираются до недоумения прямо не покидая парома. Магазины там, прямо у парома, есть. Дорога от парома до города называется «лосиной тропой». Финнов эстонцы называют «лосями». Отели для финских запоев (а такие есть, специально оборудованные, с тазиками и т. п.) – «лосиными стойлами». Раньше я обо всем об этом слышал и даже читал, но думал, что это преувеличение. Нет, всё так. Нне-ттаккк…
Я не поленился и съездил посмотреть на это чудо.
«Лосиная тропа», эта суомская дорога жизни, – такой тракт с телами. Некоторые тела лежат, некоторые ползут, некоторые в задумчивости стоят на четвереньках, некоторые, шатаясь, бредут. Полиция финнов не трогает. Если есть необходимость, доставляет тела куда надо: на паром или в «стойло». О лосях заботятся: например, продают им алкоголь исключительно в пластике, чтоб они не порезались.
В общем, современный эстонский ландшафт – это живописные балтийские дали и на их фоне – стоящий в луже раком финн.
Финское встревоженное правительство уже посылало запрос эстонскому, чтобы то издало указ об увеличении стоимости алкоголя. Дабы часть финского алкогольного элемента отсосало обратно в Питер. Но горячее эстонское правительство, по эстонскому национальному обычаю, основательно задумалось и ничего финскому не ответило. Ясное дело: финны пьют, бюджет пополняется, жизнь налаживается. Водка для Эстонии – типа нефти для нас. Финны пьют мирно. Запираются в своём «лосином стойле» и хомячат пиво с водкой десятками литров. Через несколько дней ерша – опухло-счастливые бредут на паром. Всё цивилизованно, без эксцессов.
Другое дело – англичане. В последнее время Таллин облюбовали почему-то именно английские пьяноты. Есть какие-то специальные дешевые чартеры из Лондона. Не больше ста евро, а если заказать заранее, то чуть ли не в два раза дешевле. И вот они массово залетают на землю древних эстов и устраивают здесь на глазах у бедной Линды запойную корриду в стиле британских же болельщиков. Шумят, громят и свинячат. Англичан эстонцы ненавидят. Говорят, хозяева некоторых баров пишут на дверях: «Вход с собаками и англичанам строго воспрещен». Почему-то по-русски и по-эстонски. Сам я таких надписей не видел, но рассказы о них ходят упорно.
А ещё в Эстонию массово пошёл немец. Тоже в смысле назюзюкаться до зелёных гансов.
В общем в Эстонии я испытал чуть ли не первый раз в жизни гордость за русских. Русских здесь – без всякого преувеличения – встречают с распростертыми объятьями. Потому что русские – это а) много денег, б) относительная трезвость (если, конечно, сравнивать с англосаксонской и финской хронью) и в) неподдельный интерес к культуре Эстонии. Достопримечательности Таллина осматривают только русские. Ну, ещё японцы. А финнам, англичанам и прочей «цивилизованной» европьяни некогда. У них турзапой.
Я жил в апартаментах. Недалеко от Ратушной площади. Однажды я возвращался к себе в апартаменты. Было около 9 вечера. Стоял конец февраля. Синеватые прибалтийские сумерки. Подмораживало. Очень красиво искрился в молочном фонарном свете иней на фасадах таллинских древних домов. То желтым, то зеленым, то голубым. Как будто в стены были вмонтированы миллионы наногирлянд.
У моего подъезда, напряженно держась за стены и покачиваясь, стоял совершенно пьяный благообразный седоватый человек лет сорока. Серое пальто. Алый шарф. Коричневый портфель под мышкой. Из портфеля зазывно торчало горлышко бутылки.
– Где я? – спросил он по-английски.
Я плохо говорю по-английски. Поэтому мои реплики были кратки, как у Эрнеста Хемингуэя. Но тем не менее дальше все-таки последовал диалог, после которого я еще раз осознал всю философскую глубину нашего отечественного кинематографа. (Насчет глубины Хемингуэя – умолчу).
– Там же, где и я.
Пауза. Героическая попытка сфокусировать зрение на фонаре.
– А ты где?
– В Таллине.
Пауза. Напряженное усилие собрать зрачки на моем лице. Зрачки собрались и тут же с омерзением разбежались. Почти со страхом:
– Кто ты!?
– Человек.
Рот пьяного джентльмена собрался в уважительную гримасу.
– А где Пол?!
– Не знаю.
Мужчиной овладело отчаяние:
– Слушай, – сказал он. – Еще раз: где я?
– В Таллине.
Я далее не буду повторять слово «пауза». Потому что паузы следовали перед каждой его фразой.
– А что это такое – «Тэллн»?
– Это город.
– Город.
– О’кей. Город. А где он, этот город.
– В Эстонии.
– В Эстонии. О’кей. А что это такое – «Истоуниэ»?
– Страна.
– Фантастика!.. Меня зовут Юджин.
– Очень приятно. Владимир.
– Оу, йес. Очень приятно.
Он вдохнул, икнул и начал эпически:
– Мы пили с Полом джин в баре «Дохлая лошадь», потом мы пили с Полом виски в баре «Беременный трубочист». Потом мы пили в аэропорту. Но это уже я плохо помню… О’кей… Слушай… Сейчас утро или вечер?
– Вечер.
– О’кей. Вечер.
Он достал из портфеля бутылку, как выяснилось, джина и отпил из горлышка:
– Будешь?
– Нет, спасибо.
– Как хочешь. (Эз ю уиш). А после вечера всегда бывает ночь, – нравоучительно резюмировал Юджин. – Он даже заметно протрезвел после отхлеба. – Это факт.
– Вне всякого сомнения. Железная логика.
– О’кей. Я никогда не пьянею.
– Это заметно.
– Спасибо. Будем следовать фактам. Ночь – это время, когда люди спят. Так?
– Так.
– Чтобы утром проснуться. Так?
– Так.
– Утро вечера мудренее.
Он сказал: «Take counsel with your pillow». Что переводится примерно так: «Посоветуйся с подушкой».
Я очень хотел сказать ему: «Ты – прирожденный оратор». Но не смог. Не хватило знания английского языка.
И поэтому я спросил по-простому:
– Ты остановился в отеле?
– Я не помню, – честно ответил Юджин.
– Хорошо. Я могу спросить хозяйку моих апартаментов, даст ли она тебе комнату на ночь. Это типа 20–30 евро. Кажется, у нее оставалась свободная комната. У тебя есть необходимая сумма?
– Симпатичная?
– Кто? Комната или сумма?
– Хозяйка.
– Хозяйка? Ничего себе. Деньги у тебя есть?
– Нет проблем.
Я позвонил хозяйке. Аннетте. Типичной эстонке лет тридцати пяти. Похожей на Линду.
Рассказал о пьяном бесхозном англичанине с конкретными деньгами.
Пришлось поуламывать. Она очень боялась пьяных англичан. Пришлось взять обещание с Юджина, что он будет вести себя прилично. К половине одиннадцатого Аннетте согласилась.
На следующий день я не видел Юджина и почти о нем забыл. Да и Аннетте осталась как-то за сферой моих культурологических интересов.
Через неделю, перед отъездом я все-таки решил зайти проститься с Аннетте на завтраке.
Она сидела за стойкой бара. Далее вы, конечно, угадываете сами.
Рядом с ней сидел Юджин, который очень страстно сжимал ее ладони в своих. Поглядев на них, я понял, что им не до меня.
Все-таки, что ни говорите, на белом свете не так много интересных сюжетов.
А у вас есть на попе родинка?
Я уже как-то рассказывал: мой прапрапрадедушка купил мою прапрапрабабушку на рынке. Купил, полюбил – и взял в жены. Была она то ли бурятка, то ли калмычка, то ли монголка, то ли якутка. В историю семьи она вошла как Алевтина-Самоедка. Но как-то негласно все у нас ее считали монголкой. Таково фамильное предание. Что здесь правда, что вымысел, уже никто никогда не установит. Но могу сказать следующее.
С Алевтины-Самоедки, или, как ее звали просто, бабы Алёфы в нашем роду твердо установились три традиции.
Во-первых, у всех без исключения наших родственников по бабушкиной линии в лицах есть что-то монголоидное. Раскосая скуластость. Или скуластая раскосость – как угодно. Ни круглолицая мордва, ни беловолосые немцы, ни орлоносые евреи, ни волоокие персы, ни синеглазые поляки (кто только к нам в род не захаживал!) – ничего с монгольским эпикантусом бабы Алёфы сделать не смогли.
Во-вторых, Алевтина-Самоедка поселила в нашей родне непробиваемое спокойствие, уравновешенность и полное приятие жизни, какой бы она ни была. Бравый солдат Швейк с Винни Пухом отдыхают.
В-третьих – глубоко интимное. Баба Алевтина подарила нашему роду большую родинку на попе. Если хотите подробностей – могу показать. За десять долларов. Эта родинка в нашей семье – первый признак счастливой судьбы.
Я родился очень спокойным монголоидом с огромной родинкой на розовой попе. В рубашке, почти четыре килограмма. Врачам я сразу предъявил, как спецпропуск, две макушки и две фиги.
– Ну, здравствуй, Чингисхан. Какая у тебя сзади вишенка-то! Как у мамки. К счастью… – сказал врач. – Чего не кричишь? Положено. Ну-ка, давай!..
Я пару раз хрюкнул для порядка и заснул. Проснувшись через два часа, непродолжительным, но властным кличем степняка потребовал титьку. Подкрепившись, заснул обратно.
Примерно в том же стиле я живу уже больше сорока лет.
И вот через сорок с лишним лет меня вызывал к себе начальник, мой бывший однокурсник Сеня Бабаев по кличке Баба, и сказал:
– Поедешь в Монголию?
– Так вроде в Испанию собирались…
– В Испанию едет Блиномазова. У нее там связи. Сыркин – во Францию. У него там родня. Эмигранты в третьем поколении. Мартынюк – в Швецию. Он шведским владеет. А ты – в Монголию.
– А я что, монгольским владею?
– Овладеешь, если надо. К тому же там все по-русски говорят.
– Вот как значит… Кто куда, а лещ в коптильню…
– Там сейчас не жарко. И вообще… В зеркало на себя посмотри. У тебя же морда лошади просит. По сравнению с тобой Батый – истинный ариец. За своего там сойдешь. Шучу. Вот тебе приглашение с билетом, виза не нужна. В воскресенье вылет.
– А жить я там где буду?
– В юрте. Опять шучу. Отель «Чингисхан».
Все эти танцы-реверансы про Испанию с Францией, если честно, я исполнял больше для порядка. Мне давно очень-очень хотелось именно в Монголию. Зов крови. Вернее – бабы Алёфы.
К пятичасовым перелетам я привык. Тем более ночным. Не успею поесть и задремать – «пристегните ремни». За окном застывший, как в какой-то вселенской пантомиме, взрыв рассвета. В царапинах на иллюминаторе ослепительно-радужная солнечная паутина. Наверху – васильковая, выгнутая дугой, твердь неба. Внизу – горы, похожие на гигантское мятое бурое одеяло. Войлок предгорий. Изумрудное море степи.
Мы подлетали к Улан-Батору («Улаан-Баатару»). Начиналась облачность. Аппарат вошел в бурлящую паклю туч и завибрировал. Сели мягко. Самолет, как положено, зааплодировал.
Монголия встретила меня каким-то странным для этого времени раннего лета дождями и прохладой.
На выходе из аэропорта стоял лучезарно улыбающийся монгол, очень похожий на меня, с картонной табличкой. На табличке – моя фамилия.
– Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Сосорбарамын, – сказал он на чистейшем русском. – Я понимаю, что мое имя слишком сложное. Поэтому зовите меня просто Сашей. Или Сосо, если у вас есть грузинские корни. Но я отчетливо вижу, что у вас их нет. Так что остановимся на Саше. Познакомьтесь. Это – наш шофер.
Шофер, очень похожий на Брюса Ли, пожал мне руку и на таком же кристально чистом русском сказал:
– Томорчедорийн. Можно просто Тома.
В этот момент, а потом еще сильнее – я влюбился в монгольский язык, который я, разумеется, не знаю и не узнаю никогда. Он такой же сложный, как русский (а может быть, еще сложнее). Только русский отчасти причесан западным влиянием. А монгольский никто никогда не причешет, как маленькую, но непобедимую монгольскую лошадь. Причесывай ее, не причесывай – а грива все равно растреплется на ветру.
Слушая монгольскую речь, все время непроизвольно вздрагиваешь.
Есть такое немецкое имя Ганс. А по-монгольски «ганс» – это трубка. Национальный курительный прибор.
Есть такой хоккеист Буре. А по-монгольски «бурэ» – это священная ламаистско-буддистская труба.
Есть такой индийский город Дели. Столица. А по-монгольски «дели» – это национальный халат. Также называются и желтые одеяния лам. Когда маньчжуры завоевали монголов, они заставили их так вывернуть «манжету» халата-дели, что она стала похожа на копыто. Сверху – у́же, снизу – шире. Вы животные, – сказали маньчжуры. Когда же монголы стали освобождаться от маньчжуров, они вывернули ту же самую манжету таким образом, что она стала похожа на кулак (сверху – шире, снизу – у́же). «Мы вас выбьем этим кулаком», – сказали монголы. И выбили. Не без нашей помощи. А халат остался тот же. Сейчас, как хочешь, так и выворачивай.
Самое священное место в Монголии именуется Гандан. Это монастырь, часто называемый северной Лхасой. Его ироничные монголы называют … сами понимаете как. А наши ржут, как лошади Прживальского, кстати, очень уважаемого в Монголии человека.
Водка по-монгольски – «архи». Монголы ее по-русски интерпретируют: «Ах, родимая, хорошо идешь».
Что-то глубоко африканское есть в таких словах, как «домбо» (монгольская пиала для чая) и «саёмбо» (эмблема независимости монголов).
Словом, там все смешано, но остается глубоко местным.
– Вам повезло, Владимир, что вы приехали в Монголию летом, а не зимой, – сказал Сосорбарамын-Саша.
– Что, очень холодно?
– Нет, ничего не видно.
– ?
– В Улан-Баторе полно юрт. Юрта по-монгольски «гэр». А гэры надо чем-то топить. Монголы топят гэры чем попало. Вон вокруг сколько мусора, – он показал в окно.
Мы въезжали в пригороды Улан-Батора. Действительно, кругом было очень много юрт и очень много мусора.
Юрта. Вокруг утоптанная земляная площадка. Частокол. Все вместе называется «хашан». Между хашанами – живописные свалки.
– Гэры топят картонками, кизяком, старыми тряпками, – продолжал Саша. – А что делать? Как говорят французы, а ля гэр, ком а ля гэр. Ха-ха-ха! Зимой в Улан-Баторе видимость на дорогах – 50 метров.
– Ух ты!
– Улан-Батор чемпион мира по смогу.
– Да и сами дороги у нас, как видите, лучшие в мире, – сыронизировал Томочедорийн-Тома.
Да, трясло основательно.
– Дело в том, – продолжал Томочедорийн, – что монгол без лошади, как лама без дели. У каждого монгола должна быть лошадь. Пешком ходить мы не любим. Как у нас говорят: кумыс всегда лучше, чем моча, четыре всегда лучше, чем два. Но лошадей сейчас не очень-то подержишь. Кризис. А вот машина – это совсем другое дело. У каждого монгола есть машина.
– Прямо-таки у каждого?
– Почти. Монголия занимает одно из первых мест в мире по количеству автомобилей на душу населения. Кажется, второе, после Албании. Автомобили, конечно, не очень новые. Но они едут. У нас говорят: ходить пешком – все равно, что есть ногами. Сейчас мы въедем в Улан-Батор и вы увидите, Владимир, что Улан-Батор занимает первое место в мире по пробкам. Беда в том, что лошади не нужна дорога, а машине нужна. А этого-то мы и не предусмотрели.
Действительно, таких пробок, как в Улан-Баторе, я больше не видел нигде. Ну, разве что в Индии. Километр мы ехали больше часа. Трясло так, как будто тебя методично сажают на кол – и снимают. Снова сажают – и снова снимают.
– А почему-му до-дороги не ремонтиру-руют? спросил я, – заикаясь на уланбаторских колдобинах. – Де-денег, что ли не-нету?
– Деньги есть, – без заикания отвечал Сосорбарамын, по-кавалерийски маневрируя седалищем и тем самым гася ухабы. – То есть дело не в деньгах. Просто в Улан-Баторе конец вашей якутской вечной мерзлоты. Дорогу починил – а она вспучилась. Опять починил – она опять вспучилась.
Я не очень поверил Саше насчет мерзлоты. Во всем этом было что-то от аргументов дорожно-строительной политики московской мэрии.
Наконец мы приехали. Это была гостиница «Чингисхан». Очень красивое высотное здание в виде стилизованного гэра.
– Устраивайтесь, Владимир. Через час мы вас ждем внизу. Пойдем обедать.
– Куда?
– В ресторан «Чингисхан». Это недалеко.
В ресторане «Чингисхан» мы ели баранину, пили водку «Чингисхан» и говорили о Чингисхане. Во время обеда я узнал очень много интересного, во-первых, о баранине, во-вторых, о водке «Чингисхан», в-третьих, о самом Чингисхане. Не буду вдаваться в подробности. Сообщу самое главное.
Баранина. Жарить или варить баранину на огне – это вобщем-то варварство. Самое главное для приготовления баранины – это раскаленные до красна камни. Вариант первый: берете большой таган. В него кладется баранина. Сверху – картошка, морковка, специи и т. д. Что хотите. Все это заливается водой, сверху кладутся раскаленные камни. Вариант второй, еще более изысканный: берется барашек, свежуется, и внутрь него кладутся раскаленные камни. Я пробовал и то и другое. И то и другое не идет ни в какое сравнение с нашим шашлыком. Баран на камне, выражаясь банально, тает во рту. Говоря иначе, он как бы вкрадчиво, но властно обволакивает все вкусовые резонаторы, и ты находишься в сладком полуобморочном состоянии, похожем на состояние сладкого засыпания в детстве. Хотя надо сознаться, что я с детства даже при запахе нашей обычной жареной баранины теряю всякие нравственные ориентиры и готов ради нее на все, вплоть до государственной измены. Это, конечно, монгольские гены бабы Алёфы.
Водка «Чингисхан». Очень хорошая, мягкая водка. Секрет ее, как выяснилось, в том, что она не 40, а 39 градусов. Я очень уважаю Дмитрия Ивановича Менделеева, но 39 – это тоже неглупо. В них, этих 39-и есть какая-то манящая недосказанность. Некий эротизм умолчания и обещание чаемого.
Чингисхан. О нем можно говорить бесконечно. Как выяснилось, он изобрел табак, водку и кумыс (наверное, компас, порох и радио – тоже он). В Монголии Чингисхан везде. В домах и юртах монголов он часто висит в красном углу вместе с буддой. Монголы очень обижаются, когда им говорят, что Чингисхан не был монголом. Сейчас Чингисхан – самая популярная фигура планеты. Македонский, Наполеон, Тамерлан, Ленин и прочие исторические кровососы – пиявки по сравнению с Великим «арсланом» (львом) Чингисханом. Турки, татары, башкиры, узбеки, якуты, буряты и многие другие всерьез считают его своим. Однажды, года два назад, в подмосковной электричке я встретил полубезумного дедушку Анатолия Сергеича, который от Савеловского вокзала до Яхромы доказывал мне, прихлебывая пиво «Красный Восток», что Чингисхан был чистейшим славянином. К Чингисхану – на предмет сделать его своим – внимательно присматриваются персы и индусы. Китайцы давно уже сделали его великим китайским императором, совершенно не заботясь о национальности. Словом, двадцать первый век – век Чингисхана.
Я переночевал в очень уютном отеле Чингисхан и на следующее утро прочитал лекцию о российско-монгольской дружбе монгольским товарищам. Монгольские товарищи меня горячо поддержали. На банкете мы выпили за дружбу все того же «Чингисхана», сели в автобус и поехали в степь.
Я утверждаю: Монголия, если забыть о ее смогах и пробках, – самая красивая страна на земле. Утверждаю это как прапраправнук бабы Алёфы. Мытый малахит разнотравья. Скалы-горы таких причудливых форм, что от каждой новой хочется вскрикнуть. В них хочется вглядываться, как в облака. Вгляделся так – похоже на ящерку. Вгляделся по-другому – кленовый лист. Один раз я действительно вскрикнул, когда вместо белых юрт-гэров под скалой, похожей то ли на черепаху, то ли на человеческую голову, как мираж, появились разноцветные индейские вигвамы.
Оказалось, здесь снимали фильмы про индейцев. Те самые, из моего детства, с югославским актером Гойко Митичем, которому так хотелось подражать. Особенно тому, как он легко запрыгивает на крыши и скалы выходом силой сразу на две руки.
На поворотах дороги, как заснувшие часовые, высились груд камней-«обо», обереги путников.
Мы пообедали в гэре, погуляли по степи, по лесистому склону священной горы Богдо-Ула. Там пахло хвоей и карамелью. Ветер колебал траву. Она была то густым темно-зеленым бархатом, то, метнувшись в противоположную сторону, ослепительной фольгой.
К вечеру мы поехали назад, в Улан-Батор.
Я понимаю, что есть миллион описаний закатов. Но, описывая закат в миллион первый раз, скажу, что здесь, в Монголии, он – мыслящий, или, лучше сказать, словно бы ворожащий. Он действительно похож на разумное существо, на какого-то алого шамана, медленно растворяющегося в воздухе и торжественно творящего свое предсмертное камлание. Поверьте: это не стилистическая фигура. Это – правда.
Следующий день был моим последним днем в Монголии. Вечером предстояла поездка в аэропорт. А рано утром я поехал в монастырь Гандан, где у меня была заказана экскурсия.
В Гандане меня встретил лама Василий. Лет тридцати пяти. Бурят по национальности. Мы были очень похожи: оба в очках, коротко стриженные, с одинаковыми эпикантусами. Василий – чуть выше и плотнее, нос слегка приплюснутый. Он проводил персональную экскурсию. Мы подружились.
Не помню, сколько десятков тысяч тугриков стоила эта экскурсия. Тугрики похожи на подшивки «Литературной газеты» за 1973–1975 годы, которые я упорно храню на антресолях у себя дома. Зачем – неясно. Наверное, из любви к Слову. Кажется, четыре тысячи тугриков – это один доллар. Но я могу ошибиться: у меня плохо с математикой.
Я выдал Василию подшивку литературных тугриков, и экскурсия началась. Сначала Василий рассказал и показал мне все, что полагается, про Гандан. Я это пересказывать не буду: об этом можно прочитать в книжках. Или съездить и посмотреть, что интереснее. Потом мы разговорились.
– По профессии я математик, – сказал Василий. – Закончил мехмат в Улан-Удэ. Потом – аспирантуру. Когда я защитил диссертацию по компле́ксному анализу, я вдруг внезапно понял, что Будда был прав… Вы случайно не математик?
– О нет! Скорее наоборот…
– А кто, если не секрет?
– Не секрет. У нас в МГУ говорят, что факультеты бывают точные, естественные, неестественные и противоестественные. Так вот я – с противоестественного факультета. Преподаю такие странно-туманные вещи, как, скажем, семиотика, герменевтика и культурология.
– Ясно. Вы – мировед-космолог.
– Вроде того.
– Так вот там, в моем математическом комплексном анализе, есть такая загадочная величина «I». Так называемая мнимая единица. Никто не может понять, что это такое, но она есть, и без нее никак нельзя обойтись. И вот в один прекрасный момент я вдруг понял, вернее, почувствовал, что «I» – это и есть та самая буддийская Великая Пустота! И поехал учиться сюда, в Гандан. Закончил я сначала факультет восточной медицины…
– Ух ты! И вы умеете лечить?
– Нет. Вернее: умею, но не могу. Не имею права. Дело в том, что диагноз надо ставить по пульсу. А для этого нужны очень чувствительные чуткие пальцы. Но я раньше занимался боксом. Был даже мастером спорта и чемпионом Улан-Удэ в полутяже…
Вот пальцы и отбил… Вы, кажется, не занимались боксом? – спросил он, внимательно глядя на мой нос.
– О нет, – сказал я, скашивая глаза к переносице. – Я ничем особо не занимался… Так… как говорится, конной греблей на коньках… И вообще я больше насчёт поесть…
– Ясно. Хорошее дело. Одобряю. Так сказать, кишкоплут-любитель….
– Вот-вот…
– Так что пришлось мне идти сначала в астологию, а потом уже – в Цанит.
– Что это такое?
– Высшее ламаистское богословие.
Ничего себе, думаю: мастер спорта по боксу, кандидат математических наук, медик-астролог, богослов… а я – профессор-треполог, который, чтоб не сдохнуть с голода, с утра до вечера преподаёт «жи-ши» абитуриентам. Стыдно, Вова.
– Сегодня в четыре буду защищать диплом.
– Ух ты! Тема, если не секрет?
– Никакого секрета. Если по-простому, то примерно так: «Развитие идей классической буддийской школы Вайшешика в доктринах Галупты и творчество ундер-гегена Заназабара 80-90-х годов 17 века».
Я помолчал:
– Это, значит, если по-простому…
– Ну да… Наверное поеду года через три на Тибет в Лхасу.
– Завидую, – вздохнул я.
– Сейчас в Лхасу можно всем. И вам можно. А раньше туда никого не пускали. Даже самого Рериха не пустили в Лхасу. И Пржевальского тоже.
Василий внимательно посмотрел мне в глаза.
– Извините, но мне кажется… как бы это лучше сформулировать… Вы – наш человек.
– В смысле – бурятский монгол?
– И это тоже.
Я рассказал ему вкратце историю Алевтины-Самоедки.
– Интересно, – сказал он. – Очень интересно. Хотя дело, разумеется, не только в вопросах крови… Знаете что, когда приедете в Москву, попробуйте померить себе глаза.
– ?
– У бурханов, скульптур будд, о которых я вам рассказывал во время экскурсии длина глаз – четырнадцать ячменных зерен, а ширина – четыре. Померьте себе глаза. Нет, нет, вы, конечно же, – не будда! И я тоже не будда. Но есть некие внешние мистические признаки… как бы это сказать… предрасположенности к поиску Великой Пустоты.
– Ой!
– Да. Это глаза, мочки ушей, форма пальцев на руках и ногах, конфигурация пятки… Ну и так далее. Есть и еще всякие разные признаки. Но о них можно не говорить. Они очень редки. Так сказать, факультативны.
– Почему же?! Очень интересно! Говорите, говорите…
Василий помолчал, как-то странно оглянулся вокруг себя влево:
– Ну, скажем, родинка… извините… на попе.
Теперь помолчал я. Потом несвойственным мне глухим фальцетом спросил:
– С какой, разрешите полюбопытствовать, стороны.
– В принципе можно с любой, – очень серьезно и вдумчиво ответил Василий, – но желательно слева. И побольше. А что?
– А то самое, – сказал я сдавленным басом, поправив очки заговорщически кивнув головой куда-то назад влево и вниз.
– Поразительно! – хриплым шепотом воскликнул Василий, тоже поправив очки. – И у меня, простите, то же самое…
После небольшой паузы он твердо добавил:
– Нам с вами обязательно надо съездить в Лхасу.
С Василием мы переписываемся по интернету, собираемся на Тибет. Когда соберемся – не знаю. И проблема даже не в деньгах и не в отсутствии свободного времени. Дело-то ответственное!
Бывает, пардон, приспустишь слева штаны перед зеркалом, поглядишь на нее, родную, и думаешь: «А вдруг я лама?» Как сказал классик, принц неизвестной породы. Инкогнито с мистической отметиной?
Интересно, была ли родинка на попе у Чингисхана?
Кстати, а у вас есть на попе родинка? Если есть, предлагаю познакомиться…