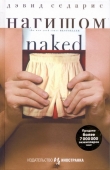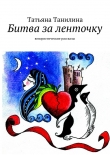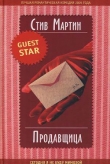Текст книги "Рассказы (СИ)"
Автор книги: Владимир Елистратов
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 47 страниц)
Кузя, блин!
Мы очень часто путешествуем вчетвером: моя жена, я, мой друг Дрюня и его жена Лена. Такая у нас сложилась компания.
Лена – девушка очень хорошая. Она почти всегда молчит и улыбается. И очень любит своего Дрюню.
Девичья фамилия у Лены – Кузькина, и поэтому Дрюня, то есть Андрей, у которого совсем другая девичья фамилия – Покусаев, называет свою жену Кузей. Точнее так: «Кузя, блин». Хотя Лена Кузькина давно уже Лена Покусаева, всё равно она остается «Кузя, блин». Два эти слова как-то незаметно срослись в одно, примерно как «плащ-палатка», «штык-нож» или «диван-кровать», и по отдельности в дружной семье Покусаевых не употребляются.
«Кузю, блин» Дрюня поминает ежеминутно. Например:
– Я тебе, Кузя, блин, говорил, а ты, Кузя, блин, не слушала!
Или:
– Сидим вчера в ресторане, а Кузя, блин, ничего не ест. Я её спрашиваю: «Ты чего, Кузя, блин, ничего не ешь?» А Кузя, блин, отвечает: «Худею». Вот, Кузя, блин!..
Живут они вместе уже давно, и Дрюня, или Дрюшок, Дрюшкевич и т. п., так свыкся с Кузей, блин, что вспоминает о ней даже тогда, когда её нет рядом. Идёт по улице, споткнётся – «Ой, Кузя, блин!» Выпьет кружку джина (Дрюша всё пьёт из своей любимой баварской пивной кружки) – поморщится, помотает головой и опять помянет Лену хриплым шепотом: «Хот… Кузя, блин…плохо пошла!» Любит Дрюшок свою Кузю, любит, блин.
Так вот, мы часто путешествуем вчетвером. С Дрюней и Леной путешествовать очень весело, потому что Дрюня – большой затейник и шалун. Чего-нибудь с ним обязательно произойдёт.
Например, он очень любит говорить по-английски, хотя языка английского не знает.
Пришёл он как-то в ресторан (дело было в Таиланде) и говорит:
– Виноу. И салатоу.
Хозяин не понимает. И он, надо сознаться, не виноват. А у Дрюшка уже жилы на шее пухнут и глаза кровью наливаются. Это нехороший признак: парень он долгопрудненский, конкретный паренёк. В Долгопе непонятливых не привечают. Там на тех, что без смекалки, сердятся. Не в моде там нерасторопность, в Долгопе-то. Не в чести.
– Виноу, понял?! И салатоу, Кузя, блин!
Не понимает таиландец Дрюню. Ну что ты будешь делать! «Салатоу» – ещё так сяк, смог додуматься, межеумок. А «виноу» – ни в какую. Ситуация, конечно, из рук вон. Но Дрюня тоже не виноват, просто он помнит из своей «средней школы с матуклоном», что многие английские слова заканчиваются на «оу». Типа «гоу». А другие на «инг», вроде «спиннинга». Но к вино «инг» как-то не лепится. «Вининг» – это как-то… не так. «Вининг» – это явно не само вино, а когда его квасят. «Вининг» – это пьянка. А под вино нужно «оу». Не надо Дрюню путать! Вино – это «виноу». Турист – «туристоу». Это ж так просто! Чего тут непонятного?.. Кузя, блин! Тем более, что, например, в Испании или в Италии дрюнино «виноу» шло на раз. А эти монголоиды тормозят.
Словом, никому неизвестно, чем бы закончился весь этот стремительно назревавший кровавый «салатоу», если бы не подоспели мы.
Зато уже после это случая Дрюшок твёрдо запомнил слово «вайн» и уверенно заказывал где-нибудь в Китае или Эмиратах:
– Вайн и котлетоу. Гарнира не надоу.
А то, помню, приехали мы в Афины, залезли на Акрополь. Ходим, смотрим. Парфенон, Эрехтейон, храм Ники Аптерос… Чудесный вид сверху на театр Диониса. Хорошо! Только Дрюша ходит тревожный какой-то. Я его спрашиваю:
– Ты чего, Дрюнёк? А? Что случилось-то? Не хандри. Ты отвлекись! Смотри, красота-то какая! Парфенон… Колоннада какая!..
– Да нет, всё нормально, – говорит Дрюня. – Столбы хорошие, ровные. Просто я вайна два литроу забульбенил и две тарелки каких-то гадоу морских сожрал. Чего-то мне плохоу. До ветроу бы мне… А то позоринг будет.
– Так в чём же проблема-то? Проблемы-то нет. Тут у них с этим делом не то, что в Москве – культурно. Порядок везде. Как в ленинской комнате. Не степь, Европа. Иди с Богом, отметься.
Дрюня и пошёл отмечаться. А мы ходим, наслаждаемся античностью, дышим героическим воздухом Древней Эллады. Вдруг смотрим: стоит Дрюшок. В Пропилеях. Жевалки гуляют, руки дрожат. Держит Дрюня какое-то малорослое лицо греческой национальности чуть ли не за шиворот говорит ему с выражением:
– Я же тебя, грек, как друга, по-зарубежному спрашиваю: уэа уборная, комрад?! А? Уборная… Понял? Отхожее местоу! Сортир, понимаешь? Писинг я и по-крупному очень хочу, Кузя, блин!.. Кабинет задумчивости где?.. Ну, куда царь пешком ходит, пенёк ты афинский…
Ах, как вовремя мы нашли Дрюню! А то позоринг был бы на всю Элладу.
Правда, потом, когда он узнал, что над входом в мужское «отхожее местоу» написано его имя, он долго возмущался. Хорошо, конечно, что по-гречески Андрей – мужчина. Но зачем же его на сортире писать?..
Да, Дрюня – большой затейник. С ним не пропадёшь. И не потеряешься. Потому что его «Кузя, блин!» – великая вещь, из любого лабиринта выведет.
Однажды решили мы, опять же, вчетвером, полететь на остров Крит. Сказочный остров, зеленый. А главное – там находится знаменитый Кносский дворец, тот самый мифический Лабиринт, где обитал Минотавр.
Приехали мы в Кносс. Красотища неописуемая! Решили разбрестись на часок. Договорились встретиться в условленное время «там, где р;ги». Так Дрюшка сказал. Имелись в виду знаменитые каменные бычьи рога – символ, так сказать, крито-минойской древней цивилизации. Там, у «р; гов», начинаются всё экскурсии. «У р; гов» – это по-кносски что-то вроде «у памятника Пушкину».
Приходим мы с супругой ровно через час «туда, где р;ги» – нету Кузи с Дрюней. Ладно. Ещё побродили, поглядели на росписи, на изумительной нежности растительный и животный орнамент, на сцены тавромахий – это те самые игры с быками, где удивительно пластично изображены гимнасты, прыгающие через быков, на воинов с лабрисами – топорами с двусторонним лезвием, тоже символом критской культуры, на женские портреты, равных которым, думаю, по изяществу в древнем мире не было. Хорошо! Опять пошли к «р; гам». Нету Дрюни. И Кузи тоже нету. Куда они могли деться? Заблудились, что ли? Кносский дворец, он, конечно, не очень большой. Это вам не Амстердамский аэропорт и не ГУМ, но, что ни говори, всё-таки лабиринт.
Прошло уже часа два. Ходим мы с супругой по лабиринту, как Тесей с Ариадной, ищем Кузю, блин, с Дрюней. Всё обошли. Зашли в какой-то дальний уголок, уже безо всякой надежды, вдруг слышим родную речь. Дрюнино шипение:
– Говорю ж тебе, Кузя, блин, что р;ги вон там!.. Кучу столбов видишь? И левее бери, левее, там ещё ангар, ну, где стенка с утя́ми, помнишь?!;ти там, дичь в лютиках, лося разные… Шкет ещё там через бурёнку сигает… Помнишь, Кузя, блин?!. Чуваки с фигурными лопатами ещё… И бабы в декольтах, грудявые такие… Вот от этого ангара с комиксами влево надо брать, там и будут р;ги, Кузя, блин!
Так мы нашли Дрюню с Кузей, блин.
Понятное дело, что «;ти», «дичь в лютиках» и «лося» – это животный и растительный орнамент, «шкет, сигающий через бурёнку», – сцена тавромахии, «чуваки с фигурными лопатами» – воины с лабрисами, «грудявые бабы в декольтах» – знаменитые женские портреты, а «ангар с комиксами» – центральный зал дворца с росписями, от которого «р;ги», действительно, если смотреть с Дрюниной стороны, влево. Даже, можно сказать, «влевоу».
Так с Кузей, блин, и с Дрюней мы поездили изрядно. Странах в десяти уж точно были. И без нас Дрюня с Кузей поездили дай боже. И сейчас они где-то. То ли в Австралии, то ли в Канаде.
И вот каждый раз, когда я сажусь в самолёт и самолёт, белый красавец, взмывает над планетой Земля, я закрываю глаза и пытаюсь представить себе нашу Землю.
И передо мной встаёт колыхающаяся в знойном бреду Сахара. И седые пики Андов с парящими вокруг них фиолетовыми кондорами. И изумрудные осколки коралловых островов в выпуклом, как линза, океане. И рычащие африканские водопады с сотнями никогда не умирающих радуг. И наши среднерусские серенькие дали, целующие в самое сердце. И какие-нибудь антарктические, говорят, голубые льды, которые я никогда-никогда не видел и вряд ли увижу…
И над всем этим чудом, над всей этой до слёз ранимой, такой теплой, родной и такой вообще-то бестолковой детской сказкой, которую так и не поняли взрослые, я слышу крики моего друга, Дрюни Покусаева из Долгопы, словно отчаянные позывные в далёкие галактические бездны: «Кузя, блин! Ку-узя, бли-ин!! Ку-у-узя-а-а, ба-али-и-ин!!!»
И я не знаю, что я чувствую. Так, что-то среднее. Мне, конечно, немного смешно. Но чуть-чуть всё-таки – «грустноу». Совсем чуть-чуть.
Бедный, бедный, дядя Ёжик!
Прошлым летом я пару недель гостил на даче у моих друзей, Кирилла и Александры Тяпкиных.
Кирилл называет свою жену в шутку Сосо, в честь крайне темпераментного певца, сложную грузинскую фамилию которого я забыл. Знаю только, что он поёт очень эмоционально. И Саша тоже поёт очень эмоционально, когда выпьет.
Саша называет Кирилла Киром. А после того, как они купили пылесос «Кирби», так и стала его называть, Кирби. Вероятно, потому что Кир очень любит поесть, отчего весит под сто двадцать. Иногда Сосо говорит: «Жрёт, как „Кирби“, всё подряд».
У Кирби и Сосо есть четырёхлетняя дочка Аня. Все её зовут Нюшей.
Словом, хорошая, дружная семья.
Однажды в субботу утром Кирби и Сосо уехали в соседний городок на рынок за продуктами, а я остался с Нюшей.
Детей я люблю, но немножко побаиваюсь. Мне всё время кажется, что они меня видят насквозь. У них глаза очень … прозорливые что ли, как у участкового. Говоришь этой карапузине что-нибудь взрослое и умное, а она на тебя посмотрит, как в прицел, и неожиданно – раз, и своё, простое и ясное, как правда.
Вот и тогда.
Я закрыл ворота за Сосо и Кирби, Нюша тут же взяла меня за руку, и мы пошли на веранду.
– Видишь цветок? – сказала Нюша. Среди травы действительно вырос ноготок. Откуда он взялся?
– Вижу, – ответил я. – А знаешь, как он называется?
– Неа.
– Календула. А знаешь, как цветок устроен?
– Неа.
– У цветка есть тычинка и есть пестик… Вот, смотри – это тычинка. А вот это – пестик. Нет, наоборот, это – пестик, а это – тычинка. А знаешь, что такое пыльца?..
– Неа.
– Пыльцу собирают пчёлы, а потом из неё пчёлы делают мёд. Ты, Нюша, любишь мёд?
Нюша внимательно смотрела куда-то в середину моего лица.
– У тебя козявка в но́се, – сказала Нюша.
Я смутился и быстро ликвидировал козявку:
– Не в но́се, а в носу́, – пробурчал я.
– Козявки ручками нельзя из носу́ вынимать, – назидательно сказала Нюша, качая указательным пальцем где-то напротив моего пупка. – Положь её назад в нос. Для того, чтобы вынимать козявки из носа́, существует специальный платок. Поклади немедленно обратно козявку, – она подумала и добавила: – Кому говорят! А я тебе платок принесу. Нерях. Я знаю, где платки лежат – в шка́фе. Сплошная некультура!
И она побежала за платком. Ну что ты будешь делать? Нелепейшее положение. Сначала затеял какую-то никому не нужную кретинскую лекцию про тычинки, про которые сам, кстати, ничего не знаю. Да еще с козявкой «в но́се». Представляю себе: выхожу я на лекцию по культурологии и стою перед студентами с козявкой… Это же… кошмар. Они, шкоды, потом такое на сайте МГУ напишут. Весь факультет будет обзывать меня Профессором Козявкой. Ужас! Представить страшно!
Дальше… как папуас, полез при ребёнке за козявкой пальцем в нос. А ведь позавчера, в четверг, сами хором с Кирюхой полчаса читали Нюше лекцию про то, как надо есть вилкой и ножом, как пользоваться салфеткой, носовым платком и так далее. Это ведь она наши же слова и повторила. «Некультура». «Нерях». А теперь – совершенно идиотская ситуация. Надо обратно в нос класть козявку… Господи, что же мне делать-то?
– На́ платок, дядя Вова, – сказала запыхавшаяся Нюша.
Я по-воровски быстро провёл платком по носу.
– Спасибо.
– Пожалуйста, на здоровье.
Слава богу, не заметила отсутствия козявки. А то ещё заставила бы искать…
– Пойдём читать книгу, – взяла меня за руку Нюша.
– Пойдём, а какую?
– Сказки. Мне тётя Поля привезла новую книгу. Сейчас принесу.
Нюша принесла угрожающе большую книгу. Автор – некая Роза Цветкова. Имя мне сразу категорически не понравилось. Называлась книга так: «Сказки доброй-доброй феи». Название мне не понравилось ещё более категорически.
Мы сели на веранде напротив друг друга. Между нами был большой фамильный дубовый стол.
– Ну, читаем саму первую сказку? – спросил я Нюшу.
– Да.
– «Сказка про снежинку», – прочитал я заглавие, и мне сразу стало капельку тошно. Сейчас наверняка какая-нибудь девочка будет сидеть у окна, а бабушка – вязать чулок. Вы видели, чтобы в 2009 году хоть одна бабушка вязала чулок? Девочка, конечно, увидит снежинку, та с ней заговорит и окажется «доброй-доброй феей», потом они полетят в волшебную страну и через три страницы прилетят обратно. И девочка проснётся…
– «Однажды вечером, – начал читать я и сразу был неприятно поражён звучанием своего голоса. Он был какой-то маслянисто-сахарный. Марципановый. С ванильными переливами и мармеладными подвываниями. – Однажды долгим зимним вечером девочка Аллочка сидела у окна и задумчиво смотрела, как идёт белый-белый снег. А её старенькая бабушка сидела в кресле, и надев на нос круглые роговые очки, вязала чулок…»
Вот-вот, так и знал… Именно чулок!
– «Снег шёл гусыми-густыми хлопьями. Он ложился на ели, дубы, берёзы и осины, – читал я не своим голосом, – и весь лес был белый-пребелый. Ах, как красиво, думала Аллочка. Она хотела сказать об этом бабушке, но когда повернулась к ней, увидела, что бабушка уже спит и чулок со спицами выпал из её добрых морщинистых рук. Не буду будить бабушку, подумала Аллочка… Она старенька и устала… Лучше я буду и дальше смотреть на снег. Какой он красивый, совсем, как в сказке! Ах, как хочется попасть в сказку! Но только… я никогда-никогда не попаду в неё. Тут Аллочке стало так грустно-прегрустно, что она чуть не заплакала…»
Белый-пребелый, грустно-прегрустно… Надо же писать такую чушму.
– Тебе нравится? – спросил я Нюшу.
– Она дальше в сказку что ли попадёт? – не отвечая на мой вопрос, спросила Нюша.
– Ну да, наверное…
– Нет, не нравится.
– Почему?
– Я уже знаю, что там дальше будет. Сейчас с ней заговорит снежинка. А потом позовёт её в сказку. А снежинка превратится в фею. Они немножко полетают-полетают и вернутся. Фея скажет: «До свидания, девочка!» И Аллочка проснётся.
Я пробежал сказку глазами. Ага… «Вдруг Аллочка услышала таинственный голос: Здравствуй, девочка…»… «Снежинка превратилась в прекрасную фею в серебряной короне…»… «Не бойся, девочка, – сказала фея, – сейчас мы полетим с тобой в Страну Добрых Сказок…»… «Ах, это был всего лишь сон! – воскликнула Аллочка…»… «Если веришь в сказку, – сказала бабушка, – обязательно в неё попадёшь. Верь в свою мечту, внученька»…
– Ну, будем другую сказку читать? – спросил я.
– Нет. Ты неправильно читаешь сказки.
– Это как это – неправильно? – обиделся я.
– Как радио. По-сюсипусински.
– Как?
– «Здра-авствуй, де-евочка…» – мастерски передразнила Нюша радиосказочников, а заодно и меня. А сказки надо читать по-человеченски.
– Ладно… «По-человеченски». Не умею я сказки читать. Что же мы будем делать?
– Разговаривать. Тебе сколько лет?
Я немножко обалдел от резкой перемены темы, так что даже забыл, сколько мне лет. Потом вспомнил и сказал:
– Сорок три.
– Три я знаю. А сорок это сколько?
– Ну, это… ты «десять» знаешь?
– Знаю. Сорок – это четыре раза по десять. или лучше… Тебе вот четыре года. Так? Значит, сорок – это десять раз по четыре. Ясно?
– Мне не четыре года, а четыре с половиной. Значит сорок – это сколько?
Я задумался. Потому что считать не умею.
– Это где-то… сейчас посчитаю… четыре с половиной на два – это девять. Четырежды девять – это тридцать шесть. Получается восемь раз и еще четыре года на ум пошло. Ясно?
– Неа. Ты старый или нет?
– Трудно сказать. Вроде – ещё не очень…
Нюша внимательно посмотрела мне в лоб.
– Ты старый.
– Почему это – старый?
– У тебя полоски на ло́бе.
– На лбу. Какие полоски? А-а-а! Морщины, что ли? Ну, морщины – это еще не старость. Если ты брови поднимешь, то у тебя тоже будут полоски… то есть, тьфу, морщины. Просто у людей так устроена кожа, что…
Но Нюша меня уже не слушала:
– С тобой неинтересно разговаривать.
– Почему это неинтересно? – я очень возмутился, даже расстроился.
– Ты непонятно говоришь. Надо говорить или мало и понятно, или много, но интересно. Если много и интересно – тогда получится сказка. А ты говоришь много и неинтересно, как радио. Давай лучше играть.
– Ну, давай. Во что?
– В еду.
– Это как?
– Я говорю свою еду. Плюшка. А ты говоришь другую свою еду. На «а».
– Понятно. На «а»… М-м-м… Скажем… Арбуз.
– Селёдка.
– Ты на «зэ» должна говорить. Арбуз пишется с «зэ».
– Но я же не пишу, а говорю.
– А если сказать «арбузы», то слышно «зэ». Значит, арбуз на «зэ».
Моя логика была железной, я был горд собой. Но на Нюшу моя железная логика не подействовала.
– «Арбузы» – так говорить нельзя.
– Почему нельзя?
– Потому что можно назвать только одну еду. Нельзя говорить «селёдки», «плюшки»… Говори на «а».
– Почему на «а»?
– Потому что «селёдка».
– Ну ладно… А… А… Антрекот.
– Это кто?
– Не «кто», а «что». Это такое особое мясо, чтобы жарить.
– Так нечестно.
– Почему?
– Потому что «кот» – это тоже мясо. Но это не еда.
Я опять растерялся:
– Но ведь антрекоты не из кошек делают. Впрочем, кто их знает, из чего они их делают… «Котлета» ведь можно говорить.
– «Котлета» – не на «а». Мя́сов много. Все нельзя называть. Ты тоже мясо, если для людоеда. Ты боишься людоеда?
– Я не знаю, я его не видел.
– А я видела в мультике. Ты не умеешь играть в еду. Покажи мне лучше страшную рожу.
– А у меня получится?
– Показывай.
Я сморщил нос, оскалился, закрыл глаза и идиотски оттопырил пальцами уши. Нюша засмеялась.
– Это не страшная рожа, а смешная. Покажи другую смешную рожу.
Я надул щёки, вытаращил глаза и верхней губой закрыл нижнюю. Нюша очень долго и внимательно, совсем не улыбаясь и как бы чего-то выжидая, смотрела на меня:
– Смотри не пукни. С такой рожей надо какать на горшке в детском саду. А ты уже старый. А старые на горшках в детском саду не сидят. Как тебе не стыдно! Убери рожу. Сделай лицо обратно.
Я «сделал лицо обратно». Нюша вздохнула:
– Ничего-то ты не умеешь… Ты бесполезный. Ты где работаешь?
– В университете.
– А это кто?
– Не «кто», а… Ну, это такая школа для взрослых. Туда идут после школы, кто хочет ещё учиться.
– Ещё – потому что плохо учился в школе?
– Наоборот. Если хорошо.
– Непонятно. Если в школе ты хорошо учился, зачем ещё дальше учиться? Ну, ладно… Что ты там делаешь?
– Преподаю.
– Что подаёшь?
– Ничего не подаю. Преподаватель – это как учитель.
– Так ты – учитель?! – неподдельно изумилась Нюша.
– Ну да… А что?
– А чему ты учителяешь?
– Чему учу? Это, Нюша, трудно объяснить. Знаешь вот… культура, всякие книги, языки…
– Как же ты учишь про культуру, если козявки руками из носа вынимаешь? И книгу читаешь неинтересно. И язык непонятно говоришь…
Я вздохнул. Нюша тоже вздохнула:
– Жалко тебя, дядя Вова.
– Правда – жалко?
– Правда. Давай я тебя занюшу.
– Это как? Ну, пожалею. Нюша тебя пожалеет. Занюшит. Хочешь?
– Хочу.
Нюша слезла со стула, обошла стол, по-деловому залезла мне на колени и стала гладить меня по голове…
– Бедный, бедный дядя Вова, старенький, весь в полосках, сказки читать не умеет, играть в еду не умеет, весь некультурный, говорит неинтересности, бедный, бедный дядя Вова… Хороший, но несчастный дядя Вова. Дай я тебя поцеловаю.
И Нюша чмокнула меня в щёку:
– Ещё и колючий. Можно, я буду звать тебя «дядя Ёжик»?
– Можно.
Так я с тех пор и стал в семье Тяпкиных «бедным дядей Ёжиком». А ещё с тех пор я стал делать вот что.
Если вдруг я чувствую, что какой-нибудь мой коллега-профессор слегка, как говорится, задирает нос выше ватерлинии, думая, что он светило и светоч, я аккуратно приглашаю его в гости к Тяпкиным и как-нибудь в субботу мы с Тяпкиными едем за продуктами в близлежащий городок, а профессора оставляем наедине с Нюшей.
Очень помогает.
Не хотите съездить к Нюше? Художникам-авангардистам рекомендуется порисовать вместе с Нюшей каких-нибудь авангардных монстров. Композиторам – исполнить Нюше свои новые музыкальные композиции. Актерам – прорепетировать роль. Политикам – поговорить с Нюшей о политике и т. д. и т. п. Словом, к каждому взрослому я приставил бы по Нюше. Впрочем, заводите Нюш сами, если у вас их ещё нет.
Жора и атипичка
В одном древнем медицинском трактате написано: «Болезнь начинается со страха перед ней». Очень хорошо сказано. Актуально.
Если послушать современные СМИ, нам всем надо срочно запереться дома, обмотаться на манер мумии Маресьева марлей, надеть бронежилет, противогаз, двойной презерватив, тройной памперс, закрыть глаза и постараться навсегда остановить дыхание. И никаких путешествий!
То какой-то куриный грипп, то коровье бешенство, то хомячья чумка, то крокодилья чесотка, то козлиный кариес…
Ребята, надо с этим делом умериться. Нет, целоваться взасос с индийскими коровами, может и не надо. Но путешествовать надо! Вопреки всем этим верблюжьим почечуям.
Помню, пару лет назад, когда по всему миру «свирепствовала» атипичка, со мной произошла вот какая история.
Мой шеф, Аркадий Аркадьевич Лютик, говорит мало, медленно и тихо. В целом он произносит где-то 20–30 слов в день. Почти все его фразы состоят из одного слова. Значительно реже – из двух. Если во фразе два слова, значит шеф крайне возбужден. Поэтому фраза «иди сюда» не предвещает ничего хорошего. А «ну-ка иди сюда» означает увольнение. В тот день, 15-го, шеф был в хорошем, ровном настроении и говорил однословными предложениями. Он вызвал к себе в кабинет меня и Жору Козлодавова и сказал:
– Таиланд. Семнадцатое.
– Аркадий Аркадьевич, так ведь там эта…как её?.. атипичная пневмония!.. – сказал Жора. Ну, не сдержался парень. Я толкнул его локтем в бок, но было поздно.
– Деза, – после тяжелой паузы произнес шеф. Он вообще-то полковник ФСБ-КГБ в отставке. «Деза» – это значит, для тех, кто не в курсе, дезинформация. У него, кстати, есть еще одна фраза, самая длинная в его лексиконе, для выражения той же мысли: «Это – для людей». Например:
– Как же мы поедем-то туда, Аркадий Аркадьевич, там ведь беспорядки, там опасно… Вон по телеку Бог знает что показывают…
– Это – для людей.
– Так значит, это все ложь?
– Деза.
В общем, Таиланд, семнадцатое. Остальную информацию без всякой дезы мы должны были получить от нашего бухгалтера Эммы Эдуардовны Абдурьянц.
Информация была дежурной: недельная командировка, с 17 по 23. К 1-ому числу следующего месяца – два полнокровных материала по пятнадцать страниц каждый. Командировочные. Билеты сдать. Все как всегда.
– На фиг туда тащиться! – гундел, как оса в банке, Жора, когда мы выходили из редакции. – Пятнадцать страниц я хоть завтра накатаю. Возьму путеводитель – и накатаю. Чего я там не видел-то?.. Пневмонии, что ли, сарса этого?.. Насморка этого обезьяньего?.. И вообще там черт знает что. Тайландки эти… Подхватишь какую-нибудь гванделому… атипичную, а потом лечись всю жизнь… Ну, Лютик, ну, гебюк!.. Развел тут ежовщину. Как во Францию, так Алку, а как куда-нибудь кошке а анус, так давай, Жора Козлодавов!.. Нашел Матросова, чекушник проклятый… Подхвачу там эту…чахотку носорожью…
– Алка французский знает… А ты по-французски «мерси» с «пардоном» путаешь, – заметил я.
– А причем тут французский? Я и по-английски тоже не очень. И что теперь из-за этого человека на верную смерть посылать? Материалы-то я ему по-русски буду писать. Списали бы из путеводителей – и гуляй. Какая у них там столица-то?.. Пномпень, что ли?
– Сам ты пномпень ушастый. Бангкок у них столица.
– Ну вот. «Мы бродили среди величественных зданий столицы Таиланда Бангкока. Грандиозные храмы соседствовали с лачугами бедняков…» Ну, и прочая кучерявая галима… Что я, мало в своей жизни такой сивушной хохломы написал?.. Да я и без путеводителя могу. «Мы познакомились с Хуаном в самом центре Ханоя…»
– Бангкока.
– Ну, Бангкока. «Хуан оказался типичным таиландским парнем. Широкая добрая улыбка озарила его лицо…»
– Хуан – испанское имя.
– Возьму карту, спишу название какого-нибудь города, сойдет за человеческое имя. Не мешай.
– «Мы разговорились. Хуан рассказал о себе».
– Это на каком же языке вы разговорились-то?
– На ихнем, на каком же еще?.. Какой у них там язык-то?
– Тайский.
– Вот на нем и разговорились. «Хуан жил в самом центре Сеула…»
– Бангкока.
– Бангкока. «Он пригласил меня в гости. Это была типичная таиландская квартира. Жена Хуана приготовила очень вкусное блюдо. Оно называется…» Дальше сдуваем рецепт из книжки. Ну и дальше. В том же бодром духе. Вот уже страница готова. А есть я там у них ничего не буду. А то корь какую-нибудь мышиную подхвачу…
– И что, думаешь, это очень интересно читать?
– А вот это уже меня не чешет… Я вам не Агата Кристи, у меня оклад другой…
Мы расстались у метро. 17-го встретились в Шереметьево.
Самолет был полупустой. Немного тайцев, немного наших, десяток-другой европейцев.
Как назло одна тайская пара сидела за нами. Причем таец все время чихал. Он чихнет, а тайка смеется. Он чихает – она смеется. Жора все девять часов полета не умолкал.
Таец:
– Апчхи!
Тайка, в рифму:
– Хи-хи-хи!
Жора, в ужасе закрывая лицо носовым платком:
– Смотри, чего, татаромонгол, делает, а?.. Бармаглот атипичный. Чихает внаглую, хоть бы прикрылся. Обсарсил меня всего, как кобель клумбу. Эй, морячок, ты хоть отворачивайся. Чихай вон на свою китайку. Господи! Вот ведь Лютик удружил… Его бы сюда…Ну, Аркадий Гестапыч…
– Апчхи!
– Хи-хи-хи!
– Эк-ка его атипичного разбирает! И брызгается еще, как лейка своей кабаньей ангиной…. Всё, уже точно заразил, прохвост тайландский. Чувствую. Жар в копчике. Это верный признак. Вовк, пощупай…
– Копчик? Сам щупай.
– Нет, лоб. Не горячий?
У Жоры лоб был выпуклый и прохладный, как осенняя антоновка.
– Нормальный.
– Нормальный… – передразнил Жора. – Помру вот, будешь мой гроб из Пхеньяна вывозить…
– Из Бангкока.
– Без разницы. Господи, еще семь часов мучиться. Сколько у сарса этот…кубанционный период?
– Инкубационный?… Не знаю. Короткий…
– Ачхи!..
– Хи-хи-хи…
– Во! Семнадцатый раз заражает, гад. Короткий, говоришь? Значит: чих-пых – и остопырился, Гаврюша. Без мучений. Это хорошо. А жить-то хочется. Ну Лютик-Пестик…
– Апчхи!..
Так продолжалось весь полет.
Прилетели, сели в автобус. Хороший, удобный автобус, с кондиционером. Скоро въехали в город. Жора с сонной ненавистью смотрел в окно. Платок продолжал держать у лица. Мы уже минут тридцать крутились по городу, когда Жора, судорожно зевнув, спросил:
– Это уже Шанхай?
– Бангкок.
– Ну, Бангкок. Уже он?
– Он. Мы уже полчаса по нему ездим.
Кругом были лавочки, жаровни, безмятежные тайцы в шлепах. Многие улыбались. Тайские детишки норовили помахать нам руками. Мы то и дело обгоняли открытые, без стекол, автобусы, набитые людьми.
– Сколько же их тут! – изумлялся Жора сквозь платок. – И хоть бы один намордник надел. И куда ихние ветеринары смотрят?
В одном из автобусов вдруг мелькнул пожилой таец с марлевой маской на лице.
– Во! – взорвался Жора. – Вот она – атипичка. Видал? Видал Хоттабыча в марле? А-а-а! Я же говорил! Хоть один сознательный желток нашёлся. Старый пёс! Жить хочет… А эти шалопаи, – он обвел рукой открывающуюся перед нами перспективу многолюдной торговой улочки, – эти – как наши. Даже хуже. Пока гром не грянет, монгол не перекрестится. Ну, народец!.. Да ведь через год от этого ихнего Сайгону ничего не останется. Все поляжут от своей хороьковой дезинтерии.
– Бангкок это, а не Сайгон, – с безнадежностью в голосе поправил я.
– Ну и…
– А этот в марле от смога спасается. Во всех мегаполисах мира люди повязки носят.
В Токио, в Нью-Йорке, даже у нас в Москве. Смог. Понимаешь?
– Рассказывай!..
– Нету в Таиланде сарса. Ни одного случая. Они все меры приняли. Понял?
– Рассказывай!..
– Был в Таиланде какой-то один завалящий француз, да и тот болезнь во Вьетнаме подцепил.
– Ну и?..
– Изолировали его. А больше нет случаев.
– Рассказывай!..
– Тьфу!
Жора – странный человек. Если какую-нибудь чушь себе в башку втемяшит – всё! А уж если дело касается здоровья – полный стоп. Когда несколько лет назад все заговорили о сальмонеллёзе, Жора так испугался (мы тогда были в командировке в Турции), что полностью отказался от приёма пищи. Неделю ходил с вытаращенными глазами. Даже фрукты не ел.
– Да не может быть его во фруктах, Жора, пойми ты это!
– Рассказывай.
И хотя он упорно путал сальмонеллёз с целлюлитом и говорил – «целлюманулит», всё равно диету держал до тех пор, пока не начал скатываться к дистрофии. Но тут СМИ придумали какую-то новую страшилку – и Жора быстро переключился на неё. Из-за страха перед СПИДом Жора так и не женился. Не ел говядину из-за коровьего бешенства и кур. Сами понимаете – грипп. Зато одно время со страстью увлекался уринотерапией – и одновременно – пивной диетой. Пока серьёзно не заболел. Словом, странный человек Жора. Хотя, если разобраться, таких странных у нас полстраны. А где-нибудь в Америке каждые девять из десяти – Жоры Козлодавовы.
В гостинице на нас надели венки из лотоса и орхидей очень симпатичные тайки. Гостиница – шикарная. Сервис – как у тёщи в гостях.
– Окольцевали, – простонал Жора. – Как покойников. Венками. Щас тапочки белые выдадут, архаровцы.
Он ходил по гостинице странными вихляющими лисьими тропами, стараясь держаться от тайцев на расстоянии метров в пять. На рисепшене стоял в трех метрах от стойки. Заходя в номер, на всякий случай обрызгивал его освежителем воздуха «Тайга». Завтракал одними тостами – в шесть, пока нет народу. Ужинал перед самым закрытием. Руки, как параноик, мыл каждые тридцать секунд. Если кто чихал – отпрыгивал в стойке, как на ринге.
Во время экскурсий Жора продолжал мужественно бороться с атипичкой. Даже от изваяний будд на всякий случай держался на расстоянии.
– Они тут все заодно, – говорил сквозь платок Жора. – У них много жизней, а у меня одна.
Потом мы ездили на крокодиловую ферму, смотрели крокодиловое шоу. Мужественный таец таскал крокодила за хвост, засовывал ему в пасть голову. Жора комментировал. Через платок, разумеется:
– Видал, какая рептилия тормозная. Это ж отморозок, а не крокодил. Он же больной. Атипичный. Ему реальную репу в рот кладут, а он… Я бы давно откусил. Сарс, он с крокодилов начался. Это точно, я в газете «Ещё!» читал. Вовк, пойдем отсюда. Меня этот Гена сейчас заразит. Я чувствую. У меня ноги вспотели. Верный признак. Пощупай…
– Да пошёл ты… Плюс сорок в тени, вот они у тебя и вспотели. Ты чего в кроссовках ходишь? Да ещё в шерстяных носках. Надень тапки-то на босу ногу.