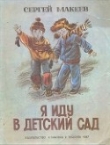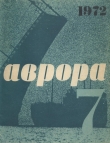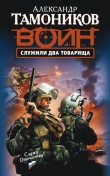Текст книги "Три повести"
Автор книги: Владимир Лидин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 46 страниц)
В конце декабря был отпущен из госпиталя домой на четыре месяца один из раненых – Григорий Чуйко. К ранению в руку прибавился начавшийся процесс в правом легком. Пока Чуйко находился в госпитале, освободили его родное село на Днепре: он не был дома с начала войны. Он лежал крупный, большеносый, с темноватым лицом, чуть тронутым редкими рябинками, с первыми седыми нитями в черных волосах. Наташе нравился этот сильный, рассудительный человек. Покидая госпиталь, он оставил свой адрес.
– А может, окажетесь еще в наших краях, – сказал он, блестя большими, хорошими зубами, – уж такую бы радость доставили…
– Что ж, может быть, – пообещала Наташа. – Будем поблизости, непременно заеду.
Они и распростились с тем, что еще встретятся.
Месяц назад Наташа получила письмо от матери: мать готовилась к переезду из Саратова в Москву к старшему сыну – теперь единственному ее, Наташи, брату – Сергею. Только маленькая фотографическая карточка Кости, которую в начале войны передал ей Соковнин, – это было все, что осталось от Кости… Но мать, проделав великие странствия в самую тяжелую пору, была жива. Начальник госпиталя, по-прежнему отечески оберегавший Наташу, обещал при первой возможности отпустить ее в Москву для свидания с матерью.
Но все вдруг опрокинулось в одно утро. С почтой, доставленной в госпиталь с попутным связным самолетом, пришло на ее имя письмо. Почерк на конверте был ей не знаком. В конверте к листкам незаконченного письма Соковнина была приложена написанная под его диктовку приписка: «Это письмо перешлют вам уже после моего отъезда. Утром меня отправляют в Киев в глазную клинику: зрение мое испорчено, видимо непоправимо. Посылаю письмо, писавшееся на протяжении нескольких дней. К сожалению, перечесть его не могу».
Наташа отложила письмо, глядя мимо, в окно, за которым талая, вдруг ослабевшая, стояла зима. Она вспомнила лето в самом начале войны, и дочерна загоревшего лейтенанта, принесшего ей письмо от брата, и случайную последнюю встречу на переправе через реку с почерневшей тяжелой водой…
Потом она надела шинель и прошла через двор к начальнику госпиталя.
– Николай Александрович, – сказала она, – вы обещали отпустить меня к матери в Москву. Прошу вас – отпустите меня в Киев. Мне это необходимо.
…Весь день несло ледяную крупу. Потом пошел степной зимний ливень, со свистом ветра накидываясь на человека, по щиколотку в грязи бредущего к продутой насквозь своей хате.
Григорий Чуйко вернулся в такую дождливую ночь. Два часа блуждал он по степи и не мог найти родного села. Какие-то сожженные хаты возникали в тумане, какие-то голые разлапистые деревья, гиблая тоска опустошенных мест. Он был отпущен домой на четыре месяца; с его правым больным легким была проделана операция – в легкое был вдут воздух: называлось это странным словом, которое Григорий не запомнил. Он так и не добрался до родного села, и только по мрачно темневшему остову ветряной мельницы определил, что находится вблизи соседнего большого села, где жила мать жены. Тяжелая грязь налипала на сапоги, иногда он проваливался в глубокие лужи и останавливался, чтобы набрать дыхание. Рукава его шинели были мокры, под намокшей шапкой остывал, холодя голову, пот. Ветер тонко свистел в острых листьях неснятой кукурузы или волчьим воем ныл в телеграфных столбах с порванной проволокой.
В соседнем селе его встретили такие же сожженные хаты. Все было глухо, черно и мертво. Он прошел мимо нескольких развалин и увидел строение, наполовину сгоревшее. Только стебли очерета и кукурузы, которыми оно наскоро было покрыто, означали, что из остатков своего жилища человек соорудил подобие пристанища. Григорий нащупал дверь и вошел в дом. Плошка с коптящим фитилем едва освещала его. На лежанке уцелевшей печи, подперев голову руками, лежал лицом вниз человек. Его тяжелое дыхание сопровождалось судорожными глотками нехватавшего воздуха, – казалось, у человека были только обрывки легких, и Григорий сам ощутил в эту минуту все то болезненное, что было и у него внутри…
– Здравствуйте, – сказал он, снимая обеими руками мокрую шапку. – Не скажете мне случаем – чи жив кто из Чуйко?
Человек поднял голову, но женский отзывчивый голос с печи опередил его ответ:
– Вам кого из Чуйко? Вы-то сами кто будете?
– Я – Григорий Чуйко. А ищу свою жинку, а може, кто еще из ро́дни на́йдется.
На печи зашевелились, и босая, еще степенная женщина проворно спустилась с печи.
– Григорий Чуйко? – спросила она, приблизив к его лицу плошку. – А я думала, что и в живых вас уже нема. Да мы же ваши родичи.
Она подняла плошку над своей головой, и он узнал Алену, старшую сестру жены.
Минуту спустя он уже сидел рядом с больным ее мужем и жадно слушал про все, сам дивясь томлению и горькому покою в себе после дождя и пустынного окаянства ночи.
– Ах боже мой, – говорила женщина, – черный, як земля, лицом стали… боже, боже! Серденько мое! Нема наших чоловиков, всих нимци погнали. Один мой остался, да чи он жив, чи не жив – сами подивитесь.
Муж ее был ранен немцами в легкое еще в прошлую мировую войну. Свыше двадцати лет свистело и сипело у него в груди, и он мог спать лишь лицом вниз, подперев руками голову… Галя была жива: свыше полутора лет скрывалась она от немцев, и им так и не удалось угнать ее. Он должен был сейчас же, еще этой же ночью, ее увидеть. Но хата его была сожжена, и Галя с матерью жили в землянке. Женщина пошла проводить его до землянки. Опять дождь заплескал в лицо, и в оголенных ветвях шумел ветер. Вскоре они дошли до низенького входа в землянку. Чуйко спустился по ступенькам и открыл дверь. От керосиновой лампочки с приспущенным фитилем тяжело пахло плохо очищенным бензином.
– Галя! – позвал Чуйко в полумрак, и она сейчас же, будто ожидала его прихода, кинулась к нему…
– Гриша! – сказала она со стоном и припала к его груди. Он обнял ее. Сестра ее отвернулась и, тоже заплакав, выбралась из землянки, чтобы не мешать им.
– Ты ли это, Гриша? – спросила Галя, отрываясь от него и вглядываясь в столь изменившееся его лицо. – Болел ты, что ли? – спросила она скорбно.
– Так… ранило маленько, – ответил он уклончиво: он побоялся сказать, что у него туберкулез.
– И сивый какой стал, – сказала она еще, проведя рукой по его волосам.
– Ну, обо мне что говорить… ты о себе скажи. Не надеялся я тебя еще увидеть.
Он посмотрел в сырую темноту землянки. Со стен ее меж наскоро сбитых досок капала вода. Это было все, что осталось от ладного, любовно построенного им в счастливые годы жилища. И жена – была ли эта постаревшая женщина той Галей, той звонкой, той певуньей, той ни перед кем не склонившей гордой своей головы? Морщинки лежали на ее потемневшем лице, и вся она была не прежняя, не та, точно были выпиты из нее лучшие соки жизни.
– Ну, как они у вас тут, немцы? – спросил он хмуро. – Народу много угнали?
– А всех, – ответила она просто, – ни дивчат, ни хлопцев – никого не найдешь. Пишут, си́роты несчастные, письма из немецкой неволи. «Передаю я вам свой скучный привет з чужой стороны… дуже скучила я за вами и за своей ридной Украиной, дуже хочется до дому, побачить усих вас…» – сказала она нараспев, точно причитая.
Он смотрел на нее – никогда она так не причитала. Изломали, покалечили ее гордую душу. И как бы ни сложилась вновь жизнь, какой бы ладный ни построил он заново дом, – этого никогда не изжить, не забыть… Может быть, самым страшным было для него сейчас, что он вынужден оставаться здесь со своим больным легким, когда нужно действовать – каждый день, каждый час, каждую минуту.
– Как жить-то теперь будем, Гриша? – спросила она, показав на черный мрак сочащейся влагой землянки.
– Как-нибудь будем. Зиму надо прожить. А к весне последнего немца с Украины прогоним.
– Старая я стала, страшная, – сказала она горько. – Два года тебя не было, а мне кажется – двадцать.
Она отвыкла от него и дичилась, не решаясь принять его ласку.
– О брате моем ничего не слыхала? – спросил он, помолчав.
Она покачала головой.
– Ничего.
– Да, в пустыню хотели они превратить Украину… Вот эту жизнь они нам готовили – в точности… вот как мы с тобой в землянке, как кроты, без света, в черной темноте сидим!
Она прислушалась вдруг женским чутким слухом к его учащенному короткому дыханию.
– Нет, не тот ты, Гришенька, – тихо сказала она, – болеешь, я чувствую.
Он молчал, липко облитый по́том внезапной слабости.
– Другого мужа тебе надо искать, – сказал он, не щадя себя. – Туберкулез у меня… а в правое легкое воздух мне вдули, чтобы совсем не работало.
Знакомая улыбочка тронула вдруг ее губы, и нежность – давняя, та, за которую он ее полюбил, которую вспоминал эти два года разлуки, – осветила ее лицо.
– Нет для меня лучшего, – сказала она, обняв его за шею рукой и пряча лицо у него на груди, – и хоть бы без ноги, без руки ты вернулся – краше для меня нет никого.
Он с силой поднял за подбородок ее голову и, посмотрев ей в глаза, припал к ее ждавшим этого мига губам…
Бензин в лампочке догорал, и она тихо потрескивала, угасая. Григорий Чуйко был дома – сейчас служила ему домом землянка, но назавтра надо было начать новую жизнь. Он стал расспрашивать ее о соседях и родичах.
– И из Кравченко нет никого, – отвечала она, – и Шепелей всех до единого немцы угнали… одна бабка осталась. А Евстрата Петровича убили немцы, и Мишу Васенко тоже убили.
Он не уснул в эту ночь. И даже мирное, утоленное дыхание жены рядом с ним не могло привести его в равновесие. Только под утро он забылся тяжелым, не приносящим отдыха сном.
На другой день, повидав всех родичей и соседей, всем показавшись и на всех посмотрев, он медленно стал надевать еще не просохшую с вечера шинель. Жена следила за ним, лицо его было хмуро.
– Далеко ли, Гриша? – спросила она осторожно.
– Так… на село посмотрю, – ответил он нехотя, – что у вас тут делается.
Но она уже знала: тесно ему в доме после простора войны. Так уж устроен мужчина, что нужно всегда ему действовать, и никакая домашняя тишина и уют не заменят ему главного – действия. Она больше ни о чем не спросила его. Он не вернулся и к вечеру, и она тщетно прождала его с ужином. Он возвратился только к полудню следующего дня – спокойный, повеселевший, тот – прежний, привыкший действовать Григорий Чуйко.
– Ну, Галю, давай обедать… я голоден, – сказал он свежим голосом. Он сел за стол и сразу принялся за борщ. Даже скулы его слегка порозовели. – Обошел я село, – сказал затем он, насытившись и свертывая папироску. – По правде, я уже ни на что не надеялся… а тут восстановить можно многое. Маслобойка – это раз… ее недельки через две можно будет пустить. Мельница – это два, только крылья подправить. А у нас люди без муки, зерно толкут в ступах. Школу пока хоть для младших классов открыть, – в любой хате, в две смены. И учителька на месте. Побывал я и на машинно-тракторной… тракторов, конечно, не осталось, а мастерская цела, и слесарный инструмент Егор Иваныч припрятал.
Он вытащил вместе с бумажником большую записную книжку, знакомую ей, Гале, еще с той поры, когда был он председателем колхоза. Он как бы снова был уже там, на поле, среди разоренного войной некогда обширного хозяйства, и она приняла это как необходимое.
– Конечно, и в год, и в два не восстановишь, что было, – говорил он между тем. – А все-таки маслобойку и мельницу пустим, в школе занятия начнем, ремонт инвентаря наладим, теперь скоро к весне…
– Ты что же, Гришенька, опять в председатели? – спросила она робко. – Лежать тебе надо сейчас.
Но он только досадливо отмахнулся:
– В гробу належусь.
Нет, не надолго зашел он в родной дом. Только на один вечер хватило блаженной его расслабленности, – он был снова уже подобран и озабочен.
Неделю спустя, вернувшись домой, он сказал коротко:
– Утром готовь подсолнухи. Повезем давить масло, – но ноздри большого его носа с довольством раздувались.
Масла не было ни у кого, и на другой день у маслобойки стояли женщины с привезенными на саночках мешками подсолнухов, и тяжелая густая струя свежей олеи лилась в подставленные бутыли и олейницы: в этот день во всех уцелевших домах пекли оладьи, и Чуйко, принюхиваясь к сытым запахам, усмехался.
– Немцев этим тоже бьем, ты не думай… – сказал он жене, – и что ребята начали в школу ходить – этим тоже бьем.
Она с тревогой наблюдала, как он худеет, но все они были такими – все три брата Чуйко, и может быть, именно за размах, за упорство она и полюбила его в свое время. Он проводил дни на машинно-тракторной станции: он был в свое время механиком на паровой мельнице, и теперь с бывшим бригадиром Егором Ивановичем они начали ремонт нескольких уцелевших сеялок и лобогреек. Но пусто было сейчас без тракторов на просторном дворе с проржавевшими бочками из-под горючего.
– А к весне, может, и тракторишек подбросят. К могиле, Григорий Петрович, готовились… и трактористок наших угнали немцы.
Он был тот же, Егор Иванович, – низенький, седенький, в больших очках – бригадир и знаток тракторов, два года тосковавший, когда приходила весна: впервые в его жизни не следовало запахивать землю, чтобы возможно меньше родила в эти годы обильная и добрая земля Украины.
Половина села была сожжена. Но возле сожженных хат началась уже жизнь, и дымок шел из уцелевшей печи, и дважды в день бежали уже в хату, временно превращенную в школу, ребятишки…
Так и не пришлось Макееву побывать в доме брата Чуйко, о чем просил его тот, когда покидал Макеев сахарный завод.
XIВосстановительный поезд, после постройки моста через Днепр, отводился теперь в тыл – на работы по восстановлению станционных построек. Феня решила перейти в какой-нибудь госпиталь, – двигаться в обратную сторону от фронта она не хотела. Ее отпустили. Было уже под вечер, когда с попутной машиной переправилась она по наведенному мосту через Днепр. В черной воде плыли алебастровые куски подорванного льда. Точно начало другой жизни, не похожей на предыдущую, возник в зимнем тумане правый берег Днепра. Там, позади, остался поезд с полюбившимися ей спокойными, с достоинством носившими свои истасканные халаты узбеками и огонь их печурки, на которой с утра и до ночи кипел огромный закопченный чайник…
Утром Феня сошла на окраинной уличке ближнего города; теперь оставалось недалеко до фронта. Страшное опустошение встретило ее в этом людном когда-то и чистеньком городе. Правая сторона главной его улицы была сожжена, – левую сторону немцы, видимо, сжечь не успели. Почерневшие и опаленные, стояли пирамидальные тополя, некогда дававшие прохладу и тень. Покореженное гофрированное железо ставен магазинов, поваленные телеграфные столбы, битые изоляторы… Но хотя был город разорен, на восстанавливаемой станции железной дороги уже деловито гудели паровозы, и в большом, поврежденном упавшей поблизости бомбой доме железнодорожников обосновались на первоначальное житье приехавшие восстановители путей.
Возле уцелевшей водопроводной колонки Феня разговорилась с приветливой немолодой женщиной, дожидавшейся, пока набежит в ведра вода. Обе они друг другу сразу понравились.
– Золотко мое, да тут люди нужны не знаю как, – сказала женщина отзывчиво. – Вы к товарищу Олейнику в горсовет загляните… он теперь председателем. Он вас с руками возьмет и определит куда нужно. А может, и насчет мужа поможет узнать… он ведь с партизанами работал до этого.
И чтобы не подумала Феня, что она хочет знать о ней лишнее, подняла свои ведра, готовая уйти.
Горсовет временно разместился в сохранившемся помещении разграбленного музея. Феня отыскала скромную узенькую приемную председателя и села в стороне, дожидаясь своей очереди.
Свыше двух лет назад покинул Олейник свой кабинет председателя городского Совета. Все в городе – от сахарного завода, электростанции, мясного комбината до кустарных часовых мастерских – было ему знакомо в подробностях, почти до каждого человека в отдельности. За шесть лет его работы здесь разросся, включил в городскую черту бывшие свои предместья город; там, где были огороды, теперь стояли фабричные здания, и где зарастали немощеные улицы чернобыльником, теперь были асфальт и камень…
За несколько дней до захвата немцами города Олейнику с группой партийных работников было поручено организовать партизанский отряд. На открытое партийное собрание походило первое совещание в лесу – уже в немецком тылу, возле Знаменки: директор сахарного завода, начальник районной милиции, секретарь городского Совета, врач районной больницы, пожарные из городской охраны, рабочие заводов – многих знал он, Олейник, по именам – и трактористы, и комбайнеры… За два года борьбы в немецком тылу повидал он смерть в такой близости, что она стала как бы подробностью боевого рабочего дня. Как иногда планировались в порядке городского благоустройства и роста предприятий города – постройка новой батареи диффузоров на сахарном заводе, прокладка новой линии водопровода, увеличение мощности электростанции, – так планировались теперь удары по вражеским коммуникациям, по путям подвоза боеприпасов и подкреплений противником. Два года, как кровеносная пульсирующая система, дышала перед ним расчерченная, изученная до каждой проселочной дороги карта области. Лишь иногда люди из его отряда отвлекали себя нападениями на отставшие обозы или заночевавшие в селах штабы: главной их целью оставались дороги. Они стали дорожниками, изучив до диспетчерской точности пропускную способность основных линий железной дороги, рокадных веток, шоссе, грейдерных и заново прокладываемых немцами дорог.
За первый месяц своей работы отряд – с потерями в людях – подорвал один воинский эшелон; три месяца спустя он свалил под откос меньше чем за две недели три воинских состава, из них два – груженные танками. Началась борьба, длительная, упорная, утомительная, повседневная. Опрокидывался состав – немцы за два дня освобождали путь для движения; подрывались автомашины – вслед им шли новые колонны машин; разбирался на большом протяжении железнодорожный путь – приходил незамедлительно восстановительный поезд. Борьба казалась не имеющей конца и предела.
Но уже к концу первого года можно было почувствовать, что немцы устали. Уже не так быстро восстанавливали они поврежденный путь; не в таком количестве шли на смену подорванным новые автомашины; не с такой уверенностью двигались поезда и колонны машин. Автоматчики нервически прочесывали пустые пространства. Немецкие овчарки вынюхивали обочины дорог и полосы отчуждений вдоль линии, чихая и теряя чутье от насыпанного табака и вымоченных в керосине опилок. Автодрезина, спокойно проносившаяся по железнодорожной насыпи, наводила следовавший за ней поезд на мину. Как рассасывается плотина от первой проточившей ее струйки воды, так приходила постепенно в расстройство огромная немецкая машина, предназначенная для разрушения и уничтожения.
Но только два года спустя, вернувшись в свой город, сев за свой стол председателя городского Совета, Олейник смог в наглядности, в приближении увидеть действие этой машины… ничто не было упущено, ничего не было забыто в деле смерти и уничтожения. Половина города была сожжена. Но что произошло с домами, которых немцы сжечь не успели? Они стояли без единого признака жизни. Ни одного стекла в окнах; ни мебели; ни дверных ручек; ни заслонок и дверок в печах; ни оконных приборов; ни одного выключателя; ни одного следа электрической проводки. Только солома и сено на полу, как в хлеву; целые склады чудовищных соломенных валенок; только сотни мятых, раздавленных тюбиков из-под мазей… мазей от всего: от обмораживания, от потенья ног, от укуса насекомых; пакетики пудры от вшей – все ползучее, чешущееся, зудливое, шелудивое, в сыпях, – это было единственное, что немцы в изобилии оставили в городе. Все было испорчено, своровано, загажено, подорвано.
Свыше двух недель ходил он по знакомым местам, как проходят по кладбищу. Но кладбище означает смерть, а город должен был жить.
Здесь, в наскоро приспособленном кабинетике, еще не сняв куртки, в которой партизанил, провел он первое совещание вернувшихся директоров городских предприятий и инженеров. На восстановление нужны многие месяцы; что можно сделать сегодня, сейчас? Обе турбины на электростанции были подорваны, но пока частично может дать ток уцелевшая загородная станция… хотя бы заводу, хотя бы поликлинике. Два дня спустя – переключенный – в городе загорелся свет. Это был еще робкий свет, еще не повсюду, еще с авариями из-за перегрузки, но это был свет. Полтора года водопровод действовал лишь в домах, которые были заняты немцами. Инженеры обследовали водопроводную сеть – она была цела в основном: первую очередь после ремонта можно было пустить через неделю. Вода и свет. Теперь – хлеб. Хлебный завод подорван – сколько тонн могут выпекать кустарные хлебопекарни? Поблизости есть полевые хлебопекарни – можно договориться с военными организациями. Будут хлеб, свет и вода – будет жизнь. Появились учреждения – рабочих и сотрудников надо кормить. Сколько уцелевших помещений можно приспособить под столовые? Как партизанская карта дорог еще месяц назад, так оживала подцвеченная акварелью карта города. Дети. Их сотни – сирот, потерявших матерей, потерявших отцов. Два старых врача вернулись из сел, где скрывались от немцев. Здание больницы разрушено, – можно начать прием в поликлинике. Один из врачей примет на себя попутно оборудование детского дома…
В разорении, в пепелищах, но город начинал жить. В него возвращались из окрестных сел убежавшие жители. Неделю назад на его улицах можно было увидеть только одинокие фигуры; теперь в нем уже было движение. Покидая город, немцы были убеждены, что оставили одни пепелища; но город был жив.
Феня вошла в кабинетик с длинным, покрытым красной материей столом, упиравшимся в наскоро приспособленный, обшарпанный стол председателя. Олейник сидел в меховой облезшей куртке: здание было не топлено, лопнувшие радиаторы лежали на лестнице. Только железная печурка с выведенной в дымоход трубой еще сохраняла робкое тепло.
– Садитесь, – сказал Олейник ей коротко. – Что у вас?
Он показался ей жестким и недружелюбным: скуластое его лицо было как бы накрепко замкнуто.
– И с делом я к вам, и не знаю, сказать как…
Он посмотрел на нее внимательно. Острые морщинки протянулись от углов глаз, – лицо его смягчилось.
– Ну, так какое же дело?
– Партизанская я жена, – сказала Феня, – может, след моего чоловика найти поможете…
Она опустила голову. Только, подняв ее снова, она поразилась участию его преобразившегося лица.
– Ну, ну, говорите, – подбодрил он ее. – Я вас слушаю.
Она рассказала ему все – больше, чем хотела. Олейник слушал ее. Только теперь она поняла жесткость его настороженного лица… было от чего стать настороженным.
– Как ваша фамилия? – спросил он.
– По покойному мужу – Грибова. А по нынешнему Макеева имя должна бы носить…
Знал ли он Макеева? Он не ответил ей. В партизаны уходили без имени. Да и мог ли он случайно пришедшую женщину признать за его жену?
– Вот что я вам скажу… подождать еще надо. – Минуту, щурясь и как бы что-то прикидывая, он смотрел в окно, покрытое толстым, слабо пропускающим дневной свет инеем. – У вас документы есть?
Она заторопилась:
– А как же…
Он просмотрел ее справки.
– Тогда так… – сказал он коротко, – оставайтесь пока здесь. Устроим вас на работу – хотя бы при детдоме.
– Что же… да я с полной радостью…
Он написал ей записку.
– Вот с этим пройдете к заведующей детдомом.
Она поднялась.
– Дожидаться-то долго? – спросила она робко.
– Недолго. – Он посмотрел ей в глаза. – Теперь недолго.
Она осталась с детьми. Их привозили из района, безотцовых, худых, с огромными глазами, узнавшими взрослое горе. Война ломала семьи, пропадали без вести отцы, были угнаны немцами матери. В приспособленном под детский дом здании бывшего педагогического техникума теперь находились дети. Но ни шума голосов, ни беготни, ни игр – ничего этого не было. Точно вытравили в этих чудом уцелевших существах, редко улыбающихся, с торчащими ключицами, со скорбными глазами, чувство детства. Они были взрослыми, много узнавшими, потерявшими близких, повидавшими смерть. Отмывая в корыте их худые тела, нашептывая им слова нежности, Феня представляла себе, что то же могло бы быть и с ее ребенком… Но когда стали отходить, теплеть эти детские души, когда начал оживать от детских голосов дом, когда обнимала ее за шею худенькая рука мальчонка, прощавшегося с нею на ночь, и уже нужна становилась она этим потянувшимся к ласке вчерашним заморышам, – она поняла, как тоскует, что у нее нет ребенка.
– Вот вернется батько твой, Гришенька, – говорила она, подтыкая на ночь одеяльце мальчику, – придешь ты в свою хату… напечет мамка богато кнышей и паляниц…
– И вишневого взвару наварит, – добавлял он.
– И вишневого взвару наварит, – соглашалась она. – Вот, скажет батько, Гришко мой родненький, отвоевал я с немцами, побил их богато, чтобы никогда носа не совали на ридну Украину нашу. А теперь начнем хату чинить да белить…
– И плетень новый ставить.
– И плетень новый ставить…
– И на горище приберем, – все хозяйствовал он.
И она соглашалась, что надо прибрать и на горище, и поправить трубу, которая дымит, и завести кабанчика, и качек[39]39
Уток.
[Закрыть], чтобы было богато, и чтобы у него, Гришка, были тетрадки для школы… Она постепенно привязалась к нему. Две недели спустя, когда взвешивали на весах его худенькое, с торчащими ребрами, тельце и весы отметили, что в нем прибавилось два килограмма, она была почти счастлива. Однажды, забывшись или, может быть, охваченный сильным чувством тоски, он назвал ее словом, которого так недоставало ему:
– Мамо…
– Спи, спи сынок, – ответила она, кладя ему руку на голову, и он затих от этой утерянной им ласки.
И, как всегда в детстве, было позабыто самое худшее и осталось одно только лучшее… стал этот дом, где его приютили, родным, и стала она вместо матери. Но и она нашла выход своей тоске в этом белоголовом, уже начавшем полнеть мальчонке, унаследовавшем, вероятно от матери, карие прекрасные глаза…
Был уже конец января, и дни стали расти – еще исподволь, еще незаметно, но в солнечные полдни начиналась с крыш первая капель, и розовые теплели крыши, и – обманываясь солнцем и теплом – по-весеннему начинали петь петухи. Немцы все еще цеплялись за Днепр, но самое страшное для них только готовилось.
Морозы, державшиеся в январе, надломились. Начались сырость и таянье. Обнажились за городом озимые. В один из таких талых дней Феня встретила возле детского дома Олейника. Он сам окликнул ее, узнав еще издали.
– Ну как, все дожидаетесь? – спросил он, приглядываясь к ней и как бы стараясь прочесть бо́льшее, чем могла она ответить.
Она опустила голову.
– Все дожидаюсь.
– Ну, значит, дождетесь, – сказал он уже весело.
Она спросила быстро:
– А что? Или что-нибудь новое есть?
Он ничего не сказал, но по тому, как нетерпеливыми шагами он шагал по грязи и как по временам, точно внюхиваясь в воздух, почти закидывал голову, можно было почувствовать, что большие события близки.
Она еще долго стояла на углу, глядя, как шагает он, в меховой своей вытертой куртке. Потом почти одним духом она взбежала по лестнице. Гришко, уже скучая без нее, дожидался на верхней площадке.
– Ох, Гришко, – сказала она, подхватив его на ходу и целуя в шею, в макушечку, в щеки, – може, батько наш скоро вернется, – и, держа его поперек тела, повернулась с ним несколько раз…