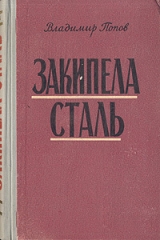
Текст книги "Закипела сталь"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
17
Секретарь ЦК осанистый средних лет мужчина с упрямым подбородком и энергичным рисунком рта, удивился, узнав, что Гаевой просит приема, и, когда тот вошел в кабинет, развел руками.
– Оставить завод в таком положении? Как вы могли? Вас не вызывали.
– Я по неотложному делу. Прибыл доложить, что кислой брони не будет.
– И для этого летели?
– Да. Считаю, что вы как можно скорее должны знать истинное положение. Почтой – долго, по телефону о таких вещах нельзя. – И Гаевой рассказал о заседании парткома, о беседе с Ротовым.
Секретарь ЦК слушал, внимательно рассматривая Гаевого. Глаза живые, загорающиеся, в уголках губ решительные складки. Жесты, движения замедленные, а то вдруг порывистые, что бывает у людей горячих, но сдерживающих себя.
– Нужно выходить на предложенный инженерами путь, – заключил Гаевой.
– Вы убеждены, что этот путь правильный?
– Убежден.
– Не ошибаетесь? Вы ведь механик.
– Парторг обязан разбираться в элементарных вопросах всего производства.
– Правильно. Но этот вопрос не элементарный.
– Нет, он проще, чем кажется. Здесь мы столкнулись с консерватизмом, с технической трусостью.
Гаевой попросил разрешения закурить.
– Сколько опытных плавок придется провести? – спросил секретарь ЦК и заметил, как мгновенно оживился Гаевой.
– Плавок пять – десять, – ответил парторг. – Тысячу – две тысячи тонн, возможно, испортим.
Секретарь ЦК болезненно поморщился, покачал головой.
– Как легко произносите вы «две тысячи». Привыкли металлурги считать тысячами тонн. Перейдите на другой язык: две тысячи тонн стали, – он взял карандаш и стал писать на бумаге, – это сто вагонов металла, сорок мощных танков, пятьдесят километров рельсов или семьдесят миллионов патронов. Представляете, что значит сейчас выбросить такое количество на ветер, если ничего не получится?
– А если получится? – загорелся Гаевой. – Значит, десятки тысяч тонн отличной броневой стали пойдут на танковые заводы непрерывным потоком, а тысячи новых танков – на фронт.
На звонок явился референт.
– Пригласите товарища Гаевого к себе, – сказал референту секретарь ЦК. – Дайте ему стенографистку – пусть продиктует докладную записку, – он взглянул на Гаевого, – самую обстоятельную. И завтра же возвращайтесь на завод.
– Я не могу вернуться, не зная, что людям делать дальше. Что я им скажу? Кроме того, и вам я еще могу понадобиться.
Секретарь ЦК остановил на парторге испытующий взгляд. Гаевой понял, что тот думает о чем-то более серьезном, чем срок возвращения его на завод.
– Мне говорили, товарищ Гаевой, что вы приняли назначение с неохотой.
– Об этом я ни словом не обмолвился, – возразил Гаевой.
– Не обмолвились, но товарищи почувствовали.
– У меня жена на передовой, где-то здесь, поблизости. Письма и сюда шли долго, а на Урал…
– Когда получили последнее?
– На днях. Но какой оно давности…
Секретарь ЦК перевернул листок настольного календаря, и у него чуть дрогнули пальцы. Прошло двадцать шесть суток с тех пор, как перестали поступать письма от сына, заброшенного с десантной группой в тыл врага с заданием организовать партизанский отряд.
– Давно мобилизовали? – Он с трудом оторвал взгляд от календаря.
– Уехала сама. Врач она.
– Мало кто не ждет сейчас писем… И поверьте, правительство хорошо знает, что значит письмо из дому для бойца, письмо с фронта для родных, знает и принимает меры к улучшению связи. Скоро даже партизанские отряды будут отправлять и получать письма. – После короткой паузы секретарь ЦК обратился к референту: – Устройте товарища Гаевого в гостинице. Пусть отдохнет. Недосыпал много. Ишь какие круги под глазами.
По затемненным улицам Гаевой дошел до гостиницы «Москва». В вестибюле синий свет и непривычная пустота. Сдав паспорт и командировочное удостоверение, поднялся лифтом на десятый этаж, вошел в вестибюль и остановился.
На этом этаже в мае прошлого года они жили с Надей целый месяц. Здесь ничто не изменилось с той поры. Круглый стол, огромные лампы под зелеными коническими абажурами, скульптура Чапаева у колонны, те же картины. Возле одной из них Надя часто задерживалась, рассматривала уютное место на берегу узенькой речки, протекающая по березовому лесу, и как-то сказала: «Тут бы нам с тобой, Гришенька, погреться на солнышке, опустив ноги в воду. Посмотри, вода совсем живая и такая соблазнительная». Гаевому тогда не нравилась эта картина. Раздражали яркие краски, крупные мазки. А сейчас он с умилением смотрел на полотно, и ему казалось, что они с Надей сидели когда-то на таком солнечном берегу и сидели именно так, как хотелось ей: опустив ноги в прозрачную, как стекло, воду.
Гаевой взглянул на ордер – может, и номер тот же? Нет, номер был другой, но в том же коридоре.
Получив ключ, прошел в комнату и, не зажигая света, отдернул штору. Перед ним лежала окутанная тьмой настороженная Москва. И тотчас в памяти встала другая Москва, расцвеченная первомайской иллюминацией, торжественно прекрасная. Огни, особенно дальние, были очень похожи на звезды и так же, как звезды, мерцали.
А сейчас все тонуло во мраке. Только вдали медленно бродили, щупая облака, одинокие лучи прожекторов, останавливались, словно наткнувшись на невидимую преграду, и так же медленно ползли дальше, исследуя просторы неба.
И снова сердце сжала тоска по любимому, оторванному войной человеку. Григорий Андреевич прильнул к холодному оконному стеклу и долго вглядывался в темноту ночи, угадывая по очертаниям издавна знакомые здания.
Весь следующий день Гаевой провел в напряженном ожидании. Он перечитал многие газеты, пробовал заснуть, но веки не смыкались.
Поздно вечером, когда он уже не ждал вызова, позвонил референт.
– Что-нибудь решилось? – обрадовался Гаевой.
– Решилось, приходите.
Секретарь ЦК был в кабинете один. Он усадил Гаевого рядом с собой на диван.
– Могу обрадовать. Сегодня ночью ваш завод проведет первую опытную плавку. Нарком давно добивался изменения технических условий, но Бронетанковое управление согласилось на это лишь сейчас, под давлением обстоятельств. Только учтите: механические качества стали должны остаться неизменными.
– Правильно решили. – Гаевой просиял. – Гитлеровцы будут испытывать нашу броню не в лаборатории, не кислотами, а на поле боя на удар.
– Теперь остается главное: доказать правильность ваших утверждений, создать новую марку стали. Слово за производственниками. Нарком за них поручился. На освоение дано десять дней. – Секретарь ЦК сжал пальцами виски: что-то вспоминал. – Да, что за беспорядки у вас в подсобном хозяйстве?
– Там действительно были безобразия, но мы их пресекли.
– На днях мы получили письмо оттуда. Если рабочие обращаются прямо в ЦК, то создается впечатление, что на помощь парткома они не слишком надеются. Возьмите письмо у референта, проверьте еще раз положение на месте. Наши рабочие – люди героические. Мирятся со всеми трудностями военного времени, ни на что не ропщут. Некоторые хозяйственные руководители, пользуясь этим, прикрывают свою нерадивость, свое равнодушие к быту людей ссылкой на войну. Боритесь с этим, не давайте злоупотреблять патриотическим подъемом. – И неожиданно: – Как у вас складываются отношения с директором завода?
– Нормально, – не совсем уверенно ответил Гаевой, – его отношения с Ротовым были похожи на хождение в потемках по тонкому льду: не угадаешь, где и когда провалишься.
– Ротов – знающий инженер, волевой, но очень самолюбивый; я бы сказал, властолюбивый, – продолжал секретарь ЦК. – Все привык решать сам. Считает, что у него монополия на правильную мысль. А я вот не представляю себе руководителя, которому не нужны были бы помощь и совет коллектива. В чем ошибка прежних секретарей партийной организации завода в отношениях с Ротовым? С ним такт нужен, а они либо становились в оппозицию к нему, либо шли на бесконечные уступки и постепенно превращались из секретарей партийной организации в секретарей при директоре. Помогите же нам поднять коллектив на творческое решение задач и помогите директору освободиться от своих недостатков. Сложно?
– Да, нелегко.
Секретарь ЦК проводил Гаевого до двери, пожал руку.
– Желаю успеха. Требую успеха. Помните: сталь для танков – как можно скорее, как можно больше… И не забывайте о людях, об их настроении, потребностях, запросах.
18
Какое бы чувство ни вспыхивало в душе Шатилова – тоска ли по родным местам, радость ли от хорошей сводки с фронта или горечь от плохой, гордость за брата, получившего боевую награду, – он всем спешил поделиться с Ольгой. Но последнее время девушка вечерами дома не бывала. Пока она занималась с бригадой у Валерия, Василий не заходил к Пермяковым, чтобы зря не докучать Анне Петровне, которая, он чувствовал, не особенно к нему благоволила.
Зато с Иваном Петровичем они по-прежнему находили время потолковать. Обычно это случалось после смены. Приятелей часто можно было увидеть на перекрестке улиц, где, прежде чем разойтись, они подолгу топтались, заканчивая начатый еще в цехе разговор.
Вот и сегодня после партийного собрания они делились впечатлениями и мыслями. Доклад Макарова об увеличении производительности печей их не удовлетворил.
– Дохлый какой-то доклад, – ворчал Иван Петрович. – Только насчет взаимного обучения хорошо сказал. И смотри, какие мы молодцы, оказывается. Весь завод после нашей сверхскоростной раскачался. Словно в костер бензина подлили. Что ни день – то новый рекорд.
– Да, нечего сказать, молодцы: подину наварить не сумели, – съязвил Василий. – Вон доменщики, прокатчики – те молодцы. Задание выполняют, да еще сколько предложений внесли!
– Э, Вася, у них дело проще. Тоже мне технология! Доменщикам что? Дуй и открывай летку. А прокатчикам? Грей да крути. Соль металлургии – мартеновцы.
Шатилов не разделял необоснованной точки зрения Ивана Петровича, но не возразил – размышлял о своем. Он ничем не может ответить на призыв начальника цеха увеличить выплавку стали. Из печи больше не выжать. Вот уже несколько дней никак не удается снизить длительность плавок хотя бы на минуту. Затоптался на месте.
У Шатилова была неистощимая жадность к металлу. На юге в их цехе печи были самого разного тоннажа. Начав работать на маленькой сорокатонной печи, он беспрерывно надоедал начальнику просьбой перевести на большую и добился своего – стал работать на стотонной. Привычка к заводу не позволяла ему уйти на «Азовсталь», где были трехсоттонные печи, но желание поработать на большегрузных печах не давало покоя и теперь еще больше окрепло.
– Трудно по крохам тонны собирать, – с горечью проговорил Шатилов. – Надо покруче заворачивать. Для этого нас и собирали, просили пораскинуть мозгами. В Магнитке были? Трехсоттонные видели?
– Видел. Завидная работа! Выпустил плавку – и сразу два ковша металла.
– Вот бы на такой поработать! – мечтательно произнес Шатилов. – А кислую печь, если новая броня удастся, опять на обычную переделают?
– Конечно.
– А если ее на двухсотпятидесятитонную реконструировать? Все равно ремонт большой. Так еще суток пять постоять, и металла – хоть залейся.
– Верно, Вася. Надо начальству подсказать. Они с броней закрутились – и оглянуться некогда, а подскажем – может, ухватятся. Момент больно подходящий. Действительно, уж раз ремонт, так заодно и реконструкция.
Шатилов посмотрел на часы.
– Зайдемте на эвакопункт, с Дмитрюком посоветуемся. Он столько печей на своем веку строил и перестраивал – не перечесть.
В просторной комнате эвакопункта было пусто. Дмитрюк сидел один, нахохлившийся, грустный.
Увидев «живых людей», как называл Дмитрюк всех работающих на производстве в отличие от «конторских», к которым теперь причислял и себя, старик приободрился.
– Зачем пожаловали? – глядя поверх очков, спросил он Василия, не проявив обычного радушия.
Шатилов рассказал о цели прихода.
Дмитрюк вытащил из кармана пухлую, потертую записную книжку, долго перелистывал ее, что-то прикидывал в уме, шевеля сухими губами.
– Неделю лишнюю надо, – заключил он. – И то при ладной работе.
Пермяков и Шатилов долго упрашивали Дмитрюка скинуть хоть сутки, упрашивали с таким жаром, словно от него и только от него зависела длительность ремонта.
– Говорю вам, неделю – значит, неделю, – упрямо повторял старик, перебирая крючковатыми пальцами листки записной книжки. И вдруг глаза его наполнились слезами, на лице четко выделились фиолетовые склеротические жилки и покрыли его густой мелкой сеткой.
– Что с вами, Ананий Михайлович? – испугался Василий.
Дмитрюк смахнул рукавом слезы, достал из записной книжки письмо и дрожащей рукой протянул Шатилову. Тот развернул его, пробежал глазами и невольно закусил губу. Бывший парторг цеха и ныне политрук на фронте Матвиенко сообщал о смерти сына Дмитрюка – Жени. Василий хорошо знал этого задиристого дружка своего брата. Они были ровесниками и в один день ушли в армию.
Шатилов пытался выдавить из себя несколько слов утешения, но все, что навертывалось на язык, казалось пустым и ненужным. Он беспомощно взглянул на Пермякова.
– Бросайте вы эту конуру да переходите к нам в цех, – сказал Иван Петрович. – Тоска, как волк, одинокого человека грызет. А на людях подступиться ей труднее.
19
Вернувшись из Москвы, Гаевой увидел в номере на столе небольшой конвертик без марки. Кровь застучала в висках. Он бросился к письму – почерк Нади. Дрожащими от волнения пальцами вскрыл конверт, опустился на стул и начал читать.
«Гришенька, как мне не хватает тебя! Забываю о тебе только во время операций, а сниму халат – и неудержимо хочется прижаться щекой к твоей щеке, закрыть глаза и отдышаться. И не говорить, а замереть, чувствуя на своей голове твою ласковую руку. Ты просил меня перевестись на Урал – и там, мол, нужны хирурги. Лукавишь, мой ненаглядный. Здесь они нужнее. Я попала в бригаду профессора Неговского. Многим бойцам вернули мы жизнь. Бывали случаи, когда раненый не выдерживал операции – умирал, и мы по методу Неговского вновь заставляли биться остановившееся сердце. Одна беда: времени в нашем распоряжении мало – всего шесть минут от последнего удара пульса. Не успеем оживить за этот коротенький срок – можно больше не пытаться. Нет выше радости, любимый, чем прогонять смерть. Меня могут отпустить, я, как и все, заменима, но я сама даже думать об этом не могу. Хочу быть предельно полезной. Завтра наше четырнадцатилетие. Отмечу эту дату в одиночестве. Ах, если бы снова случилось так, как тогда! Поздравляю тебя с большой работой, уверена, что справишься.
Обнимаю и целую, целую, целую! Твоя Надежда».
Григорий Андреевич перечитал письмо и потом долго слушал, как постепенно успокаивается сердце.
Да, тогда получилось чудесно. Он внезапно вернулся из поездки. Без стука распахнул дверь комнаты. Надя в новом темно-зеленом платье, грустная, сидела за столом, накрытым на двоих. Ее рюмка была опорожнена, вторая недопита, на тарелках застыли остатки еды. Надя вскрикнула, и он сразу даже не понял: встревожилась? обрадовалась? Смущенная, не зная, как примет ее затею, она объяснила:
– Встречаю нашу годовщину. Весь вечер с тобой разговаривала, с тобой за стол села. Даже рюмками чокнулись. И ели, видишь, вместе… Много-много хорошего тебе пожелала… Глупая, да? Сентиментальная?
Он, растроганный до глубины души, ничего не ответил, только сжал Надю в объятиях.
«Неужели с того времени прошло уже семь лет? Быстро летят годы, когда все ладно, когда нет бурь, длительных разлук. А вот последние семь месяцев тянутся мучительно долго».
Не думал он, решив жениться, что это супружество будет таким счастливым и легким: одинаковые характеры, экспансивные, горячие, неуступчивые. Столкновения могли бы завести далеко. Но они сознательно избегали таких столкновений. Потом это стало привычкой, получалось само собой.
Телефонный звонок заставил Гаевого очнуться. Звонил дежурный по парткому: первая опытная плавка забракована из-за высокого содержания фосфора.
В кабинете Макарова Гаевой появился в тот момент, когда Ротов просматривал паспорт опытной плавки. Сталевары, мастера, инженеры ожидали заключения директора.
– Выговор следовало бы вам влепить! – кричал Ротов на Макарова, глядя в упор расширенными от гнева глазами. – Да строгий! Да с предупреждением! Три часа я и главный инженер сидели с вами, договаривались – первый шлак спустить до последней капли, а вы делаете те самые ошибки, от которых вас предостерегали. Почему?
– Я четверо суток не выходил из цеха… – собравшись с духом, ответил Макаров. – На ногах еще стою, но устал чертовски.
Ротов смягчился.
– И от этого вас предостерегали. Когда следующая плавка?
– Скоро расплавится.
– Поезжайте домой. Я заменю вас.
– Не поеду.
– Я настаиваю.
– Подчиниться не могу, Леонид Иванович.
– Ну, вольному воля, – примиренчески произнес Ротов. – Только побольше сталеваров и мастеров соберите на плавку. Будет удачной – это опыт, неудачной – еще один урок.
Макаров отправился отдавать распоряжения.
– Пошли на печь, товарищи, – пригласил Ротов собравшихся.
Гаевой с любопытством следил за директором. Ротов словно помолодел. Исчезла грузность походки и медлительность движении. У печи он мастерски смахнул шлак с ложки и добродушно выбранил подручного, когда тот плохо вылил пробу.
«Никто не заставляет его работать за Макарова, – подумал Гаевой. – Даже осудить могут: почему взялся не за свое дело? Пойдет плавка в брак – тот же Макаров может сказать: «Сами присутствовали, сами командовали» – и возражать будет нельзя. Но так и надо. В трудную минуту всю ответственность должен брать на себя сильнейший».
– Не уйду, пока не добьюсь, – возбужденно сказал Ротов Гаевому.
– А завод?
– С заводом Мокшин справится. Главное звено сейчас здесь. – И добавил проникновенно: – Это же, Гриша, моя стихия – технология. Я больше сталеплавильщик, чем директор.
Начался спуск шлака. Его надо было удалить полностью, так как с возрастанием температуры в печи из шлака в сталь неминуемо перешел бы страшный враг стали, придающий ей хрупкость, – фосфор.
Закрыли газ. Остуженный шлак вспучивался, широким мутным потоком стекал через окно и исчезал под площадкой. Шлак, оставшийся в печи, сгоняли гребками. Изнурительный это труд. Несколько подручных вводят в печь гребок – небольшой чурбак, насаженный на длинный железный стержень, – и ритмическими движениями сгоняют шлак в желоб.
Ротов несколько раз заглядывал в печь и требовал повторить операцию.
К нему подошел Гаевой.
– Что, Гриша, заставить бы их, – Ротов подмигнул в сторону консультантов, – взяться за гребок и поработать. Попарятся дня три – придумают что-нибудь получше этого египетского способа.
Звонок завалочной машины заставил всех посторониться.
– Не мешай! – крикнул Ротов машинисту.
Тот, не обратив внимания на окрик, подъехал к печи, держа на хоботе машины опрокинутую мульду, ввел ее в окно и принялся сгонять шлак. Потом заменил докрасна нагревшуюся мульду на другую, и снова шлак потек через порог.
Ротов заглянул в печь. За многолетнюю практику он не видел ничего подобного. Расплавленный металл, всегда прикрытый шлаком, был обнажен по всей поверхности, искрился бенгальскими огнями и выделял бурый газок.
– Молодец! – похвалил он машиниста. – Довольно! – И только теперь заметил, что на машине почему-то сидят двое.
Машинист стал выводить мульду из печи, но не рассчитал движения хобота и сорвал порог – огнеупорный материал, спекшийся в монолит. Металл хлынул мощным потоком во всю ширину окна, не уместился в переполненном желобе, залил рельсы у печи и начал разливаться по рабочей площадке.
– Уезжай! – громовым голосом скомандовал Ротов растерявшемуся машинисту, который пытался удержать поток мульдой, не замечая, как жидкая сталь заливает рельсы под завалочной машиной.
По тонкому слою не успевшей застыть стали машинист отъехал в безопасное место, с ужасом глядя на искрящийся металл. Все шире разливался он по площадке, захватывал инструменты, металлические ящики с рудой, известью и раскислителями. Запылали держаки лопат, сложенные кучей гребки. Глядя в синее стекло, Ротов медленно отступал назад.
Постепенно поток стали из печи уменьшился, начал прерываться и, наконец, остановился совсем.
Директор подозвал к себе Макарова. Начальник цеха был бледен, ожидал брани, но Ротов спросил его совершенно спокойно:
– Сколько?
– Тонн сто.
– Машиниста отпустите домой. Пусть отойдет и явится на следующую плавку. Молодец он! Хорошо придумал, но ошибся. Что ж, ничего, другой раз не ошибется. На плавку снова меня вызовите.
«Вот и второй блин комом, – думал директор, уходя из цеха. – Главное – ком неожиданный. А все-таки способ скачивания шлака найден. Найден! Только бы машинист снова не ошибся. Тогда рисковать его уже не заставишь».
Раньше чем успели догореть весело потрескивавшие гребки, сталь на площадке потемнела и застыла огромным коржом, серым и бугроватым.
Подъехал мостовой заливочный кран. Морщась от нестерпимого жара, Пермяков зацепил толстый стальной канат за край коржа. Крюки поползли вверх, и металл начал медленно отделяться от рабочей площадки. Внутренняя поверхность его была все еще огненно-красной. Край коржа поднялся до моста крана и тут обломился. Стотонная глыба рухнула вниз. Трассирующими пулями полетели с площадки кусочки раскаленного кирпича, доломита, осыпая стоявших вдали консультантов. Те засуетились, смахивая их с задымившейся одежды.
– Добром просил уйти, – проворчал Пермяков, убедившись в том, что никто серьезно не пострадал, и зацепил корж канатом с обеих сторон.
Отделившись от площадки вместе с вплавленными в него железными ящиками, инструментами, торчащими прутьями гребков, корж поплыл в воздухе к концу здания, где собрались автогенщики, чтобы разрезать его на части.
Обычно в ночной смене бывают только люди, непосредственно занятые работой, но, придя на третью опытную плавку, Ротов увидел в полном сборе инженеров отделов и многих сотрудников Института металлов. Был здесь и старый профессор. Напуганный аварией, он предусмотрительно держался поодаль.
Машинист скачивал шлак. За его спиной снова стоял кто-то. Присмотревшись, Ротов узнал Шатилова. «Что ему нужно здесь? Ведь он работал в утренней смене. – И догадался: – Ага, вдохновитель».
Шлак сходил уже небольшими порциями, иногда увлекал за собой сильно искрившийся металл, пугая собравшихся: не сорвет ли снова порог?
– Довольно! Выезжай! – заглянув в печь, крикнул Ротов. – Да поосторожнее.
Машинист медленно вывел мульду из печи и отъехал в сторону. Вырвался общий вздох облегчения. Директор подошел к завалочной машине.
– Молодцы. Чья мысль?
– Его. – Машинист указал на Шатилова.
– Да ты что? Предложение твое, – запротестовал Шатилов.
Ротов подозвал Макарова.
– Представьте проект приказа: каждому по месячному заработку и по бостоновому костюму из моего фонда.
– И с них по пол-литра, – машинист показал на весело болтавших в стороне подручных. – От такой мучиловки избавились – теперь за гребок не возьмутся.
– Нельзя рабочий класс обижать, – шутливо отозвался директор. – Зайдите ко мне – спирта выпишу. Но только перед выходным.
– Вот жизнь пошла! – обрадовался машинист. – Раньше такую аварию сделаешь – «строгача» по меньшей мере получишь, а теперь – премию.
– Вторую сделаешь – получишь и «строгача», – охладил его Ротов.
Хотя Гаевой считал, что ему совершенно нечего делать ночью на выпуске плавки, он все же не удержался и пришел в цех. Общее нервное напряжение сразу же передалось и ему. Он непроизвольно напрягал мышцы, когда подручный доставал пробу, словно не подручный, а он держал в руке тяжелую ложку, словно сам нес ее, наполненную жидкой сталью, стараясь не проронить ни капли, а затем сливал огненной струйкой в одну точку на чугунную плиту. А когда подручные пробивали лётку длинным стальным ломом, он всем телом подавался вперед, будто помогал им. Заметив эти свои непроизвольные движения, взглянул на Ротова. Тот тоже сопровождал каждый удар движением корпуса.
Наконец металл ринулся в ковш. Ротов тронул Гаевого за плечо.
– Поедем ко мне, Гриша, расскажешь о Москве. Результата ждать долго. Анализ еще ничего не даст, важна структура металла. Пока прокатают, обработают, пока на полигоне испытают – двое суток пройдет.
…На полигон Гаевой приехал той же автомашиной, на которой везли «карты» – образцы брони для испытаний.
Ротов и начальник бронебюро Буцыкин стояли около противотанковой пушки, внимательно рассматривали снаряды, разложенные на помосте из досок.
– Горишь? – спросил Ротов Гаевого, заметив в его глазах знакомый огонек возбуждения.
– А ты нет?
Ротов махнул рукой и отвернулся, чтобы скрыть волнение.
Грузовик подъехал к брустверу из толстых бревен, за которым был насыпан высокий земляной вал, грузчики начали сбрасывать карты. Работали они согласованно и быстро, однако Ротов не удержался, чтобы не поторопить их. «Нервничаю, – отметил он. – Но разве будешь спокойным, когда вот-вот должно решиться все и завод либо перейдет на массовое производство брони, либо снова искания?»
Карты установили, и наводчик занял свое место у пушки.
Выстрел и разрыв снаряда слились в один звук. От бревен веером полетели щепки.
Гаевой пытался рассмотреть карту в бинокль, но дрожала рука, и, сунув бинокль в карман, он побежал по полю, догоняя крупно шагавшего директора.
Ровная, словно высверленная пробоина зияла в левом верхнем углу карты.
– Не может быть… – не веря глазам, процедил Ротов и, ссутулившись, пошел назад.
Остальные карты были пробиты так же легко, как и первая. С последним выстрелом Ротов сел в машину и уехал, никого с собой не взяв.
Гаевой и Буцыкин пошли пешком. Дорогой они не перебросились ни словом. Перед тем как разойтись, Буцыкин взял парторга за локоть.
– Я хотел бы… мне хочется убедить вас… уверить, – сбивчиво произнес он и посмотрел на Гаевого, словно желая угадать, как будут встречены его слова. – Могут подумать, что я торжествую, доказав свою правоту. Это не так. Я очень хотел бы ошибиться…
Гаевого тронула искренность тона Буцыкина.
– Плохо я о вас никогда не думал, – произнес он. – А радоваться в данном случае мог бы только мерзавец.







