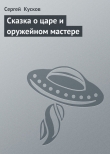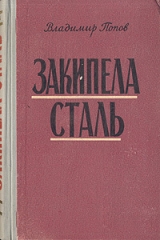
Текст книги "Закипела сталь"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
16
Новая батарея на коксохимическом заводе дала газ. Повеселели сталевары у печей, нагревальщики в прокатных цехах – бери газа сколько хочешь, сколько нужно для форсированной работы.
Особенно радовался Шатилов: он варил первую плавку в триста пятьдесят тонн. У печи стояли вместо одного – два ковша, в которые должна была потечь сталь по раздвоенному желобу (в цехах такие желоба называли просто «штанами»).
Смирнов и Чечулин не уходили с площадки. Смирнов отработал смену утром, но не покидал цеха – как не увидеть выпуска такой плавки! Чечулин должен был приступить к работе ночью, но пришел присмотреться – дело небывалое! – и стоял поодаль, только изредка заглядывая в печь, где яростно бушевало пламя. Посматривал Чечулин и на транспарант «Комсомольская печь», тщательно вырезанный из покрытого медью железа, и про себя посмеивался: «Молодею, до комсомольского возраста съехал, скоро пионерский галстук надену».
Несколько дней назад Смирнова избрали секретарем комсомольской организации, и тотчас он пришел к Пермякову с просьбой сделать новую печь комсомольской.
– Ты за советом пришел или за помощью? – спросил его Пермяков.
– И за тем, и за другим.
– Совет я тебе дам: по-моему, мысль хорошая, одобряю, но проводить ее в жизнь изволь сам. Учись, сынок, сразу работать самостоятельно. К начальнику пойди, убеди в пользе дела, не поддастся – еще раз поговори, пока не добьешься. Настойчивость – дело хорошее. От этого твой авторитет и среди ребят и у начальника только поднимется. За мою спину не прячься, не смотри, что она у меня широкая. А за подмогой приходи, когда сам не одюжишь.
Макаров охотно согласился с доводами Смирнова, утвердил штат подручных из молодежи, но категорически отказался поставить сталеварами только комсомольцев.
– Тебя поставлю, знаю, что справишься, – сказал Макаров. – Шатилова, потому что обещал ему, да он и сам недавно из комсомольского возраста вышел. А вот третьего, тобой предложенного сталевара не могу поставить – не знаю, как сработает. Пока дам Чечулина.
Против Чечулина Смирнов возражал долго и упорно, соглашался даже на Бурого – лишь бы помоложе, – но Макаров настоял на своем.
– Нет, поставлю. Чечулин на этой печи работал, когда она самой худшей была. Пусть поработает теперь, это его поднимет. Потом его от вас заберу.
Выйдя от Макарова, Смирнов снова побежал к Пермякову, но тот быстро охладил его пыл.
– Ну, что ж, Ваня, для начала, пожалуй, неплохо. Поработаешь так. А придет время – и Чечулина заменят.
…Смирнов стоял у печи, с гордостью поглядывая на транспарант, подчеркнуто переводил взгляд на Чечулина и отворачивался. Вообще об этом сталеваре худого не скажешь – неплохой дядька, последнее время стал общительнее, разговорчивее, даже шутит иногда и сам смеется своим шуткам. Сегодня он особенно весел – на лучшую печь поставили, а давно ли плелся позади всех?
Чечулин догадывался, о чем думал Смирнов, и, отвечая ему снисходительной усмешкой, с хозяйским видом расхаживал по площадке. «Моя печка, никуда я от нее не пойду. Два года отмучился, но дождался».
«За печь отвечать в первую очередь мне, – размышлял в это время Смирнов, – а как я этого лешего на комсомольское собрание вызову? Как с ним разговаривать будешь?»
Иное настроение было у Шатилова. Радостное возбуждение, которое вначале овладело им, сменилось чувством тревоги и напряженного ожидания.
Используя каждую свободную минуту, Пермяков подходил к Василию, проверял, как ведет себя печь, за которую им пришлось повоевать. Он старался подбодрить сталевара, замечая, что тот нервничает.
Взяли первую пробу – тот же металл, к которому привык Шатилов за много лет, те же искры, фейерверком вылетающие из стаканчика. Василий успокоился и о необычном весе плавки вспомнил, только рассчитывая количество руды для доводки.
Еще вчера печи не хватало газа, и Шатилову мучительно хотелось помочь ей. А сегодня можно было питать печь теплом досыта. Шатилов чувствовал себя, как человек, долго мучимый жаждой и наконец добравшийся до озера. Сколько ни пьешь, а все жалко оторваться от воды, о которой так мечтал.
На выпуск плавки пришли Макаров, Гаевой, Мокшин, собрались сталевары из других смен, из другого цеха.
Макаров внимательно посмотрел на последнюю пробу.
– Горячевата? – тихо спросил Пермяков.
– Это хорошо. На два ковша нужно пускать горячее.
Сталь хлынула из печи таким мощным потоком, что, казалось, смоет стрелку в желобе, разделявшую струю на две. Оба ковша начали равномерно наполняться.
– Триста пятьдесят, – услышал Гаевой за спиной чей-то шепот и, оглянувшись, увидел Шатилова. Слегка нагнув голову, затаив дыхание, сталевар смотрел сквозь очки на ковши.
Гаевой подошел к нему, пожал руку. Шатилов внезапно обнял его и поцеловал. Парторг рассмеялся.
– За что?
– Вас в первую очередь, – восторженно сказал Шатилов.
– А во вторую кого?
Василий на миг задержал взгляд на его лице и побежал на рабочую площадку осматривать подину.
– Хороша, как яичко, – успокоил его Пермяков.
Разливочный кран повез первый ковш к составу с изложницами. Другой кран зацепил крюками второй ковш, поднял его над стендом и повез в противоположную сторону.
Макаров и Гаевой с напряжением следили за рабочими, суетившимися у ковша. Разливщик взялся обеими руками за рычаг стопора. У Макарова чуть дрогнули желваки на скулах – в этот ответственный момент может оторваться пробка в ковше, и тогда не миновать аварийной разливки. Но все обошлось благополучно. Из-под ковша сверкнула белая струя, и из изложницы вырвалось пламя загоревшейся смазки.
В это время подошел Ротов и велел подручному позвать Шатилова и Пермякова.
Они пришли вместе.
– Прошу вас завтра вечером в клуб ИТР, отпразднуем такое событие.
Когда мартеновцы удалились, директор наклонился к Мокшину.
– Не хочется этого празднества, но нужно отметить людей.
– Да, не ко времени, – согласился Мокшин. – Марганцевой руды осталось на пять дней.
Если бы можно было остановить время…
17
Как ни мало бывал Пермяков дома, от него не укрылось необычное поведение жены и дочери. Они все о чем-то перешептывались, что-то тайком обсуждали, много шили, и Ольга подолгу вертелась перед зеркалом, подгоняя по фигуре то одно, то другое новое платье.
«Ох, никак к свадьбе готовятся!» – догадывался Иван Петрович, но, обиженный заговорщицкой политикой жены и дочери, помалкивал.
Все восставало в нем при мысли, что Ольга по своей неопытности и доверчивости может жестоко обмануться, и сердце его сжималось от неосознанного страха за будущее дочери – хотелось, чтобы оно было безоблачным. Однако, если бы он и мог разрушить отношения Ольги с Валерием, то не стал бы этого делать. Так часто люди, не соединившие свою жизнь с теми, кого полюбили впервые, корят себя за совершенную ошибку! Неизведанное, предполагаемое счастье рисуется им радужнее того, которым обладают. И в тайниках души надолго залегает тоска по первой сильной, но почему-то оборванной любви.
Иван Петрович благоговел перед дочерью и страшился даже мысли о том, что когда-нибудь Ольга осудит его злую родительскую волю. Но и оставаться в стороне он не считал возможным.
С женой говорить не имело смысла – она, может, больше, чем Ольга, была ослеплена достоинствами Валерия, да и вразумительно, веско объяснять ей причину своей неприязни к Валерию Иван Петрович не мог. Только дочери счел он возможным высказать свои весьма смутные соображения.
Улучив время, когда жены не было дома, он подсел к Ольге.
– Я знаю обо всем, Оля. Моим мнением ты интересуешься?
– Оно мне известно, папа, – сдержанно ответила Ольга, внутренне подготавливая себя к стычке.
– Выходит, отцу и говорить с тобой не о чем, – обиделся Иван Петрович. – А замужество – дело серьезное. На всю жизнь себе товарища выбираешь. Неудачным окажется – уходить придется или маяться.
Ольга молчала, и Иван Петрович откровенно залюбовался ею. «Красавица, – подумал он с горделивой нежностью, хотя черты лица Ольги были далеки от правильных. Но так уж водится: родительский глаз всегда дорисовывает то, что не дорисовано природой. – Давно ли была тонконогой неоформившейся девчушкой и бах – взрослый человек, невеста».
– Чем вам не нравится Валерий? – напрямик спросила Ольга чужим голосом.
Пермяков заранее обдумал разговор с дочерью, и этот вопрос не застал его врасплох, хотя несколько сбил с намеченного плана.
– Вот этого я и сам сказать не могу. Вроде против него у меня ничего нет…
– Так это хорошо! – как вздох облегчения вырвалось у девушки.
– Не совсем хорошо. Против него ничего сказать не могу, но и за – тоже. Не знаю его, не раскусил. Парень он видный, ум как будто есть, а вот в душу его не проник.
Ольга улыбнулась.
– Предоставьте изучать его душу мне, папа.
– Вот к этому я и клоню, дочка, – к изучению, и прошу тебя об одном: не спеши. Узнай человека хорошенько, присмотрись. Ты еще совсем молода и только на третьем курсе…
Между бровями у Ольги залегла напряженная складочка.
– Подождать до пятого? – спросила она таким тоном, будто соглашалась сделать это.
Но Пермяков смекнул: лукавит.
– Ну, ты уж до пятого. Отложи хоть до четвертого. А тогда пусть мать внука дожидается. Хочется ей с малышом понянчиться… Сердце женское такое: сначала детей воспитывать, а потом детей своих детей. Да и мне, признаться… мальчонку хочется. Народ они озорной, занятный, не то что девочки, кукольницы. Думалось мне, что муж моей дочери мне дорогим сыном будет…
По лицу Ольги скользнула тень, и, заметив это, Иван Петрович приободрился.
– Вот матери твоей воспитание, вежливость все больше по душе, а зря. Другой, посмотришь, и прост и неловок, а за любимую в огонь пойдет. А иной ручки целует, комплименты расточает, пальто ловко подает, телеграмму в праздник послать не забудет, – все сделает, что ему недорого стоит, а поступиться своим – не поступится. Пойми, дочка, любовь не этим измеряется, а тем, что человек за нее отдать способен. Вот хотя бы мама твоя. Чечулин, знаешь, за нее сватался. Отец его богатый был, дом свой имел, а полюбился ей я – от всего отказалась, в наймычки пошла. Вот это любовь… ничего против не скажешь.
Впервые отец говорил о любви, и Ольгу тронула задушевность и прямота его слов. Она ожидала, что отец будет нападать на Валерия, расхваливать Шатилова, но он этого не сделал, и желание спорить у нее пропало.
Пермяков погладил каштановые волосы дочери.
– И еще хотел сказать тебе, только выразить хорошо не сумею. Очень важно, чтобы у человека, с которым жить собираешься, душа родная была, чтобы она на твою походила.
– Созвучие душ.
– Вот-вот! Только тогда все идет ладно. Никому ничем поступаться не приходится, приноравливаться не надо. А вот если душа у него двоюродная, – дело плохо. Мать за меня и пошла, потому что душу близкую почуяла. И не каялась, хотя и обижал ее иногда, сама знаешь.
Запас доводов у Ивана Петровича иссяк, и он без обиняков спросил Ольгу:
– Так повременишь, доченька?
– Подумаю, – ответила она, но, взглянув на опечаленное лицо отца, сдалась: – Повременю, папа.
18
Адрес госпиталя Надя так и не сообщила, зная, что муж тотчас приедет, а она не хотела отрывать его от работы. На конвертах значился только номер полевой почты, и пока Гаевой выяснял, где находится госпиталь, Надя написала, что может вернуться домой со дня на день.
Григорий Андреевич начал подумывать о другой, более уютной комнате.
Директор гостиницы несказанно удивился, когда его самый невзыскательный жилец попросил дать номер побольше и проявил требовательность в отношении обстановки. Пришлось подыскать шифоньер с зеркалом, гнутую никелированную кровать, дубовый письменный стол. Директор никак не мог понять, почему Гаевой отказывается от широкого дивана с тремя подушками вместо спинки, обитого зеленым плюшем, а настаивает на обыкновенном, крытом обязательно коричневым дерматином. Ковер пришлось заменить заурядной дорожкой с украинским орнаментом.
Гаевой хотел, чтобы обстановка напоминала Наде их первую комнату в общежитии, и это ему в конце концов удалось.
Мысли о Надином приезде все больше и больше волновали Гаевого. «Какой вернется она? Как скоро найдет себя? Им теперь обязательно нужен ребенок. Но поможет ли ей это? Полностью нет. Надя привыкла работать, и семейные заботы не заполнят ее. И за ребенком ей трудно будет ухаживать с одной рукой. Но ничего, придется обучиться этому искусству самому. Только обязательно девочку, – мечтательно думал Григорий Андреевич. – Девочки привязчивы, послушны, они, как правило, материнской ориентации, постоянно возле матери, не то что сорванцы-мальчишки».
Одного опасался Гаевой: не возникнет ли у Нади отчуждение к нему? Надя не позволяла жалеть себя. И замуж она долго не соглашалась выйти после случая в деревне – все пыталась разобраться, действительно ли он полюбил или женится, выполняя свой долг. Сама она способна была принести себя в жертву, но жертв со стороны других не терпела.
И вот наконец долгожданная телеграмма: «Встречай двадцатого шестнадцать тридцать пять вагон семь последний раз целую заочно Надя».
Не доверяя уборщице, Гаевой сам привел в порядок комнату, прошелся тряпкой по местам, где могла осесть пыль. Сегодня в его номере, впервые появилась еда – не идти же сразу в столовую.
Выехал он за час до прихода поезда, рассчитывая, что, если машина не заведется – бензин сейчас плохой, – он успеет дойти пешком. На вокзале посетовал на свою недогадливость – почему не поехал на ближайшую станцию? Вот был бы Наде сюрприз! И на целый час встретились бы раньше…
Сорок минут, проведенных на вокзале, тянулись невероятно долго. Григорий Андреевич остановился у газетной витрины в зале ожидания, попытался читать статью «О задачах железнодорожного транспорта» и уже добрался глазами до половины ее, но убедился, что ни одно слово не уложилось в сознании, и отошел. Походив по перрону, снова вернулся к газетной витрине и опять поймал себя на том, что ничего не понимает. За пять минут до прихода поезда он вышел на платформу и неожиданно увидел дымок паровоза и вынырнувший из-за поворота состав, который медленно подходил к станции.
У двери седьмого вагона теснились военные, среди них не было ни одной женщины. Надя стояла у окна и искала его глазами в толпе встречающих. Гаевой замахал ей рукой и, не ожидая, пока пассажиры выйдут из вагона, протолкался в купе и стиснул жену в объятиях. Она обвила его шею рукой и долго не могла оторваться.
– Ну, вот, я и приехала, Гришенька, – сказала Надя, переводя дыхание. – Вези домой.
На перроне Гаевой рассмотрел жену и нашел в ее лице что-то новое, привлекательное и необычное. Так бывает после долгой разлуки. Как бы ты ни изучил лицо любимой, с какой бы отчетливостью ни вставало оно перед твоим мысленным взором, при встрече оно всегда кажется лучше, чем было, даже если неумолимое время поставило уже свои отметины.
Григорий Андреевич ожидал увидеть жену в военной форме, в пилотке, но на ней было незнакомое ему новое драповое пальто и синий берет.
– Здравствуйте, товарищ военврач, – приветствовал Гаевую шофер. – Долго вы к нам собирались.
Надя протянула левую руку. Гаевой, стоявший позади жены, невольно остановил взгляд на другой руке в черной перчатке, которую она инстинктивно спрятала за спину.
«Бедняжка, еще не привыкла… Привыкнет ли? – испытывая судорожную боль в сердце, проговорил про себя Гаевой. – И как вести мне себя?»
В машине выдержка оставила Надю. Она уткнулась лицом в плечо мужа и заплакала. Берет сбился набок, и Григорий Андреевич молча гладил стриженые, в мелких завитках, волосы. Не хотелось произносить банальных слов утешения, а особых слов, которые влили бы свежую струю в душу Нади, он не находил.
– Как я рада, что опять с тобой! – заговорила Надя. – А знаешь, какое мною овладевало отчаяние. Потом присмотрелась к другим. Большинство ведет себя мужественно, а ведь страшные есть… Был там музыкант один, потерявший зрение. Очень долго с ним возились и безрезультатно. Так что ты думаешь? Он еще врачей успокаивал: «Это мне повезло, что не слух потерял. Слепой, я все же останусь музыкантом».
Машина остановилась у гостиницы.
– Прибыли, – сказал шофер, лихо затормозив машину, и открыл дверцу.
Пошли по засыпанному рудной пылью тротуару. Входя в парадное, Надя спросила:
– Откуда он меня знает?
– Тебя тут многие знают. Я поделился с кем-то, что ты в госпитале, и после того кто ни встретит – первым делом спрашивает: «Как жена?»
Подошли к номеру. Григорий Андреевич отпер дверь, пропустил жену вперед. Она вошла и вскрикнула от неожиданности:
– Боже мой, все как было у нас тогда!..
Гаевой помог снять пальто. Надя села на диван и еще раз осмотрела комнату. Бросились в глаза ее фотографии над письменным столом. Но любимая фотография Григория Андреевича – она за веслами в лодке – отсутствовала. Надя понимающе посмотрела на мужа и проникновенно, как умеют только женщины, сказала:
– Какой ты у меня умница, Гришенька, и как хорошо, что ты у меня есть! – И неожиданно добавила категорическим тоном: – Только не вздумай жалеть меня: я такая же, как была. Ну, рассказывай по порядку.
– Рассказывай ты, Надюша. Я тебе подробно писал.
Начался тот бессвязный разговор, который бывает только после длительной разлуки, когда хочется сказать все сразу и никак не доберешься до главного, мельчишься, теряешься в пустяках, – разговор, выражающий не столько мысли, сколько чувства.
19
Марганцевой руды на заводе оставалось на два дня, и время уже считали минутами, как в бою.
Поздно вечером в кабинете директора собрались Мокшин, Гаевой, начальник доменного цеха, снабженцы.
Перед Мокшиным лежал список автомашин, он просматривал его и невольно пожимал плечами:
– Хоть переходи на «китайский» метод работы.
В Северном Китае, в освобожденных районах, на металлургические заводы руда не подвозилась – железная дорога была разгромлена японцами и гоминдановцами, – но домны все же не остановили: они работали на приносной руде. Ночью, под защитой темноты, китайцы на плечах переносили руду через горные перевалы.
На директорском коммутаторе зажглась лампочка. Ротов взял трубку и долго слушал.
– Вы мне лучше ответьте, почему так мало проката, – сказал он, и лицо его напряглось. – Баба вы, а не начальник. Нюни распустили… Ваше дело катать, а мое – думать о марганце, – и бросил трубку.
– Что у него? – спросил Гаевой.
– Нежное воспитание. Говорит, темп снижен, – видите ли, вальцовщики знают, что завод накануне остановки. Вот где, товарищ парторг, нужна ваша работа.
– Я тоже должен знать, чем людей успокоить, а не кричать «ура», – обозлился Гаевой.
Снова зажглась лампочка.
– Здравствуйте, товарищ нарком, – обрадовано сказал Ротов в трубку и, не успев изменить интонации, добавил: – Руды осталось на два дня.
Директор переключил телефон наркома на динамик, и все услышали спокойный голос.
– Дорогу закончили?
– Сегодня утром.
– Сколько машин вывезли?
У Ротова вытянулось лицо.
– Восемнадцать.
– Так что же вы, сидите и ждете, пока станет завод? Чем занимаетесь? Совещаетесь?
– Да, совещаемся, – ответил Ротов с вызовом. – Чем возить руду? Я вам каждый день докладывал, что…
– Автомашинами! – крикнул нарком. – Завтра все автомашины на руду! Все, за исключением тех, что на развозке продуктов.
– А кислород? А смазка? А детали?
– Приказываю: завтра весь автотранспорт на руду. Проверю лично. Если доменный станет – сдайте дела Мокшину. Вам нужно любой ценой продержаться трое суток. Утром доложите.
Ротов встал из-за стола и долго ходил по кабинету, заложив руки за спину. Потом взял список автомашин, крупным нервным почерком написал: «Все, кроме орсовских, – на рудник», – и протянул бумажку начальнику отдела.
– Организуйте грузчиков.
Гаевой направился к выходу.
– Куда, Григорий Андреевич?
– У меня дел на всю ночь хватит.
– Это совсем не похоже на наркома, – раздумчиво произнес Ротов. – На совещании он ничего вразумительного о транспорте не сказал. Целый месяц я ему надоедал: чем возить? Сначала он сердился, а потом просто вешал трубку. Я уже хитрить стал: начну с чего-нибудь другого, а уж после об автомашинах спрашиваю. Здесь разговору и конец. Щелкнет в аппарате – и все.
– Что-то он намечал, но, очевидно, не вышло, – высказал предположение Мокшин. – И чем нам сейчас автомашины помогут? Сажать на них некого – шоферов нет.
…Вот он и пришел, самый страшный, самый напряженный день. На коммутаторе у Ротова горели все лампочки – все телефоны звонили одновременно. Сообщали о задержке в подаче деталей для крана на коксохимическом заводе, об отсутствии смазки в сортопрокатном цехе. Аварийным звонком сообщил Кайгородов о неудачной разливке плавки из-за отсутствия кислорода. У Макарова остановилась печь – нечем было выжечь «козла» в отверстии, – и сплавленный с огнеупором металл вырубали по старинке, вручную.
Ротов отдал свою легковую машину для подвозки кислорода и сам пешком отправился на рудную гору, только чтобы уйти куда-нибудь подальше. Очутившись у подножья горы, он вспомнил, что и тут есть механизмы, которые требуют деталей, смазки, и повернул обратно.
На коммутаторе по-прежнему горели все лампочки. Директор сел за стол, с силой сжал пальцами виски, пытаясь унять головную боль. «Один такой день пережить можно. Но что будет завтра?»
Вечером, от семи до одиннадцати, звонки обычно стихают. Начальники цехов до семи успевают переговорить с директором и, если работа идет нормально, отправляются на отдых домой. Но сегодняшний вечер не принес обычного затишья. Цехи продолжало лихорадить.
Поздней ночью Ротов приказал снять с руды три автомашины и отдал их диспетчеру завода для аварийных нужд.
Наступил второй день работы без автотранспорта. В окно своего кабинета Ротов наблюдал картины, необычайные для завода. Рабочие таскали на руках кислородные баллоны, на носилках – детали. Бригада слесарей прокатила по асфальту из механического цеха огромную, весом более тонны, зубчатую шестерню.
Лампочки на коммутаторе не потухали. Иногда Ротов снимал трубку, выслушивал и отвечал одно и то же: машин нет. Кто бы в другое время решился позвонить директору по такому поводу? «Вот и перешли на «китайский» метод работы», – с грустью думал Ротов, глядя на вереницу людей, перетаскивавших различные грузы.
Около часу дня в кабинет влетел необычно возбужденный Гаевой.
– Идем ко мне! – крикнул он с порога. – Да скорее же!
Недоумевая, Ротов медленно (казалось, истаяли в нем последние силы) поднялся из-за стола и пошел вслед за Гаевым. Окна кабинета парторга выходили на площадь перед заводоуправлением. Директор взглянул в окно и невольно протер глаза – показалось, что он галлюцинирует. Половина огромной площади была запружена автомашинами, а они все шли и шли по проспекту на площадь, подравнивались в ряд и замирали.
Ротов потряс головой и вопросительно уставился на Гаевого.
– Сам не знаю, – промолвил тот. – Только что вернулся от диспетчера к себе, смотрю – и глазам не верю. Ведь это машины? Нам? – спросил осторожно, словно боялся услышать отрицательный ответ.
– Машины… – повеселел Ротов, и лицо его сразу помолодело. – Двадцать… сорок… восемьдесят… – считал он, а машины все шли и шли…
На тротуаре уже собралась толпа рабочих. Небольшая группа обступила крайнюю машину. Рабочий в гимнастерке внимательно осматривал борт, указывая на что-то пальцем.
– Пробоины, – догадался Гаевой и вышел из кабинета.
Вскоре он вернулся сияющий в сопровождении майора. Майор отдал честь Ротову и отрапортовал:
– Мотобатальон в составе двухсот машин под командованием майора Нестерова прибыл в ваше распоряжение, товарищ директор.
Что-то дрогнуло в лицо Ротова, резкие черты смягчились, словно оплыли, он шагнул навстречу майору, крепко двумя руками потряс его руку. Гаевому показалось, что Ротов сейчас обнимет майора, расцелует его.
– Откуда? – только спросил директор.
– Со Сталинградского фронта.
– Со Сталин-град-ского? – растягивая слово, переспросил Ротов.
– Да. Переброшены по указанию Верховного Командования.
Директор хотел что-то сказать, но от волнения не смог. Гаевой пришел ему на помощь.
– Но почему же не предупредили?
– Бойцам ничего не надо, – решительно запротестовал майор. – В пути они выспались – батальон был на переформировании. Нас уже погрузили в эшелон, чтобы снова отправить на передовую, но в последнюю минуту приказ был изменен. Работать будут день и ночь, спать – во время погрузки и разгрузки. Они прекрасно понимают, что если их сняли со Сталинградского фронта, то, значит, здесь дело огромной важности. Жду ваших указаний.
Через полчаса первая колонна из пятидесяти машин двинулась на рудники; через час – вторая.
– У тебя нет желания поехать с нами, Григорий Андреевич? – спросил Ротов.
– Я поеду в танковое училище.
– А что там?
Гаевой ответил уклончиво:
– Дела.
Радостное известие обладает способностью распространяться с удивительной быстротой. Слухи о возможной остановке завода расползались медленно и доходили не до всех – кому хотелось огорчить жену, брата, соседа, знакомого? Переживали горе в себе. А радость? Кто удержится от того, чтобы не передать ее другому? От этого и твоя собственная радость словно удваивается, утраивается, удесятеряется. Почти мгновенно об автоколонне узнали и завод и город.
Просматривая ночью сводку работы цехов, Ротов взял красный карандаш, обвел петелькой цифру 128 – такой процент выполнения плана сортопрокатным цехом был достигнут впервые. Он вызвал к телефону начальника цеха, того самого, которого позавчера обозвал бабой, и спросил, кого следует премировать за работу.
– Никого, – был ответ.
– Почему так?
– Узнали люди об автоколонне, и темп работы изменился. Кого тут премировать?
Директор подумал и все же написал приказ о премировании смены за достижение рекордной производительности.
Четыре колонны по пятьдесят машин в каждой беспрерывно возили марганцевую руду по строжайшему графику и еле-еле успевали снабжать доменный цех. О прибытии каждой колонны диспетчер докладывал директору. На пятые сутки колонна, которую сопровождал майор, не вернулась на завод. Ротов подождал час, еще полчаса, проверил запас руды в бункерах доменного цеха и, убедившись, что в них почти ничего не осталось, выехал навстречу, пригласив с собой Гаевого.
Проехали двадцать километров по хорошо укатанной дороге – и наконец увидели в степи неподвижно стоявшую колонну.
– Не пойму… – процедил Ротов. – Если поломка, то не должны стоять все…
С тревожным чувством подъехали к первой машине, и тут все стало ясно: водитель спал мертвым сном; привалившись к нему, храпел обессилевший майор.
Ротов прошел вдоль колонны и понял, как изнемогли эти люди. Они работали уже в полудремотном состоянии, и едва машины, вслед за первой, остановились – все заснули.
– Надо будить, – сказал Гаевой и решительно открыл дверцу головной машины.
Директор схватил его за руку.
– Не надо, пусть поспят. Ведь ты человек чуткий, Гриша.
Не послушав Ротова, Гаевой тронул водителя за плечо. Это не оказало никакого действия. Тронул еще раз – безрезультатно. Тогда, подражая голосу старшины, будившего его в свое время в казарме, протяжно крикнул:
– По-ды-ы-майсь! Шофер по-прежнему спал.
Ротов возмутился:
– Оставь!
Но Гаевой нажал кнопку сигнала. Шофер встрепенулся, открыл глаза, включил мотор и тронулся в путь. Майор продолжал спать. От шума мотора проснулся шофер второй машины, третьей… Колонна, быстро набирая скорость, понеслась к заводу.
Когда последняя машина прошла мимо, Гаевой сказал директору:
– Едут на отдых. У завода их встретит начальник танкового училища, заменит водителей курсантами, и бойцы отдохнут сутки. Теперь через три дня на четвертый они будут отсыпаться.
Ротов взглянул на Гаевого. В этом взгляде были и смущение и признательность.