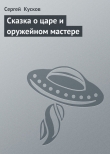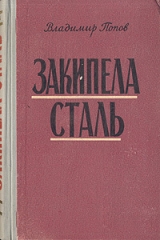
Текст книги "Закипела сталь"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
12
До сих пор Шатилов не знал горечи неразделенного чувства, не знал потому, что никого не любил так глубоко, как Ольгу. Давно ли, читая в старых книгах о любви, он только улыбался – не верил тому, что любовь способна неотступно преследовать человека. Думал: «Такие сантименты присущи только богатым бездельникам, у которых любовь являлась главным занятием, порою выдуманным, потому что им нечего больше делать, кроме как любить». И современные книги укрепляли в нем это убеждение, утверждая, что труд поглощает всего человека без остатка и тем самым спасает от горя и страданий в личной, интимной жизни. А сейчас он в полную меру ощутил всю муку неразделенной любви.
Впервые он понял, что хотя работа и главное в жизни человека, но далеко еще не все, да и работается легче, когда душа согрета любовью. По-прежнему после очередной скоростной плавки он выслушивал поздравления товарищей, похвалы Макарова, только относился к ним теперь с каким-то безразличием.
Единственным родным человеком у Шатилова оставался брат, и теперь все чаще мысли обращались к нему. Вернется с фронта, заживут они вместе; Митя уже повзрослел, посерьезнел, сможет быть другом. В письмах его все чаще проскальзывала нежность, которую раньше он считал недостойной мужчины. Да и какая нежность могла быть у взбалмошного мальчишки, драчуна и задиры, к старшему брату, строгому опекуну, который постоянно журил то за отметки, то за неряшливость, то за разные лихаческие выходки. Даже в минуту прощания при посадке в воинский эшелон Митя смущенно поцеловал брата и огляделся по сторонам – не увидел ли кто, – но все вокруг тоже целовались и плакали.
В последнем письме Митя восторженно писал о медсестре Шуре – дала согласие выйти за него замуж, как только кончится война, спрашивал, трудно ли семейному учиться в институте. Василий ободрил брата: подучит на сталевара, а институт пусть кончает вечерний – и семья будет сыта, и специалистом станет полноценным, – а на первых порах материально поможет.
Был поздний час. Шатилов медленно поднимался по лестнице на свой второй этаж в общежитие. Целый вечер просидел он в красном уголке за карикатурами для стенной газеты и остался страшно недоволен собой. Карикатуры не удались. Люди на рисунках получились реалистическими, не выходило ничего похожего на шарж.
На пороге комнаты его встретил необычайно оживленный Бурой.
– Сто грамм с тебя, Вася, и танцуй. Письмо!
– Уж что-нибудь одно, – сказал Василий, раздеваясь.
– Танцуй.
Василий лениво пристукнул каблуками и протянул руку.
– Давай.
– Не-е, дудки! Так не пойдет.
Спорить было бесполезно. Бурой уже «заправился» и в таком состоянии проявлял необычайное упрямство, которое Василий называл «пьяной блажью».
Пришлось по всем правилам отбить чечетку, да такую залихватскую – даже сам заулыбался.
Но, когда Бурой достал из-под подушки воинский конверт, надписанный чужим, крючковатым почерком, Шатилов оцепенел. А распечатал его – и заплакал мужскими, тяжелыми, как чугун, слезами.
Валерий провожал Ольгу из института домой. Они были так заняты беседой, что не сразу увидели на крыльце Шатилова. У его ног стоял небольшой, видавший виды чемодан.
«Что-то неладное», – заключила девушка.
Василий шагнул навстречу и странным, упавшим голосом попросил Ольгу уделить ему несколько минут.
Андросов бросил ревниво:
– До свидания, Оля.
– Нет, нет. Зайди. Я сейчас.
Когда за Валерием закрылась дверь, Василий сказал:
– Брат… погиб.
– Митя?
– Да, у меня был один брат. Пришел проститься. Еду в область и оттуда на фронт.
Ольга поняла, что отдушину для своего горя Василий найдет лишь на фронте и бессмысленно отговаривать человека, принявшего бесповоротное решение. Она взяла руку Василия в свою и ощутила дрожь его пальцев.
– Папа знает?
– Нет. Боюсь даже проститься с ним. Задаст мне…
– Возьмите на память хоть это. – Ольга достала из кармана автоматическую ручку, протянула Шатилову.
– Спасибо. Разрешите писать вам письма? Только вам… Кроме вас, у меня никого нет… И еще… просьба: поцелуйте меня на прощанье.
Девушка посмотрела ему в глаза долго, ласково и потянулась к щеке. Василий поцеловал ее в губы.
– Берегите себя, Васенька, – с трудом выговорила Ольга.
Всегда легче расставаться у поезда. Прозвучит сигнал отправления, проплывет мимо тебя дорогое лицо с незабываемыми чертами, и разлука наступает помимо твоей воли. Но как тяжело, имея какую-то власть над временем, уйти от любимого человека! Выгадываешь каждую секунду, чтобы задержать момент расставания, чтобы еще раз прошептать несколько горьких и нежных прощальных слов.
– Не забывайте нас, Васенька! – крикнула Ольга удалявшемуся Шатилову и зажмурилась, сбрасывая застывшие в глазах слезинки. Она стояла на крыльце, пока Василий не скрылся за поворотом, и когда вошла в столовую, родители и Валерий сидели за столом перед остывшим чаем.
– Объяснился? – сыронизировал Валерий.
– Простился.
Пермяков от неожиданности даже подскочил.
– Как простился?
– В армию едет. Самовольно.
– Мальчишка! – вырвалось у Валерия, но в ту же минуту он пожалел о сказанном.
– Почему мальчишка? – спросила Ольга дрогнувшим голосом. Брови ее сошлись на переносье, между ними залегла тоненькая, как трещинка, складочка.
Иван Петрович сам считал, что Василий поступил неправильно, необдуманно, и попадись он сейчас ему на глаза – ох, и худо пришлось бы парню! Но принижать своего любимца…
– Если он мальчишка, то кто же вы, молодой человек? Родину отстаивать – мальчишество? Да он и тебя пошел защищать, чтобы ты мог учиться. А ты лучшего слова для него не нашел!
Как ни был взбешен Пермяков, он с тревогой посмотрел на дочь: не перехватил ли? Ольга тщательно вылавливала плававшие в стакане чаинки. Взглянул на нее и Валерий, ища защиты.
– У Васи погиб брат… Больше у него никого нет… – тихо проронила Ольга, не поднимая головы.
– Я нехорошо выразился, и вы меня совсем не так поняли… – попытался оправдаться Валерий, почувствовав осуждение даже в молчании Анны Петровны. – Мальчишкой я назвал его потому, что здесь он нужнее, чем там.
Он встал, оделся и, попрощавшись, вышел. В наступившей тишине резко щелкнул замок.
– Попадет мне от Гаевого. – Иван Петрович покачал головой. – Довоспитывался… Но возвращать не побегу. Долго болело у него – и прорвалось…
13
В ту ночь Пермяков спал плохо – осаждали мысли о Василии, – и рано утром, хотя был выходной, он отправился на завод. Остановившись у входа в цех, прошелся хозяйским глазом по печам. На девятой заливали жидкий чугун. Из огромного ковша, медленно наклонявшегося к желобу, хлестал во все стороны мохнатый огненный поток. «Хорошо льет машинист, – с удовлетворением отметил Пермяков. – Равномерно, словно чай наливает». На восьмой печи готовились к выпуску. Это было видно по цвету сливаемой на плиту стали, по особой четкости работы бригады. На шестой шла завалка. Мульды влетали в печь с такой быстротой, словно машиной управлял не человек, а автомат. «Артист, – позавидовал Иван Петрович. – Вот такого бы мне в смену». Буйно бежал через порог вспенившийся шлак на седьмой печи. «Высоко стоит плавка – не сорвало бы порог, – но, увидев у печи Смирнова, Пермяков успокоился: – Этот не подведет – мой выученик».
Подошел Макаров.
– Кем вы на завтрашний день замените Шатилова?
– Как на завтрашний? Он насовсем уехал.
Через полчаса Гаевой уже предупредил военкомат о самовольном уходе Шатилова. Потом подписал командировку Пермякову.
– Поезжайте вдогонку. Это парень решительный. Не возьмут здесь – поедет дальше. Найдет где-нибудь сердобольного военкома. А Макарову скажите, чтобы никому ни слова. Без Шатилова не возвращайтесь, смотрите на это как на партийное поручение. Сумели выпустить – сумейте и вернуть.
Шатилов был единственным штатским человеком в купе и чувствовал себя неловко. Каждый взгляд, обращенный на него, он расценивал как недоуменный или укоряющий.
У окна сидели два бойца – возвращались после лечения на передовую.
– Впервой я в армию с охотой шел, – говорил не в меру полный для своего возраста боец со смешными белыми бровями, придававшими лицу наивный, ребячливый вид. – А сейчас почему-то страшновато.
– Это как кому, – возразил другой, жилистый, со шрамом через всю щеку. – Мне, наоборот, первый раз страшно было. А сейчас спокойно еду, как на знакомое место.
В беседу вмешался Василий.
– Что ни говорите, а когда опыт есть, конечно, лучше. Знаешь, чего остерегаться, где можно рискнуть.
Разговорились. Шатилов рассказал, куда и зачем едет.
– А ты кем работаешь? – спросил белобровый.
– Сталеваром.
– Ста-ле-ва-ром?.. – протянул боец со шрамом. – Так ты, парень, неправильно рассудил. Мы же твоими снарядами стреляем.
– Конечно, неправильно, – подтвердил белобровый.
– Не могу я в тылу сидеть…
– Э, браток, время такое, что надо через не могу! Другой вон в окопе сидеть не может, а сидит: надо.
– Нет, постой, – не унимался боец со шрамом, – как же так: взять и уйти от печи.
– Да печь-то не станет. Другой сталевар найдется, – защищался Шатилов, никак не ожидавший такого поворота беседы. До сих пор ему казалось, что фронтовики относятся к тыловым пренебрежительно.
– А ты как, сталевар хороший или одно звание?
Задетый за живое, Шатилов торопливо достал из-под скамьи чемодан, открыл его. В нем лежали автомат и полбуханки хлеба. Он вынул оружие, протянул бойцу. Тот внимательно рассмотрел алюминиевую пластинку, на которой без всякой претензии на художество было вырезано: «Лучшему стахановцу от гвардейцев».
– Раз лучший – значит, больше стали даешь? – хмуро спросил один из бойцов, собравшихся вокруг.
– Больше, – с достоинством ответил Василий.
– И намного? – поинтересовался боец с верхней полки, внимательно следивший за беседой.
– Тонн на двадцать в смену.
– Пятьсот тонн в месяц?
– Пятьсот тонн… – произнес кто-то в стороне, и Василию послышался в этих словах упрек.
– Печь, говоришь, не станет? – домогался боец с верхней полки.
Шатилову показалось, что беседа идет к благополучному завершению.
– Конечно, нет.
– А эти пятьсот тонн кто за тебя даст? Об этом ты думал? Знаешь, как думать надо, когда делаешь что-нибудь? Надо прежде всего себя спросить: а если все так сделают, как я? Вот ты представь: все сталевары побросали печи и ушли на фронт. Что тогда? Стране нашей конец – стрелять-то нечем. Ты беспартийный?
– Не-ет, – с трудом выговорил Шатилов. Давно он не испытывал такого жгучего стыда.
– М-да… – протянул боец со шрамом. – Парень ты неплохой, а живешь только чувствами. Разумом надо жить.
– Товарищи, поймите, я танкист, башенный стрелок, – взмолился Шатилов.
– С какой же ты башни стрелять будешь, если за тобой остальные потянутся? Или ты считаешь, что на заводе ты только один патриот?
Шатилову стало жарко, лоб его взмок. Все это он готовился услышать в военкомате от людей, выполняющих служебные обязанности, обдумал свои возражения. Но никак не ожидал, что получит такую взбучку от рядовых бойцов, на чью поддержку и сочувствие он рассчитывал.
Бойцы оставили его в покое и заговорили между собой.
Василий не слышал их. Поглощенный своими мыслями, он так и сидел с автоматом на коленях.
«А ведь они правы, – с горечью размышлял Шатилов. – Что, если Смирнов, Бурой и остальные последуют моему примеру? Молодежь поголовно рвется на фронт. Правы и насчет пятисот тонн. Кто их даст за меня? – И он явственно увидел укоряющие глаза Пермякова, удивленные – Макарова, возмущенные, негодующие – Гаевого. – Что же делать? Вернуться? Стыдно. Скажут: сдрейфил. А как встретиться с Ольгой? Ведь она поцеловала меня не как Василия Шатилова, а как бойца, идущего защищать Родину. – Он долго сидел в раздумье, потом махнул рукой: – Пошли бы к черту эти проповедники! Ничего позорного в моем поступке нет».
Поезд замедлил ход, колеса застучали на стрелках. Шатилов спрятал автомат в чемодан и, попрощавшись со спутниками, вышел в тамбур.
14
Только на третьи сутки возвратился Пермяков на завод. Гаевого в парткоме он не застал, пришел к Макарову и свалился в кресло.
– Ну? – потребовал объяснения Макаров.
Пермяков отрицательно покачал головой.
– Да, порядки у вас в организации… – холодно сказал Василий Николаевич.
– У вас порядки! – вспыхнул Пермяков. – Вы человек наторелый, надо знать, чем люди дышат. Просит сталевар отпуск на два дня, и вы, не спросив зачем, не подумав, даете. А сами еще упрекаете: «У вас в организации». А организация не ваша, что ли?
– Как там в области? – неожиданно миролюбиво спросил Макаров.
– А что я видел? В военкомате сидел. Не представляете, что там делается. Приступом добровольцы берут.
– Значит, таких, как Шатилов, много?
– Куда там! – И, помолчав, Пермяков сказал: – Хитер он. Обставил военкома. Тот с ним как с человеком обошелся. Поговорил, потребовал с него слово коммуниста, что на завод вернется, пригрозив, конечно, что, если слово не даст, под конвоем отправит. Я сразу понял, что улизнул, дальше подался, раз тут сорвалось.
– В самом деле всех обставил, – согласился Макаров.
– Неприятностей теперь много будет. И командиру нашей подшефной дивизии попадет. Реликвии реликвиями, но два автомата годных вручили гражданским лицам. Военком считает, что это отсебятина, и грозился, что сообщит командующему фронтом. Чтобы не повторялось.
Пермяков вышел из кабинета с чувством досады. «Тоже мне начальник! – возмущался он. – Потерял лучшего сталевара и ухом не ведет».
Пройдя по рабочей площадке, он решил заглянуть на девятую печь – кто же там вместо Шатилова?
– Подошел – и остановился как вкопанный. У среднего окна стоял Василий и внимательно рассматривал свод.
Пермяков вернулся в кабинет к Макарову до предела разозленный.
– Вы что из меня мальчишку строите?
– Садитесь, отдыхайте и не кричите. – Макаров добродушно улыбнулся. – Все хорошо, что хорошо кончается.
…Так и не удалось Пермякову заглянуть в беспокойную душу Шатилова. Испортил он все строго официальным началом беседы, и даже когда перешел на отеческий, а потом и дружеский тон, Василий продолжал молчать или отвечал односложно.
Отпустив Шатилова, рассерженный Пермяков позвонил Гаевому.
– Нашкодил и не кается. Надо проработать его и на цеховом партсобрании, и на общезаводском, да и в газете хорошо бы фельетончик тиснуть. Было бы для молодежи нравоучение.
Последнее время молодые рабочие все чаще самовольно уходили с завода в армию, и предложение Пермякова понравилось Гаевому. Он вызвал сталевара к себе.
Шатилов сказал умоляюще еще с порога:
– Хоть вы мне морали не читайте, Григорий Андреевич. Я их уже наслушался… Уже все понял. Лучше ругайте.
Просительный тон так не вязался с мужественной внешностью сталевара, что Гаевой невольно улыбнулся. Он вышел из-за стола, усадил Шатилова в кресло напротив себя. Василий попросил папиросу.
– Разве дымишь?
– В тяжелую минуту…
– Брось лучше, пока не втянулся. – И Гаевой, делая затяжку за затяжкой, подробно, как врач, прочитал чуть ли не лекцию о вредном действии никотина.
– А вы сами? – поддел его Шатилов, успокоенный мирным началом беседы.
– Я, Вася, давно начал. Юнцом под Каховкой. Английские трофейные соблазнили. Мне трудно оставить. – И круто повернул разговор: – Как у тебя с Пермяковой? Расклеилось?
Шатилов метнул на парторга растерянный взгляд и промолчал.
– С кем дружишь? – допытывался Гаевой.
– С Иваном Петровичем и еще… с Бурым. Но это больше приятель по комнате. Парень он компанейский, но какой-то… развороченный.
– Маловато у тебя друзей. Некому душу излить. Не будешь же отцу на дочь жаловаться… – И Гаевой рассказал о сложном пути, которым пришло к нему первое настоящее чувство к девушке.
Хотя Шатилов и понимал, что не за этим вызвал его парторг, разговор был таким искренним, что он почувствовал себя равноправным собеседником.
– Девушку звали Надеждой Игнатьевной?
– Надей. – Гаевой улыбнулся одними глазами и невольно ощупал карман, где лежало написанное левой рукой, каракулями письмо. Оно было бодрым: «Ничего, Гришенька, не горюй, будем строить жизнь в три руки». – «Еще меня утешает, а самой придется расстаться с хирургией. Сколько мук доставит ей это сознание… Как все нелепо! Муж в тылу, а жена… Ах, Надюша, Надюша, родная моя!»
Григорий Андреевич стал расспрашивать Шатилова о Пермякове – какой характер, каков он в семье – такой ли строгий, как в цехе.
Василий тепло отозвался о Иване Петровиче, сдержанно – о его жене и с восхищением – об Ольге. До сих пор он об Ольге не рассказывал никому и не подозревал, что может говорить о ней запоем, проникновенно и долго. Все наболевшее, глубоко спрятанное неудержимо рванулось наружу, как река, прорвавшая плотину.
Василий совершенно забыл, что перед ним человек старше его на полтора десятка лет, со своим горем, со своими заботами, занятый гораздо более важными делами, чем его, Шатилова, трудная любовь.
И Гаевой забыл, что в цехе у телефона сидит Пермяков и ждет указания, как ставить завтра на партсобрании вопрос о Шатилове.
– У тебя невыгодное положение, – сказал Гаевой, когда, наконец, Шатилов замолк. – Они все время вместе – и в институте, и дома занимаются, и на подсобном, а у тебя такого контакта нет. И интересы у них больно уж общие – учеба.
– Теперь я все сам отрезал. – Василий тяжело вздохнул. – Даже проведать не могу. Стыдно. Столько об армии говорил…
Гаевой задумался. Нельзя было упускать удачного случая поучить молодежь. Но как это отразится на самом Шатилове? Если он осознал свою неправоту, то обсуждение проступка может слишком больно ударить его. Вспомнил себя в детстве. Отец у него был крутого нрава, за малейшую провинность давал жесточайшую трепку, а он, мальчишка, все равно проказил. Даже еще больше, назло, разожженный тайным желанием противодействовать. Мать не раз вступалась: «Ты, Андрей, бей, да не перебивай». Вот и здесь как бы не «перебить». И так у парня горя много: смерть брата, потеря любимой.
И вместо внушения Гаевой подробно расспросил Шатилова о том, как подвигается учеба, удовлетворяет ли работа, не скучает ли он по должности мастера. Удивился, когда услышал, что Шатилов хочет остаться сталеваром, – нравится делать все своими руками, а к учебе стремится «для внутреннего роста, для того чтобы стать настоящим профессором своего дела».
Взглянув на телефон, Гаевой вспомнил о Пермякове. Ждет, бедолага, но не звонить же ему при Шатилове.
– Ты домой? – спросил он.
– Да.
– Тогда пойдем вместе. Давно не был в вашем общежитии. Подывлюсь, як хлопци живут, та до тэбэ зайду. Малювання свое покажешь?
– Идемте. – Василий обрадовался и исходу беседы, и украинской речи, от которой пахнуло родными местами; но более всего был он рад тому, что еще побудет с этим человеком, которому впервые открыл все, что было на душе, без утайки.
15
Применение воздушного дутья в мартеновском цехе поразило Пермякова. Еще слушая лекции на курсах мастеров, Пермяков узнал, что при продувке чугуна воздухом температура металла растет от сгорания примесей чугуна. А сейчас он воочию убедился, что и сталь после продувки становится значительно горячее.
Это свойство воздушной струи Иван Петрович задумал применить для расплавления бугров в печи. Как ни требовал он от сталеваров своей смены тщательной чечулинской завалки, все же довольно часто наблюдал такую картину: металл почти везде расплавился, а в одном или двух местах лежал бугром, и это надолго отодвигало конец плавления. «А что, если ничего не выйдет и народ смеяться будет? – мучительно размышлял Пермяков. – Если сочтут затею глупой, – это полбеды, мало кто глупостей не делает, – а вот если в зависти упрекнут – хуже».
В конце концов он набрался решимости. Как-то ночью, увидев на тринадцатой печи два бугра на откосах, велел сталевару пригнать вагонетку и привинтить шланг с трубой к вентилю сжатого воздуха. Пермяков терпеливо сжег трубу – бугор, казалось, почти не изменился в своих размерах.
Отчаявшись в успехе, он велел подать вторую трубу и только хотел сунуть ее в печь, как услышал начальственный голос директора:
– Почему не пять труб? Одной орудовать – все равно что слона соломинкой надувать.
Ротов не понял затеи мастера и решил, что идет обычная макаровская доводка.
Пермякова словно ветром сдуло с вагонетки. «Лешак тебя носит по ночам!» – мысленно выругался он, подходя к Ротову, и сбивчиво поделился своими соображениями. В стороне, подбоченясь, ехидно улыбался сталевар.
– А ну-ка, рукавицы и кепку, – обратился к сталевару Ротов. С трудом напялив на свою большую голову кепку, с неожиданным для его грузного тела проворством влез на вагонетку, легко подхватил трубу и двумя сильными движениями ввел ее в печь.
«Хороший бы из тебя каталь получился». – Пермяков невольно вспомнил те времена, когда мартеновцев подбирали по росту. Выстроит десятник в шеренгу перед заводскими воротами желающих наниматься на работу, зайдет со стороны и смотрит: чьи головы торчат выше других – тех и отбирает. Люди помельче попадали в цех только по знакомству и за водку – ведро, не иначе.
Ротов сжег трубу, выбросил из печи огарок, спрыгнул с вагонетки, посмотрел в окно на второй бугор, потом на часы и задумался.
Сталевар заглянул в печь, приказал машинисту убрать вагонетку и бросил какой-то непонятный взгляд на Пермякова.
Иван Петрович нерешительно подошел к окну. Бугра в печи словно не было. Осмелев от радости, он приблизился к директору.
– Леонид Иванович, слева еще один бугор остался.
– А они были одинаковы размерами? – спросил Ротов.
– Как близнецы.
– Второй бугор не трогайте. Интересно, когда он сам расплавится. Посмотрим, насколько этот способ сокращает плавление.
Пермяков ожил, засуетился у печи и почему-то заставил подручных побрызгать водой площадку, которую только недавно поливали.
Когда бугор расплавился, Ротов подозвал Пермякова.
– Давно так работаете?
– Только сегодня попробовал.
– Хвалю, – сказал Ротов. – На полчаса период плавления сократили. Вот и подсчитайте: по полчаса на каждой плавке по обоим цехам – сколько это?! – Он протянул мастеру руку и ушел.
Распорядившись давать руду, Пермяков помчался к телефону – не терпелось поделиться радостью с Макаровым, хотя время было не очень подходящее.
Макаров просидел всю ночь, уточняя график скоростного ремонта, и только заснул. Проснувшись от звонка, первым делом взглянул на часы – пять минут шестого. Вспомнил, что в цехе работает Пермяков, и встревожился: этот мастер по пустякам никогда не звонил. «Авария», – решил Макаров, снимая трубку, и очень удивился, выслушав спокойное сообщение Пермякова.
– За это спасибо, Иван Петрович. Но до семи часов подождать можно было? Только глаза закрыл.
– Нельзя никак. Начальник цеха должен не позже директора знать. Позвонит вам, а вы не в курсе дела.
Пермяков действительно позвонил не напрасно. В семь часов Ротов вызвал к себе Макарова.
– Я вам компрессоры нашел, – сказал Ротов, уверенный в том, что Макарову невдомек, для чего они потребовались.
– Спасибо.
– А для чего они вам? – притворно спросил директор. – Воздуха у вас и так достаточно – компрессорное хозяйство прекрасное.
– Пермяковский способ потребует много воздуха и труб, – подавив улыбку, ответил Макаров, – он понял этот розыгрыш.
– Ого, информация поставлена у вас неплохо! Когда узнали?
– В пять минут шестого.
– Вот старый чертяка, службу знает! Я в это время еще в цехе был. Премируем старика за предложение. Компрессоры получайте немедленно. Людей для установки дам. Надо внедрить этот способ по возможности скорее и на всех печах обоих цехов. Только проследите за азотом в стали – может повыситься его содержание. Сколько у вас марганцевой руды на шихтовом дворе? – неожиданно спросил директор.
Макаров ответил.
– Соблюдайте экономию. Больше пока не прибудет ни килограмма.