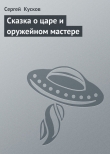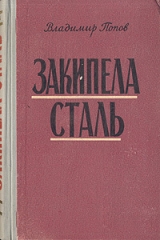
Текст книги "Закипела сталь"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
3
Валерий спешил домой, не чувствуя под собой ног от охватившей его радости – через три дня он регистрируется с Ольгой. Она станет его женой, Ольгой Андросовой. Как все это получится в жизни? Вроде совсем недавно он, мальчик, думал о том, что когда-то женится, что у него будет самая красивая, всем на зависть, жена. А какая – он не мог представить себе, потому что о красоте судил больше по картинкам из книг и понимал, что картинки – одно, а живые люди – совсем другое. Туманно виделась длинная золотистая коса (без косы что за женщина), горделивая осанка и глаза такие, что от их взгляда хочется сотворить что-то необыкновенное. Но постепенно неземная красавица, фея, очеловечивалась. Мечталось уже, чтобы по контрасту жена была темноволосой, темноглазой и обязательно женственной. И вот среди многих девушек он выделил Ольгу.
Валерий вспомнил, как час назад он убеждал Ольгу принять его фамилию. Она конфузливо смеялась, отнекивалась – ну какая разница, – а он все-таки настоял на своем: моя жена – и фамилия должна говорить о безраздельной принадлежности мне.
Он ясно представил себе, как обрадуется мать, не перестававшая твердить, чтобы он не упустил эту прелестную девушку, лучше которой в городе, но ее мнению, не было. Последнее время Агнесса Константиновна то и дело расточала по адресу Ольги похвалы: красива, воспитана, даже трудно поверить, что она дочь простого рабочего. Прямолинейная, правда, до резкости, но это не беда, отшлифуется. Ей нравилось, что Ольга скромно, со вкусом одевается, а главное – то, что сама себе шьет. «Ну, где еще отыщешь такой клад? Своя портниха в доме», – не раз говорила она в семейном кругу.
Увидев сына, Агнесса Константиновна навзрыд заплакала.
– Что случилось? – Встревоженный Валерий подбежал к матери.
Она полулежала на диване, и отец тер ей виски карандашом от мигрени.
На столике Валерий увидел повестку из военкомата с вызовом на медицинское переосвидетельствование и понурил голову.
– А ведь мы с Олей в субботу регистрируемся…
– Какая тут женитьба, – проворчал отец. – В пятницу комиссия, а в понедельник уже могут отправить.
– Любовь перед этим не останавливается, – патетически произнесла Агнесса Константиновна, приподнявшись на диване. – Пусть женится. Будет знать, что у него жена. Хорошая, верная, любящая. Обязательно нужно сыграть свадьбу. Всякое может случиться. Вернется, не дай Господи, без руки, без ноги… А Ольга с ее серьезностью будет верной до конца…
– Мама… – перебил ее Валерий.
Агнесса Константиновна, внезапно оживившись, стала намечать гостей, а потом принялась вспоминать, какое высокое общество было на ее скромной свадьбе.
– Да… – глубоко вздохнул при этом Андросов-отец. – Иных уж нет, а те далече…
Мать с сыном начали делиться своими соображениями о подготовке к торжеству, а отец незаметно удалился в кабинет – в этом доме всеми делами вершила Агнесса Константиновна.
– Мама, о повестке Ольге я не скажу. Для чего омрачать ей эти дни?
– Боже тебя сохрани! Это само собой разумеется. Ведь ей благоразумнее не выходить теперь замуж. Она может отказаться. А любовь испытывать пока не стоит. Надо ее закрепить женитьбой, тогда никакие испытания не страшны.
Валерий появился на свет, когда Агнессе Константиновне уже минуло тридцать, и она баловала единственного сына как могла. Его желания беспрекословно выполнялись, он рос требовательным и эгоистичным. Правда, он был очень любознательным, рано пристрастился к чтению и, предоставленный в выборе книг самому себе, читал все, что попадалось под руку. Флобер, Мопассан, Бальзак, Жорж Санд были прочитаны им гораздо раньше, чем следовало. Отец иногда пытался возражать против такого «круга чтения» для сына, но Агнесса Константиновна смотрела на это сквозь пальцы. И естественно, что у мальчика складывалось убеждение, будто любовь – основное содержание жизни человека, единственное, что ее целиком заполняет.
Это убеждение бессознательно укрепляла в нем и мать. Сама не испытав большого чувства и многие годы тщетно о нем мечтая, она охотно в непринужденных беседах с приятельницами вспоминала молодые годы, флирты, увлечения и разные любовные истории многочисленных знакомых.
Агнесса Константиновна считала, что детям в малом возрасте не опасно слышать то, чего они не понимают, и не подозревала, что в памяти Валерия многое оседало и наслаивалось.
Отец Валерия, совершенно не занимавшийся воспитанием сына, был бы очень удивлен, если бы узнал, что и он влиял на формирование взглядов мальчика. Раболепно подчинившийся жене, ни в чем ей не перечащий, смирившийся со своей «сладкой каторгой», он вызывал такой протест в душе Валерия против ущемления мужского достоинства, что тот, боясь походить на отца, сознательно воспитывал в себе прямо противоположные черты: не подчиняться, а подчинять, не жертвовать, а требовать жертв, не столько любить, сколько быть любимым.
Жилось Валерию радостно и легко. В доме он никогда не видел ни в чем нужды. Он воспринял этот мир благоустроенным и спокойным, и ему казалось, что всегда так было и так будет.
В школе учился он тоже легко благодаря прекрасной памяти и незаурядным способностям, но относился ко всем наукам одинаково. У него не было нелюбимых предметов, но не было и любимых, и он удивлял даже своих товарищей отсутствием призвания к какому-нибудь определенному занятию. Сверстники Валерия в пятнадцать-шестнадцать лет уже намечали себе профессии, а он, даже сдавая выпускные экзамены в десятом классе, не знал, в какой вуз будет поступать. Ему было все равно, где и чему учиться.
– Поражаюсь я сыну, – жаловался тогда Андросов-отец коллеге по работе. – Я гораздо раньше него задумывался над тем, кем буду. В двенадцать лет, начитавшись Пинкертона, решил, что буду бандитом и не иначе как взломщиком сейфов, в четырнадцать, познакомившись с Конан-Дойлем, передумал, решил стать «носителем добра» – сыщиком. Воспитывал себя соответствующим образом, расшифровывал записки, написанные товарищами, интересовался методами следствия, судебно-медицинской экспертизой. Вот откуда пошло увлечение медициной, которое окрепло, когда поумнел. В шестнадцать лет я уже твердо знал, что буду врачом. А этот ничего не думает. Медицина его не привлекает вовсе, техника кажется сухой, геология – трудной, математика – нудной – «схоластическое цифроедство», гуманитарные науки, правда, интересны, но педагогом быть не хочет.
– Это участь многих избалованных детей, – вздохнул коллега.
4
Около трех часов ночи Гаевого разбудил осторожный стук. Приснилось? Нет, стук повторился, услышала его и Надя. Гаевой встал, открыл дверь. В коридоре стоял шофер директора, дюжий, широкоплечий парень, под стать хозяину машины.
– Леонид Иванович требует немедленно к себе.
– Что случилось? – встревожился Гаевой. – Я ему сейчас позвоню.
– Не звоните – телефон не работает. Жду вас внизу.
Теряясь в догадках, Гаевой оделся и спустился вниз. Дежурная по гостинице проводила его сонным взглядом и вздохнула вслед: «Ох, и работа у людей! То приходят среди ночи, то уходят под утро».
Замелькали уличные фонари, проносились мимо уснувшие дома с темными окнами. Шофер резко затормозил «эмку» у дома Ротова.
Несмотря на поздний час, дверь открыла Людмила Ивановна и, улыбаясь, проводила Гаевого в кухню.
– Садись, будем завтракать, – весело встретил его Ротов. На нем был старый ватный костюм и видавшие виды валенки.
Гаевой смотрел на него в полном недоумении.
Людмила Ивановна внесла валенки и старенький полушубок, положила на сундук.
– Это ваша амуниция, – сказала она Гаевому, считая, что муж уже все объяснил.
Только теперь Гаевой догадался.
– Окаянные! – беззлобно выбранился он. – Ну разве так делают! Хоть бы предупредили. Я в час ночи только лег.
– Садись, не сычи, – засмеялся Ротов и могуче хлопнул Гаевого по плечу. – Предупредили… Предупреди – так не поедешь, а сейчас тебе деваться некуда. Все равно ночь пропала. Если домой вернешься, до утра злиться будешь, сам не заснешь и Наде не дашь.
Сбросив кепку и пальто, Григорий Андреевич позвонил домой. («Внеочередная блажь. Директору, видишь ли, охота поохотиться».) Сев за стол, он увидел на стене нарисованных чернилами пузатых человечков и залился смехом.
– Тебе смешно, а нам слезы, – с деланным огорчением сказал Ротов. – В столовой все обои подобным орнаментом расписаны. Это когда Люда на эвакопункте пропадала. Мамы нет, папы нет, – вот они и развлекаются. И главное, до сих пор уверяют, будто так и было.
Выпили по рюмке разведенного спирта, закусили рыбными консервами и начали собираться. Валенки оказались Гаевому впору.
– Не забыл моего размера? – удивился он.
– Как же, помню. Всего на три номера меньше моего.
– А ружья? – спросил Гаевой, надев старый полушубок, полы которого спускались до щиколоток.
– Все уже в машине.
– Ни пуха ни пера! – крикнула вдогонку им Людмила Ивановна.
– Пух и перья будут у Гриши, – пошутил Ротов, намекая на то, что Гаевой стреляет значительно хуже его.
Уместились на заднем сиденье и мягко покатили.
Трассирующими пулями мелькнули уличные фонари, но вот свет фар стал ярче – выехали за город. Прямая бугристая дорога прорезала лес; беленым частоколом побежали по ее сторонам длинностволые березы, проглатываемые вдали темнотой. Редкие снежинки вспыхивали в лучах света, как электрические искры, от них рябило в глазах. Хорошо выглядит ночью заснеженная лесная дорога, облитая золотящим светом фар!
Машину сильно подбрасывало на ухабах.
– Держись покрепче, – посоветовал Гаевому Ротов, – а то крышу пробьешь головой.
Не снижая скорости, проехали километров двадцать, настороженно вглядываясь в осветленную даль. Вдруг два пятна – темное и светлое – медленно переползли дорогу, словно дразня своим спокойствием, и скрылись за обочиной.
Ротов встрепенулся. Шофер остановил машину, быстро выскочил из нее и побежал назад. Вернулся он с зайцем. Не говоря ни слова, будто добыча была самой заурядной, бросил зайца под сиденье и тронул машину.
– Как ты его? – изумился Леонид Иванович.
– На прошлой неделе он еще тут лежал, да мне машину лень было останавливать, – небрежно ответил шофер.
– Не бреши.
– Спать не нужно, Леонид Иванович. Охота!
– Да расскажи! – взмолился Ротов.
– Потом, на привале. Вы сами прошлый раз, когда я спросил, как везти, сказали: «Вези молча».
– Злопамятный. В прошлом году оборвал один раз, когда разболтался, – до сих пор помнит.
Вдали на дороге мелькнул заяц. Шофер остановил машину, сказал:
– Начались заячьи места.
Ротов достал из чехла двустволку, собрал ее, заложил патроны, перебрался к шоферу и открыл ветровое стекло. Холодный ветер ворвался в кузов.
– Не поедем, пока не скажешь, – заупрямился Ротов и положил руку на баранку.
– Это из случаев случай, – охотно откликнулся шофер, – его самого душило желание рассказать о необыкновенном трофее. – Лиса через дорогу зайца волочила, здоровущая такая, хвост один полметра. Даже когда мы мимо проскочили, не бросила. Удрала, только завидев меня. Продремали вы.
– Повезло… – с завистью протянул Ротов. – И знаешь, в чем еще повезло? В том, что Григорий Андреевич с нами. Ему поверят, а нам с тобой, как охотникам, нет.
– О-хот-ни-ки, – в тон ему раздельно проговорил шофер. – С начала войны первый раз выехали.
Он снова погнал машину. Встречный упругий ветер пробирался Гаевому в рукава, колючие снежинки били в глаза. Замерз нос, и Григорий Андреевич стал оттирать его, покряхтывая.
Из придорожных кустов выскочил заяц и, ослепленный светом фар, пружиня ногами, помчался вдоль дороги.
– Наш! – глухо сказал Ротов, вскидывая ружье к плечу.
Прижав уши, заяц летел вовсю, уходя от машины. Пока он был недосягаем для выстрела. Но вот шофер добавил газу, и расстояние между зайцем и охотниками начало медленно сокращаться.
– Бейте! – крикнул шофер.
Ротов выстрелил, но в этот миг машина подпрыгнула на ухабе, и он промахнулся.
Ветер бросил дым в лицо Гаевому. Он с удовольствием ощутил едкий, но приятный запах пороха.
Ротов выстрелил вторично. Заяц на ходу перевернулся через голову и замер. Резко вильнув в сторону, чтобы не переехать добычу, шофер остановил машину. Через несколько минут Леонид Иванович возвратился с зайцем и предложил Гаевому поменяться местами.
Гаевому не везло. Зайцы перебегали дорогу вдали, и ни один больше не попадался на свет фар.
Начало светать. Справа над изломанной линией леса по небу разливалась желтизна, и на светлом фоне замелькали ажурные верхушки берез. Голые веточки казались трещинами на небе. В дремотной лени перемигивались редкие звезды. Поглощенный впечатлениями, Григорий Андреевич не сообразил, почему шофер затормозил машину, но, взглянув на большую березу в стороне, увидел черные силуэты тетеревов. Ротов передал ему через плечо малокалиберную винтовку с оптическим прицелом.
Сдерживая давно знакомую дрожь в пальцах, Гаевой прицелился. В кружке прицела птицы сразу приблизились, стали крупными.
– Нижнего, нижнего, – прошипел Ротов.
Григорий Андреевич подвел вертикальную линию прицела под птицу, выждал, когда винтовка замерла, и нажал спуск. Было странно, что после почти неслышного выстрела большая птица перевернулась на ветке и мягко упала в снег. Остальные тетерева, склонив головы, с удивлением смотрели вниз.
Гаевой прицелился в другого тетерева, но дрожь в пальцах усилилась. Птица прыгала в кружке из стороны в сторону. Целился он долго, Ротов затаил дыхание. Пуля ударила в ветку, посыпался тяжелый снег. Тетерева сорвались с места и улетели.
– Эх, марала, трех упустил! – не смог скрыть досады Ротов. – По одному можно было всех перебить. Вылазь! Моя очередь.
Гаевой пошел поднимать дичь. Распластав крылья, на снегу лежал большой косач.
На отдых расположились в бревенчатой охотничьей избушке, заваленной по окна снегом. Ротов блаженствовал после трудов, развалившись на широкой скамье. Подушку ему заменила охотничья сумка. На другой скамье примостился Гаевой. Он подложил под голову валенки и лежал с закрытыми глазами. Заснуть не удавалось – мешал шум прогреваемого шофером мотора.
– Гриша, – тихо окликнул Ротов.
– Да.
– О чем думаешь? О заводе?
– Нет.
– Вот и хорошо. О заводе сегодня думать запрещено. Надо же хоть на один день отрешиться от всех забот и отдохнуть. – Но через минуту снова спросил: – Гриша, а почему ты скрыл от меня, что Шатилов на фронт убегал?
– Это тебе знать было не обязательно. Проступок этический, дисциплинарному взысканию не подлежит… Одаренный он малый, оказывается. Художник. Нигде не учился, а техника блестящая. Видел рисунки. Послать бы его после войны в художественное училище.
– Ну вот еще! – проворчал Ротов. – Сталевар он тоже талантливый, и трудно сказать, какой из его талантов нужнее.
– Утилитарист ты. Я считаю, что сталеваром может стать каждый, а художником – попробуй. Завидую таким людям! Сам бесталанным родился. Когда-то на ливенке учился играть и то не выучился – дальше «саратовских страданий» не пошел.
– Даже охотничьего таланта у тебя нет, – поддел Ротов. – Как вылазка наша нравится?
– Не особенно. Директорская охота. Браконьерская. Из окна машины природы не видно.
– Пойди полазь по пояс в снегу – насмотришься. – Ротов умолк, но лежал неспокойно, то и дело грузно ворочался на скамье.
«Ишь, черт, укусил походя: «Даже охотничьего таланта нет!» Не прав он, к чему-то и у меня талант кроется, – думал Гаевой. – Бесталанных людей не существует, но не каждый найти себя умеет, и от этого столько бед в жизни. Выберет себе человек дорогу не по призванию, а по моде, по схеме – сколько таких! – потом и сам мучается, и других мучает. Бухгалтер бы из него получился – цены не было бы, а он в школе детей калечит. Буцыкин вот в инженерах ходит, да еще с претензией на научного работника, а этому проныре агентом по снабжению быть, доставалой. Вот Леонид, несомненно, талантливый директор, но шлифовать его нужно, и шлифовщик должен быть хороший. А я?»
Под Ротовым потрескивала скамья, Гаевому надоел этот скрип.
– Кусает тебя что, Леня?
– Нет, мысли одолели. Соображаю, каким должен быть директор при коммунизме.
– И как? Получается?
Ротов не видел лица Гаевого, но чувствовал: улыбается.
– С трудом.
– Не мудрено. Через ступеньку перешагиваешь. Еще не уразумел, каким ты при социализме должен быть. Много мусора к тебе пристало, и отряхнуться от него не хочешь.
– Какого мусора? Это ты о моих воображаемых пороках? Оставь их в покое. Пороки всех времен и народов, вместе взятые, никогда не сравнятся со злом, причиненным одной войной.
– Ух ты, теоретическое обоснование под себя подводишь!
– Не я. Двести лет назад Вольтер это сказал. Война, понимаешь, а ты о пустяках. Я по укрупненным показателям живу.
– Укрупненные показатели тоже из мелочей складываются. Обидеть человека – подумаешь? Пустяк для тебя. А обидел одного, другого, третьего – вот и весь коллектив на тебя в обиде. Нет, не чувствуешь ты человека, Леонид, не веришь в него.
– Я не верю? Да кто у меня план выполняет?
– Вот-вот! Как исполнителей ты их признаешь. Но ведь это еще и творцы, и в душу надо уметь заглянуть.
Ротов резко поднялся.
– Я мужик крутой, Григорий. Ты мне уже немало крови испортил. Если еще и тут заедаться будешь – сяду в машину и уеду. Добирайся пехом. За двое суток и природой налюбуешься.
– Остер топор, да сук зубатый. Далеко не уедешь. Шину прострелю. Шина не тетерев, попаду.
Вошел шофер, отряхнулся от снега, подбросил дров в печь и уселся тут же на полу. Тихо стало. Только весело потрескивали дрова в печи да шипел поджариваемый на вертеле тетерев. Закопченную стену тускло освещали оранжевым светом холодные лучи мартовского солнца.
5
– Я так счастлива, так счастлива!.. – воскликнула Ольга, вбегая в столовую Андросовых. Она закружила по комнате Агнессу Константиновну, расцеловала свекра и внезапно опустила голову, смущенная такой необычной для нее экзальтацией, хотя не видела в этом ничего предосудительного. Разве это не самый счастливый день в ее жизни, когда хочется обнять весь мир и говорить, говорить какими-то особыми словами, вложив в них всю свою нежность, всю силу своих нерастраченных чувств!
– Что вы так долго? – спросил Андросов. – Заходили куда?
– Нет, просто очередь там. Одна девушка регистрирует и браки, и рождения, и смерть.
Незадолго до прихода гостей Валерий протянул Ольге повестку.
Ольга пробежала глазами – и остолбенела.
– Получил еще в среду, но не хотел тебя тревожить. Ведь это ничего не могло изменить, правда? – Валерий выжидающе помолчал и виновато улыбнулся. – Повоюю. Вернусь с орденами, они мне, право, пойдут.
Тяжело вздохнув, Ольга опустилась на стул, чуть ли не шепотом сказала:
– Не думала, что придется нам так скоро расстаться…
Валерий провел рукой по ее волосам, поцеловал повлажневшие глаза. Тронуло, что Ольга ни в чем его не упрекнула.
– Прости меня, Оленька. Все вышло иначе. Дали отсрочку на год. Целый год у нас впереди.
– Ах, все-таки отсрочка? – лицо Ольги посветлело. – Почему же ты так странно шутишь, Валерий? Тебе что-то изменяет чувство такта. Отсрочку дали из-за учебы?
– Н-нет… – протянул Валерий. – Понимаешь, оказывается, у меня что-то в легких… – Услышав звонок в передней, он поспешно вышел открыть дверь.
В этот вечер Шатилов поджег свод.
Еще перед уходом на завод он почувствовал себя нездоровым. До половины смены работал хорошо, но, когда началось плавление и шлак поднялся толстой шубой, понял, что печь перестала повиноваться ему. Он добавлял газа – пламя становилось коптящим, вяло поднималось к своду, лизало его; добавлял воздуха – превращалось в короткое, яркое, острое, как в автогенной горелке.
Василий уже плохо соображал, что делает. Все отчетливее рисовалось ему, что происходит в это время у Андросовых, как блестят у Ольги глаза, каким счастливым чувствует себя рядом с ней Валерий. Не знай он Валерия, не встречайся с ним – соперник вставал бы в его воображении расплывчатым, особых примет не имеющим, а сейчас он видел все с такой предельной ясностью, словно сам присутствовал в комнате, где никогда не был.
Когда Василий отогнал от себя навязчивые мысли, одна за другой всплывающие в разгоряченном мозгу, и взглянул на свод, было уже поздно. Огромные сосульки, толщиной в руку, свесились со свода и опустились в шлак. Шатилов закричал так, словно его ранили, бросился к рукоятям управления, скантовал газ и пристудил печь; потом в отчаянии принялся длинным крюком ломать сосульки. Этой работы ему хватило надолго. Плавку он так и не выпустил.
Весь остаток смены он мучительно думал о рапорте. Что он скажет? В первый раз свод на его печи поджег подручный. Тогда начальник цеха не обвинил его, понял, как это произошло, а сегодня? Если Макаров снимет его с работы и пошлет на погрузку мусора – возражать будет нечего.
Перед рапортом Макаров осматривал печи. Увидев шатиловское «художество» и не поверив своим глазам, он взглянул на сталевара, снова на свод и опять на сталевара.
– Чей поджог?
– Мой, – отводя глаза в сторону, ответил Шатилов.
Что кричал Макаров, Василий уже не разбирал: все слова слились для него в какой-то страшный поток.
На рапорте он испытывал жгучий стыд. С него, лучшего сталевара цеха, начальник распорядился удержать одну треть месячного заработка в частичное возмещение нанесенного материального ущерба.
Когда Шатилов возвращался домой, празднество в доме Андросовых уже близилось к концу. Подруги Ольги и товарищи Валерия разошлись, остались только Пермяковы да приятель отца Валерия – врач Могильный.
Иван Петрович понимал, что пора уходить, но никак не мог заставить себя подняться. Улучив момент, он шепнул жене:
– Вот и осиротели мы с тобой, Аннушка. Думал, что сына в дом возьмем, а вышло – и дочь отдали.
– Уж и осиротели… В одном городе живем. – Анна Петровна привстала: – Пора, что ли?
– Вот как этот балагур уйдет. – Пермяков показал глазами на Могильного.
Ему был противен этот пьяненький человечек с короткими ножками, огромной головой, которая, казалось, перевешивает туловище, и багровым грушевидным носом.
Врач, похоже было, и не собирался уходить. Он не сводил с Ольги масленых глаз, сонливо прикрытых дряблыми веками, и все время сыпал анекдоты. Андросовы наперебой угощали его, называли не иначе как «дорогой» и вообще относились с непонятным подобострастием.
Когда Ольга подошла к трюмо поправить волосы, Могильный, пошатываясь, приблизился к ней.
– Что вы на меня так недобро посматривали? – спросил он вкрадчиво, подслащенным голосом. – Не нравлюсь, вижу. Стар, лицом неказист и фигурой не вышел. Зато сердце… Не будь у меня такого сердца, Ольга Ивановна, не сидеть бы вам сегодня за свадебным столом. Слезки лили б, да-с.
Брови Ольги напряженно поползли вверх и, уловив в этом непроизвольном движении не то удивление, не то готовность слушать его, Могильный спохватился и поспешно отошел.
– Что он тебе говорил? – поинтересовался Валерий, как только Ольга подсела к нему.
Могильный чуть склонил голову в их сторону: навострил ухо.
– Молол что-то насчет своего доброго сердца, – небрежно ответила Ольга, но тревожное и вместе с тем заискивающее выражение лица Валерия удивило ее.
Выйдя вслед за Агнессой Константиновной в кухню, Ольга как бы невзначай спросила:
– Кто этот Могильный?
– Не сердитесь на него, Оля. Он милый, но очень несчастный в личной жизни человек. Жена – ординарная особа с беспокойной натурой. Ну, понимаете… шокирует его. И работа у него адская. Рентгенолог. При военкомате.
У Ольги от страшной догадки закружилась голова, в хаотическом нагромождении поплыли перед глазами все предметы. Так вот как досталась Валерию отсрочка! Устроили… Да, да, устроили. «А Валерий? Может быть, он не знает? – ухватилась она за единственную спасительную надежду. – Безусловно, не знает, не может знать». Но тотчас вспомнила, как насторожился Валерий, услышав от нее слова врача о добром сердце, и все предположения подтвердились с неопровержимой очевидностью.
Лишь только Агнесса Константиновна унесла гостям вазу румяного хвороста, Ольга бросилась в переднюю, схватила шубу и, не надев ее, не закрыв за собой дверь, в отчаянии побежала по улице прочь от этого дома.
Было мучительно больно и стыдно. «Это страшно. Это страшно», – повторяла она почти машинально, еще не осознав по-настоящему того, что произошло. Все спуталось в ее сознании, спуталось в сердце, перед глазами беспорядочно мелькали малоотчетливые картинки – девушки-студентки в светлых платьях, поздравления, поцелуи, комната загса и они, чинно и смущенно стоящие у регистрационного стола, елейно-саркастическая физиономия Могильного.
Уже пересекая главный проспект, она внезапно остановилась: показалось, что разговора с Агнессой Константиновной не было, что все это почудилось… Нет, он был, этот разговор. Но что, если вывод она сделала неверный? Не может Валерий, ее Валерий, быть таким… Ведь не щадил он себя тогда, бросившись в водоворот? Почему он сделал это? Неужели только потому, что боялся уронить себя в ее глазах? Значит, из-за нее рисковал жизнью. Потому что любил. А Родина не дорога ему?
– Жена дезертира? – стоном вырвалось из груди, и Ольга испуганно обернулась – показалось, кто-то другой с презрением бросил эти беспощадные слова. Безумно захотелось одного: не испытывать больше этой мучительной боли, лечь, закутаться с головой и заснуть. Скорее заснуть. Но где? Домой идти нельзя. Сейчас туда прибегут отец, мать, Андросовы и Валерий! Ее передернуло при мысли о встрече с ним. Пойти к подруге? Нет. Что ей сказать? И что вообще говорить в институте?
Торопливые шаги прохожего, недоуменно смотревшего на девушку, стоявшую на ветру с шубой в руках и непокрытой головой, вывели Ольгу из оцепенения. Она набросила на плечи холодную шубу и только теперь ощутила, что дрожит всем телом. Беспомощно оглянулась.
Невдалеке темным силуэтом на фоне освещенного огнями завода вырисовывалось здание инженерно-технического общежития. Ольга направилась к нему, зашла в вестибюль, попросила у дремавшей дежурной разрешения позвонить по телефону и набрала номер Андросовых. Ей долго никто не отвечал. «Наверное, на улице ищут». Потом она услышала голос Агнессы Константиновны. Собрав все силы, стараясь быть спокойной, Ольга сказала, что с Валерием у нее все кончено, и повесила трубку.
Дежурная оказалась человеком чутким. Когда Ольга, движимая непреодолимым желанием спрятаться от всех, попросила разрешения пересидеть до утра в вестибюле, она молча взяла ее за руку, отвела в кабинет заведующего общежитием и уложила на диване.
Утром Ольга застала отца собирающимся на завод. Иван Петрович сказал дочери много ласковых, успокаивающих слов, нежно поцеловал и, уходя, бросил на жену многозначительный взгляд: смотри, мол, не расходись. Но предупреждение было излишним. Анну Петровну так потрясло случившееся, что она притихла и только вздыхала.
В институт Ольга не ходила, стала неразговорчивой, замкнулась в себе. Напрасно Иван Петрович старался наладить прежний тон семейных отношений. Ничего не помогало. Дочь ни разу не обрадовала его улыбкой.
За эти дни Ольга возмужала, повзрослела, угрюмая сосредоточенность не сходила с ее лица. Но она нашла в себе силы держаться мужественно, не впала в свойственное молодости отчаяние, когда все кажется безвозвратно потерянным, а жизнь – пошлой, ненужной. Человек, прошедший долголетний путь, видавший горе и радость, не так легко поддается унынию.
Временами Ольга успокаивалась. Тогда ей казалось, что ничего страшного не случилось, что она неправильно истолковала факты и произошло недоразумение. Придет Валерий, все объяснит, и она поверит всему, что он скажет, лишь бы только снять этот страшный, навалившийся на нее груз.
Но Валерий не шел и этим окончательно подтвердил свою вину.
А у Андросовых по вечерам заседал семейный совет. После работы сюда приходил насмерть перепуганный Могильный и умолял что-нибудь предпринять для спасения всех.
– Если она решилась убежать со свадьбы, то может решиться и на большее, – доказывал он. – Переосвидетельствуют вашего птенчика, а он здоров как бык. Тут уже двух мнений быть не может. Тогда всем нам несдобровать. – И он уговаривал поочередно то Валерия, то Агнессу Константиновну пойти к Пермяковым упросить не предпринимать серьезных шагов.
Валерий наотрез отказался, а Агнесса Константиновна считала, что ее вмешательство ни к чему доброму не приведет.
Пока старшие строили планы, как выпутаться из создавшегося положения, Валерий отмалчивался, но когда они, так ничего и не придумав, впали в отчаяние, в раздражении сказал:
– Да перестаньте вы трястись. Противно просто. Никуда Ольга не пойдет и никому не заявит. Такие вещи делаются в состоянии аффекта. А я решил: завтра иду в армию добровольцем.
Мать всплеснула руками и заплакала, отец только вздохнул.
– Другого выхода у меня нет, – говорил Валерий. – Во-первых, я не могу посещать институт и сидеть рядом с собственной женой, не разговаривая и не общаясь с ней. Более дурацкое положение представить трудно. А во-вторых, не могу ходить в дезертирах под дамокловым мечом и ждать, когда в один прекрасный день все вскроется…
– Но к этому выводу можно было прийти раньше и не терзать всех, – наставительно произнес Могильный.
– Я и пришел к этому выводу сразу. Но выдержал из-за самолюбия. Вы, конечно, не знаете, что такое мужское самолюбие. Из-за него все можно поставить на карту. Уйди я в армию в первый же день, Ольга решила бы, что я бежал из трусости, спасая свою шкуру. Теперь она будет думать иначе: ушел из стыда.
– А разве тебе не безразлично, что эта девчонка будет о тебе думать? – вспыхнула Агнесса Константиновна. – В эти годы такая рассудочность, такая ортодоксальность! Не любит она тебя. Женская любовь сильна всепрощением. Просто хотела в хороший дом попасть. Такой ласточкой прикидывалась. А на поверку – тигрица.
Несмотря на строжайшее запрещение Ольги, Иван Петрович не удержался, чтобы не поговорить с Шатиловым о семейных делах. Он зашел к Василию в общежитие, без всяких церемоний выпроводил из комнаты Бурого и поведал все без утайки.
– Тебе не кажется, Вася, что, как коммунист, я должен заявить военкому? Не сказать нельзя. Может, этот самый врачишка не только по дружбе такие штуки устраивает, но и за взятки. Рожа у него какая-то… богомерзкая. А может, ты, Вася, с военкомом поговоришь?
– Пойду, – согласился Василий. – Такую нечистоплотность выводить надо.
– Пойди, Васенька, пойди. Я – отец… Как-то… Эх, Вася, Вася! Не по-моему все вышло. Думал, ты сыном мне будешь. Да уж ладно.
– Пойду, Иван Петрович, насчет Могильного этого скажу, чтобы впредь следили. Только о Валерии промолчу. Ольгу по-человечески жаль. Хорошая она у вас. Умная, волевая. Нашла в себе силы…