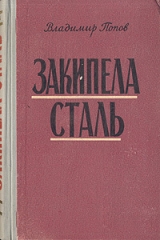
Текст книги "Закипела сталь"
Автор книги: Владимир Попов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
10
С утра Бурой приставал к Макарову с просьбой уделить ему десять минут для душевного разговора. Но в этот день почти все плавки были скоростными, Макаров помогал начальнику смены и не мог урвать времени для беседы.
Бурой терпеливо ходил за Макаровым весь день, отсидел на рапорте, переждал, пока Василий Николаевич провел совещание своих помощников, и ввалился к нему в кабинет.
Сняв котиковую шапку, положив на диван шубу с шалевым воротником, Бурой присел на стул и застыл в скромной позе просителя.
– Что ж, поговорим, – поторопил его Василий Николаевич с плохо скрытым недовольством – он не любил этого бесшабашного, забубенного парня.
– Разговор у меня не очень длинный, и зря вы меня целый день мариновали.
– А ты видел, что в цехе делается?
– Видел. Не тем занимаетесь, Василий Николаевич, – резонерским тоном произнес Бурой. – Вы главный в цехе, а главный должен делать только то, чего рядовые не умеют.
В словах Бурого была доля правды. Макаров действительно провел весь день с начальником смены. Три большегрузные печи очень усложняли работу. Каждая из них требовала двух ковшей вместо одного, двух кранов, двух составов с изложницами, а Макаров принадлежал к тому типу руководителей, которые любят в трудную минуту помочь сменному персоналу, стараются оградить от ошибок. Это он считал гораздо более правильным, чем стоять в стороне от оперативной работы и только потом, когда уже сделаны упущения, находить виновников и наказывать их.
– Весь твой душевный разговор? – желчно спросил он Бурого.
– Нет, просто к слову пришлось. Я хочу о другом, о Шатилове. – И Бурой подробно, не скупясь на краски, рассказал о неудачной любви сталевара к дочери Пермякова, о свадьбе, которая и явилась причиной поджога.
– За взыскание Василий не обижается. Если бы даже на мусор послали, в обиде не был бы. Но за что вы его все время допекаете? – распинался за товарища Бурой. – Раньше, бывало, и поговорите с ним, а теперь придете на печь, поздороваетесь, свод посмотрите – и дальше. Он как очумелый домой приходит. Ему уже и триногеометрия на ум не идет.
– Три-го-но-метрия, – поправил Макаров.
– А, шут с ней. Какая разница? Знаете, Василий Николаевич, все мы понимаем долг перед Родиной, и перед правительством, и перед начальником цеха. Но правительство – оно далеко, а начальник цеха рядом, и, если ты его любишь, – ох, как на душе скребет, когда неприятность сотворишь! Это очень по сердцу бьет, особенно таких, как Василий. Меня матюком не прошибить, я к ним привык, в этом искусстве сам силен, а Василий другой, на него не так посмотри – он чувствует.
– Чувствует, а жжет, – не сдавался Макаров.
– Так он из-за другого чувства оплошал, – распаляясь, говорил Бурой. – У нас к девчатам отношение разное. От меня если какая уйдет, я к другой пойду. Сейчас нашему брату раздолье – девок хоть пруд пруди. На парней спрос. Я после пол-литра аварию могу сделать, потому перед работой даже в праздник не пью, а из-за девчонки – ни-ни, да еще из-за такой, как пермяковская. Лицо красивое, верно, но худенькая, как тростиночка. Прижмешь – хрустнет, пополам переломится. Нет у Василия правильного понятия насчет женской красоты, а вот полюбил и держится одной. Это понимать нужно. Василий Николаевич. Это со всяким бывает. И я любил, да обжегся. – Он расстегнул рубаху, и на волосатой груди Макаров увидел цветную татуировку: сердце, пронзенное стрелой, обильно струящаяся кровь и слова: «Знал измену». – Верите, Василий Николаевич, плакал тогда. А потом решил: нехай лучше они от меня плачут…
– И неправильно решил. Не все…
– А я теперь никакой верить не могу, – оборвал Макарова Бурой и, схватив шапку и шубу, выскочил из кабинета.
Макаров успел заметить выступившие у него слезы.
На другой день Макаров вызвал к себе Шатилова. Тот вошел и сел, опустив глаза.
– Значит, не любит она тебя? – неожиданно спросил Василий Николаевич.
– Угу, – подтвердил сталевар, изумившись осведомленности начальника.
– Нечего тому богу молиться, который не милует. Бурой говорил…
– Бурой легко живет, по принципу: люби, покамест любится.
– И ты легко живешь, – сказал Макаров и серьезно взглянул на удивленного Шатилова. – Сталеваришь, а пора бы уже мастером быть.
Макаров давно собирался поставить Шатилова мастером. Сталевар не уступал своего первенства, и его авторитет упрочился, но поджог разрушил все планы. Неудобно было повышать человека после взыскания. Теперь же, когда причина проступка Шатилова стала ясной, можно было простить ему. К тому же Макаров убедился, что в цехе отнеслись к Шатилову с сочувствием, какое обычно вызывает в людях промах безупречного работника.
– Какой я мастер после такого поджога? – Василий горестно усмехнулся. – И не хочу я мастеровать.
– Почему?
– А потому, что о роли мастера мы забываем, Василий Николаевич. Вот Пермяков пока сталеваром работал – и газеты о нем кричали, и на Доске почета был. А стал мастером – и словно исчез с горизонта, никто о нем ничего не знает. Что он – хуже стал? Нет. Молодых учит. Какая-то неувязка у нас с мастерами. Когда я зарплату получаю, невольно от него расчетную книжку прячу. Стыдно мне: сталевар, а зарабатываю больше. У меня и почет и заработки, а у него ничего. Одни неприятности.
Возразить было нечего, но соглашаться с Шатиловым Макарову не хотелось.
– Хорошо. Посмотрим. Только, думаю, не избежать тебе этой участи, – заключил шуткой Макаров.
11
И вдруг ошеломляющее известие о контрнаступлении немцев в районе Донбасс – Харьков. После разгрома гитлеровцев под Сталинградом люди привыкли к тому, что Красная Армия стремительно наступает, считали дни, когда будут освобождены Донбасс, Украина, а тут снова восемь городов перешли в руки врага.
Гаевой весь день провел в цехах. Тяжело поднимать настроение людям, когда у тебя самого оно плохое. Почти все захваченные врагом города он знал, и сегодня они как наяву вставали в его памяти. С особой болью вспоминался Краматорск, зеленый город на берегу Торца. В последние годы здесь вырос гигантский машиностроительный завод, прозванный «заводом заводов». Не в пример другим предприятиям он не был огорожен забором, и всякий мог любоваться заводской панорамой, пройдя по длинной тополевой аллее, которая пересекала завод из конца в конец и соединяла старый город с новым.
Вечером Гаевой застал в парткоме бригаду Первухина. Рабочие ожидали его больше часа.
– Что же это получается, товарищ парторг? Как можно такое терпеть! – заговорил Первухин, забыв поздороваться.
– Ничего не поделаешь, – сказал Гаевой, убежденный, что Первухин имеет в виду события на фронте.
– Да как же это так! Смотрите. – Первухин протянул Гаевому смятый листок бумаги, и тот прочитал приказ директора о премировании за освоение нового профиля. В нем были перечислены все члены бригады Первухина вплоть до дежурного слесаря, начальник и токари вальцетокарной мастерской. Не было только Свиридова.
У Гаевого сильно задергалась левая бровь, он даже вынужден был придержать ее рукой.
Это заметил Первухин и продолжал уже спокойно:
– Исправить надо, Григорий Андреевич. Сегодня весь цех гудит. Нельзя так. Завтра же весь завод об этой выходке знать будет. Человек ночей не спал, такой профиль сделал, что другим калибровщикам и не снился. Танкисты его наверняка к ордену представят, а у нас с грязью смешали.
Когда рабочие ушли, Гаевой схватил трубку телефона, но, поняв, что сгоряча может наговорить много лишнего, положил ее на вилку и принялся просматривать папку с текущими делами.
Увидел письмо из обкома, к которому была приложена копия жалобы полковника на безучастное отношение к просьбе танкового завода и на грубость, и тут же набросал телеграмму: «Полковник получил по заслугам. Не знает, что делается. Профиль освоен». Вместе с другими приказами, направленными в партком, Гаевой еще раз прочитал распоряжение директора о премировании за освоение нового профиля, позвонил Ротову и спросил о причине такой несправедливости.
– Мое задание Свиридов не выполнил. Выполнил твое – ты и премируй, – услышал он, очевидно, заранее подготовленный ответ Ротова.
Это было слишком. Парторг тотчас оповестил членов бюро заводского партийного комитета о том, что завтра будет внеочередное заседание, и предупредил об этом Ротова.
Директор и до войны не мог присутствовать на всех заседаниях и собраниях, где ему надлежало бывать. Один раз в две недели созывалось собрание партийной организации заводоуправления, к которой он был прикреплен, раз в десять дней – заседание бюро, членом которого он состоял, раз в месяц – общезаводское партийное собрание. Ротов был членом заводского партийного комитета, бюро городского комитета партии, бюро обкома партии. Его присутствие требовалось на заседаниях и в комиссиях горсовета, в завкоме. Много времени отнимали совещания изобретателей, молодежные собрания, пленумы Общества инженеров и техников. Когда вспыхнула война, он совершенно отказался от всякого рода общественной деятельности и не всегда бывал даже на партийных собраниях.
Гаевой щадил Ротова как мог. Во время «марганцевой эпопеи» он вызывал директора на заседание парткома только в крайних случаях. Но кончилась битва за марганец, а Ротов продолжал приходить на партком только по персональному вызову и то не всегда.
Так случилось и на этот раз.
Гаевой созвал членов парткома вторично. Но директор, оказалось, без всякой видимой необходимости уехал на рудную гору.
– Для вас это в новинку, – бросил Крамаренко Гаевому, – а мы давно привыкли. Докладывайте без директора.
– Не могу, – сказал парторг. – Дело касается его лично. Мы не можем в отсутствие члена партии обсуждать его поведение.
Заседание снова пришлось перенести на следующий день. Ротов был предупрежден особо, но опять не пришел.
Парторг коротко изложил сущность вопроса. Действия Ротова не нарушали формального положения о расходовании премиального фонда – этими деньгами директор имел право распоряжаться по своему усмотрению, но поступок был неэтичным, даже возмутительным. Фраза Ротова, которую привел парторг: «Свиридов выполнил твое задание – ты и премируй», – усилила негодование.
Слово взял парторг сортопрокатного цеха.
– Что же это получается, товарищи? Не вмешайся партком, так бы танковому заводу и не помогли. Это для меня ясно, как дважды два. И сколько мы будем собираться попусту? А решать надо… В цехе проходу не дают, все о Свиридове спрашивают. Выговор объявить Ротову…
– Мы не можем налагать на коммуниста взыскание в его отсутствие, – напомнил Гаевой.
– Значит, так и будем собираться каждый день? – гневно спросил Пермяков. Брови его сдвинулись в одну линию.
Гаевой неопределенно пожал плечами.
– Давайте завтра соберемся к часу дня, когда директор проводит рапорт, и прямо в кабинет, – посоветовал Пермяков. – Не идет к нам – к нему пойдем. Заставим премировать Свиридова.
– Этого еще не хватало, чтобы партком на поклон ходил, – запротестовал Крамаренко.
– Да не на поклон, голова ты садовая, – обрушился на него раздосадованный Пермяков.
– Какая разница, на поклон или на драчку? – упрямился Крамаренко.
Сидевшая в углу комнаты дробильщица доломитной фабрики сбросила с головы серый от въевшейся пыли платок и подняла руку.
– По моему разумению, выходит так: если директору партком не нужон, то и он парткому не нужон. Вывести его – вот и вся моя резолюция.
– Вот так размахнулась. Члена бюро обкома? – усмехнулся Крамаренко.
– А это обком пусть сам думает, что с ним делать, – начальственным тоном сказала дробильщица.
Парторг молчал. О такой мере воздействия он не думал, но она была, пожалуй, единственно возможной. Иначе дело может зайти далеко. Гаевой прошелся взглядом по сосредоточенным лицам собравшихся. Сейчас здесь сидели люди, являвшиеся мозгом партийной организации, и ждали от него, парторга ЦК, правильного решения. Очень многое зависело от этого решения – и авторитет партийной организации, и судьба Ротова как коммуниста.
Парторг поставил предложение дробильщицы на голосование, и его приняли единогласно.
12
Надя категорически запретила мужу присутствовать на городском совещании врачей, где стоял ее доклад «Клиническая смерть как обратимый процесс». Она по своему опыту знала, что в таких случаях присутствие близкого человека не помощь, а помеха, потому что рассеивает внимание – из множества лиц выделяешь одно, невольно следишь за ним и теряешь контроль над аудиторией, а иногда и над собой. К тому же ожидались горячие споры, в исходе которых Надя уверена не была, и ей не хотелось, чтобы Григорий Андреевич был свидетелем ее затруднительного положения, испытывал досадное чувство, когда хочешь и не можешь помочь.
Предположения Гаевой оправдались. Доклад ее, как всякое новшество, был встречен врачами по-разному. Скептиков нашлось немало, и причиной этого, пожалуй, была сама Надя. Выступил бы с таким сообщением убеленный сединой профессор, прочитал бы скрипучим голосом сухое сообщение о фактах – впечатление было бы иным. А Надя выглядела очень молодо, говорила горячо, увлеклась перспективами метода Неговского, подробно рассказала, какими путями идет исследовательская мысль, пытаясь отодвинуть роковой срок – шесть минут, после которого оживление уже невозможно.
– Эффектно, но малоубедительно, – говорил в прениях старший хирург заводской больницы Чернышев. – Вот уже сколько лет человечество бьется над этой проблемой, и вдруг какой-то Неговский (да я его фамилии до сих пор не слышал!) решил ее, и так элементарно: влил кровь в коронарные сосуды сердца – и отогнал смерть. Каково? Вы меня простите, товарищ военврач, но здесь что-то не так. Очень похоже, что принимаете желаемое за действительное.
Решение горздрава мало обрадовало Гаевую – ей предложили применить этот метод в хирургическом отделении именно у Чернышева.
Целый вечер доказывала Надя мужу неправильность такого решения. Она была убеждена, что неверие в удачу – причина неудач, – и с этой точки зрения работа совместно с Чернышевым казалась ей неприемлемой.
– Нет, ты мне объясни, Гриша, чем это вызвано? – приставала к мужу Надя. – Желанием завалить меня или переубедить самого отъявленного консерватора?
– Ни то и ни другое, – успокаивал ее Гаевой. – Чернышеву поручили потому, что он виртуоз своего дела. Золотые руки.
– И медный лоб, – отпарировала Надя. – В общем, пятница все покажет.
И оба они, волнуясь каждый по-своему, стали ожидать этого дня, когда в заводской больнице делали наиболее сложные операции.
Уходя в больницу, Надя обещала позволить мужу, как только вернется домой, но звонка не было, и Гаевой терялся в догадках. Забежав в гостиницу в обеденный перерыв, Григорий Андреевич застал Надю крайне расстроенной. Она тут же рассказала, что у больного во время операции внезапно остановилось сердце и пока Чернышев принимал обычные в этих случаях меры, прошло восемь минут. Ей удалось заставить работать сердце, но дыхание так и не восстановилось. Больной умер.
В этот день Чернышев много наслушался от Гаевой. Он не прерывал ее, не возражал, подавленный необычным сочетанием запальчивости и логики. Его удивляло, как эта женщина, такая хрупкая на вид, еще не вполне оправившаяся от травмы, находит в себе столько неукротимой энергии, и он понял, что имеет дело с человеком, одержимым идеей, глубоко убежденным в необходимости того, что делает.
Гаевая побывала в горздравотделе и там поговорила довольно крупно. Успокоить жену Григорию Андреевичу не удалось.
– Оставь, Гриша, – отстранилась она, – мне не пять лет, и не кукла разбита. Погибла еще одна жизнь и, возможно, зря.
К удивлению Нади, Чернышев сам вызвал ее на следующую пятницу и, когда она вышла в ординаторскую, сухо сказал:
– Право, я не очень сержусь на вас. Уже тот факт, что после наших безуспешных попыток вы заставили забиться сердце, говорит кое о чем. Прошу вас и дальше дежурить на операциях.
– Хорошо. Но каждый тяжелый больной должен быть подготовлен к нагнетанию крови, – поставила условие Надя.
– Разумеется, – согласился Чернышев. – Вот как раз сегодня тяжелый случай: опухоль пищевода, а сердце… Можно считать, что нет сердца… Положение такое, что оперировать нельзя и не оперировать невозможно. – Чернышев не упомянул, что больной, старый рабочий завода, прочитав статью в газете, отказался лечь на операцию, если не будет дежурить Гаевая.
Переступая порог операционной, Надя всегда испытывала особое, ни с чем не сравнимое волнение. Оно не выражалось внешне ни дрожью пальцев, ни излишней поспешностью движений. Это чувство уходило глубоко внутрь и мобилизовывало все моральные и физические силы. Так было и на фронте. Когда во время тяжелых боев поток раненых захлестывал полевые госпитали и врачи работали до изнеможения, Надя не знала усталости, а вернувшись в свою палатку, валилась без сил. В периоды затишья силы не восстанавливались по нескольку дней, но вызывали в госпиталь – и усталости как не бывало. Порой такая способность казалась ей невероятной.
Настроение персонала Гаевой не понравилось. Марлевые повязки на лицах не могли скрыть выражения глаз, а в них Надя прочла безнадежность.
Высохший, как мумия, мужчина около шестидесяти лет, прежде чем лечь на операционный стол, спросил, кто здесь Гаевая.
– Я, – отозвалась Надя. – Да не волнуйтесь, отстоим вас.
– На вас вся надежда, доктор. С того света возвращали, а меня, может, туда и не допустите. – И он заерзал на операционном столе, поудобнее умащиваясь.
Усыпляли его долго, он ворочался, тяжело и прерывисто дышал, резкими движениями головы пытался освободиться от маски.
– Уснул, – коротко бросила сестра, когда приподнятая рука больного безвольно опустилась.
Надя проверила пульс – он был напряженный, но редкий.
– Прежде всего препарируйте артерию, – потребовала она, и Чернышев утвердительно кивнул своему ассистенту.
Несложна аппаратура Гаевой – небольшие мехи с резиновой трубкой для искусственного дыхания и сосуд с кровью, к которой примешивается перекись водорода и глюкоза. Несложна и методика оживления, если организм в целом жизнеспособен. Кровь, обогащенная кислородом, нагнетается в плечевую артерию и, поступив в сосуды сердца, вызывает его сокращения.
Чернышев отличался выдержкой, редкой даже для хирурга. Лицо его оставалось бесстрастным, и можно было подумать, что судьба больного нимало его не тревожит. Даже когда сестра подала ему не тот инструмент, спокойно сказал:
– Внимательней, душечка.
«Передо мной рисуется или всегда такой?» – попыталась разгадать Надя и вдруг ощутила, что пульс больного замер на миг, потом отбил два удара подряд, снова замер и зачастил.
– Пульс аритмичен, – предупредила она. – Давление пятьдесят пять.
– Еще минут десять, – отозвался Чернышев.
– Не выдержит…
Чернышев, поколебавшись, прервал операцию и, подставляя сестре лицо, чтобы вытерла с него пот, сказал:
– Действуйте.
Точным движением ассистент ввел в артерию иглу, и Надя стала нагнетать воздух в сосуд с кровью.
Следя за пульсом больного, Чернышев посматривал на Гаевую. Странные у него глаза – прозрачные и холодные, как льдинки. Не поймешь, что он думает, что чувствует.
Когда кровяное давление поднялось, Чернышев продолжил операцию и благополучно ее закончил.
Обычно Чернышев не делал перерыва между операциями – отдыхал только в те короткие минуты, пока шла подготовка. А сейчас он резко сбросил марлевую повязку и сказал, что придет через двадцать минут.
Сестры наперебой поздравляли Надю с успехом.
– Доволен Чернышев. Очень доволен! Раз взволнован – значит, радуется, – говорила самая молодая из них. – Против горя у него иммунитет.
Вечером, когда Надя уже уходила домой, Чернышев задержал ее у двери.
– Я все же убедился, что более действенного способа поддерживать деятельность сердца у нас пока нет. Буду в облздраве – поставлю вопрос о внедрении метода в больницах области. А вас, Надежда Игнатьевна, прошу продолжать работу у меня.
13
Ротов пришел к Гаевому в партком, молча прошелся по кабинету и сел. Он старался не выдавать раздражения, сдерживался, обдумывал, с чего начать разговор. Гаевому было тягостно это молчание.
– Слушаю тебя, – сказал он.
– Чего ты от меня хочешь?
– Немногого. Хочу, чтобы ты был активным строителем коммунизма в нашей стране.
– А я что, по-твоему, капитализм строю?
– Нет. Но такие, как ты, коммунизма не построят.
В руке у директора хрустнул карандаш.
– Это еще что за новости? – спросил он, разглядывая парторга чужими, холодными глазами.
– Не построят, – подтвердил Гаевой.
– Жаль, что у нас разговор один на один, – стиснув зубы, процедил Ротов. – А то бы я…
– Ты сам отказался от разговора на людях. На партком ведь не пришел? Я от своих слов не отрекусь. Можешь написать в ЦК: «Гаевой заявил, что я не активный строитель коммунизма, что такие, как я, его не построят». И я подпишусь.
– Объясни, – настойчиво потребовал директор.
– Изволь. Во-первых, строить коммунизм можно, только поднимая инициативу масс. А ты эти неисчерпаемые силы держишь под спудом. Советы ты иногда слушаешь, но нельзя же ждать, пока найдутся смельчаки, которые рискнут подступиться к тебе с советами. Знаешь ли ты, что в городскую газету на тебя была послана карикатура? Стоишь, нагнув голову, как бык, а люди от тебя – в разные стороны. Секретарь горкома запретил поместить ее, и зря. Надо научиться самому спрашивать советы.
Гаевой готов был услышать возражения, но директор не нашел, что ответить.
Смягчившись, парторг продолжал:
– Ты научился подхватывать инициативу… но только ту, что полезна нашему заводу. А этого сейчас мало. Надо уметь и через заводской забор посмотреть.
Гаевого так и тянуло привести в пример Свиридова, но он знал, что напоминание о нем вызовет горячий спор, а ему хотелось выложить Ротову все, что накипело на душе.
– Во-вторых, – Гаевой решил не давать директору передышки, – строительство коммунизма невозможно без воспитания людей. И не только сознание, но и характеры обязаны воспитывать мы. А как ты воспитываешь?
– Чем же ты тогда будешь заниматься? – выкрикнул в запальчивости Ротов.
– У меня дела хватает, и ты мне помогать должен.
– Я не помогаю?!
– С руководителя пример берут, на него равняются. А на тебя разве можно равняться! Ты самокритичен? Или к критике прислушиваешься? Или…
– Оставь пока критику в покое. Не то время. Война. Дисциплина нужна железная, – упорствовал вздыбившийся Ротов.
– Вот оно что-о… – протянул Гаевой. – Критика и самокритика, по-твоему, дисциплину расшатывают и поэтому на время войны отменяются… Спасибо, хоть подсказал. Я не знал…
– Лечит врач больного, а не знает, чем болен, – решил отшутиться директор, поняв, что перехватил. – Ты меня переоцениваешь, Григорий Андреевич, – Ротов незаметно для себя перешел от нападения к обороне, – если думаешь, что я все могу: и заводом руководить, и людей воспитывать, и о своем характере думать. Я решал крупные вопросы – прокатку брони на блюминге, освоение броневой стали в основных печах, проблему марганцевой руды…
– Помощь танковому заводу… – вставил Гаевой. – А вообще пора тебе перестать, прикрываясь решением значительных проблем, отмахиваться от сотен мелких.
Директор нахмурился. Подмывало наговорить грубостей, но он сдержал себя и только спросил:
– Так что ты от меня хочешь?
– Чтобы ты понял одно: уверенность в своем всезнании ведет к ошибкам; грубость, резкость – к отрыву от коллектива.
– Нервы не выдерживают, – попытался оправдаться Ротов.
– Не верю я в нервы тех, кто кричит на подчиненных. Вот крикни на наркома – тогда поверю. Почему ты о нервах забываешь, когда со старшими по чину говоришь?
Ответа Гаевой не ожидал, но сделал паузу как бы для того, чтобы Ротов сам понял: ответить ему нечего.
У Ротова лопнуло терпение.
– Долго ты еще будешь проповедь читать! Что тебе от меня нужно?
– Прежде всего исправь ошибку со Свиридовым. Премируй его отдельным приказом. Сделай это сам, пока другие не заставили. И пойми, не мне это нужно, а тебе.
– Так ты из-за него одного затеял всю эту кутерьму?
– Затеял не я. Возмутилась бригада. И правильно возмутилась. Пусть один, но это же человек, такой, как ты, как я, пожалуй, и лучше. Ты считаешь, что за большие твои заслуги люди должны прощать несправедливость. А теперь убедишься, что иногда из-за одного человека руководитель может поплатиться больше, чем за иное крупное хозяйственное упущение. Партком единогласно решил вывести тебя из своего состава.
– Горком все равно отменит, – уверенно сказал Ротов, стараясь дать почувствовать Гаевому, что ни одно слово не задело его.
Директор посмотрел на парторга с нескрываемой злобой.
– Ты мне рассказал все, что думаешь обо мне, – сдерживаясь и растягивая слова, произнес он. – Расскажи лучше, что о себе думаешь.
– Я бы тебя послушал.
– Изволь. Как ты считаешь: кого легче освободить от работы как несработавшегося – меня или тебя?
– Я думаю, меня, – ответил Гаевой, принимая вызов. – Директоров таких заводов немного, а партийных работников хватит.
– И я полагаю, что тебя. Вот и делай отсюда выводы, – сказал Ротов таким издевательским топом, который показался самому противным.
– Вывод я сделал давно. И я предпочту быть освобожденным как несработавшийся, чем за то, что перестал быть секретарем партийной организации, а стал секретарем при директоре.
Если бы Гаевой крикнул, Ротов продолжал бы еще этот словесный бой, но Гаевой был спокоен и смотрел на него с таким снисходительным любопытством, как смотрят взрослые на своенравного ребенка, и этого взгляда Ротов не выдержал. Поднялся и торопливо покинул кабинет.
Гаевой долго смотрел на захлопнувшуюся дверь.
Не прошло и часа после этого разговора, как Гаевому позвонил секретарь горкома и в самых категорических выражениях заявил, что горком не согласен с решением парткома и предлагает пока не выносить его на утверждение партийного собрания.
Это не было неожиданностью для Гаевого. Ротов привык во всех случаях несогласия с партийной организацией завода апеллировать в городской комитет и находить там поддержку.
– Такие меры принимают лишь тогда, когда снимают директора, – сказал секретарь горкома.
– В данном случае его хотели спасти от этого, – горячо возразил Гаевой. – Поймите, партийная организация не воюет с директором, а борется за него. Вы считаете, что партийная дисциплина обязательна для всех членов партии?
– Да, считаю, но ваше решение подрывает авторитет директора завода.
– Мы достаточно боролись за его авторитет. И что важнее: авторитет одного коммуниста или авторитет всей организации? – вскипел Гаевой.
– Дорого и то и другое.
– Сейчас так не получается. Руководитель должен заслужить авторитет. Искусственно создавать его не следует. Если вы отмените решение парткома, Ротова это только испортит. А кроме того, парторганизации будет затруднен контроль над деятельностью предприятия.
– Это вам так кажется, товарищ Гаевой. Исправление ошибки не снижает авторитет организации.
– Ошибки здесь нет. Решение парткома совершенно правильно, по-партийному принципиально.
– Но вы перегнули, – сказал секретарь горкома. – Это случай небывалый. Директора завода, члена обкома…
– А я смотрю иначе, – возразил Гаевой. – Прежде всего не директор, а член партии, нарушающий партийную дисциплину.
– Об этом вы доложите на бюро, – сухо отрезал секретарь горкома, – а пока решение парткома на собрание выносить не рекомендую.
«Кто же прав? – рассуждал Гаевой, нервно шагая по кабинету. – Какую иную меру воздействия можно было применить в данном случае? Член партии совершил неэтичный поступок и уклоняется от явки на партком».
Парторг и раньше понимал, что решением парткома вышестоящие организации не будут довольны. Хорошая работа завода создавала для директора обстановку безнаказанности. Его авторитет рос, с ним считались, на мелкие недостатки, оплошности, просчеты, грубость не обращали внимания. План выполнялся – и все прощалось.
Так же относились к Ротову и в наркомате. Помогали всем, чем могли, все требования этого огромного предприятия удовлетворяли. Сюда направляли лучшие кадры, лучшее оборудование. Конфликты, возникавшие между директором и отдельными работниками завода, большей частью решались в пользу директора. Ротова поправлял лишь нарком, только с наркомом он считался.
Недостатки директора больше всего были видны здесь, внизу, в коллективе, и коллектив в первую очередь должен был их искоренять, искоренять как можно скорее, потому что изъяны человека подобны мелким трещинкам в слитке стали: трещинки надо тщательно вырубать, иначе при обжатии слитка они неминуемо превратятся в большие, в неустранимый дефект. Гаевой напряженно размышлял: «Если бы человека с другим характером вывели из парткома, а потом оставили, для него была бы достаточной такая встряска, чтобы задуматься над своим поведением. Но Ротов не таков. Отмену решения парткома он сочтет своей победой, отгородится от всех еще больше, и работать с ним станет совсем невозможно».
До войны горком партии вынужден был сменить секретаря партийной организации, который никак не мог сработаться с Ротовым. Лучше от этого не стало. Наоборот, хуже – директор счел себя окончательно непогрешимым и неуязвимым.
«Что же предпринять? – думал парторг. – На днях состоится партийное собрание. Значит, не выносить на него решение парткома?» Гаевой позвонил в обком. Первый секретарь болен, и телефонистка отказалась вызвать его квартиру, второй секретарь выехал в район.
Гаевой решил не выносить вопрос о Ротове на общее собрание, но от своей точки зрения не отказался.
Уже ночью, вернувшись с завода, он написал подробное письмо секретарю ЦК, попросил совета.







