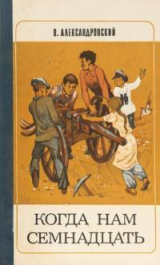
Текст книги "Когда нам семнадцать"
Автор книги: Виктор Александровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– И я тоже одна! – ответила Милочка. – У Игоря стряслось что-то с этими… как их называли-то раньше… рейтузами! – Милочка взяла меня под руку. – Пойдем…
И мы стали танцевать.
– Сказать тебе откровенно, Леша, о чем я жалею сегодня? О том, что не вступила в комсомол. Обидно за себя. Столько лет была какой-то глупой девчонкой. Я ведь иду работать в военный госпиталь медицинской сестрой.
К нам подбежали Евгений Онегин и цыганка в широких одеждах. Она оторвала меня от Милочки и закружила. Сквозь музыку я услышал недовольный голос:
– Ну какой же ты невнимательный! Вертелась около тебя целый час, а ты даже не замечал.
– Прости, дорогая Кармен, но я тебя не узнал! Ты так здорово замаскировалась! Так искусно! – начал расхваливать я.
– То-то же!..
Голова шла кругом, ноги не чувствовали пола, а мы с Тоней все кружились и кружились.
– Который час? – спросила Тоня останавливаясь.
Я посмотрел на часы:
– Половина первого…
– Пойдем на балкон, послушаем, может, пароход подошел… Ой, да ты посмотри, кто явился! Нет, ты посмотри!
Недалеко от оркестра в белом нарядном платье стояла Ольга Минская и грустно смотрела на танцующих.
Мы подбежали к ней.
Все вместе вышли на балкон.
После шума и музыки темная летняя ночь показалась нежной и ласковой.
– Как чудесно здесь! – вздохнула Ольга. – Вы знаете, ребята, о чем я думаю весь вечер? Не о том, что мне не удалось вместе с вами закончить десятый класс. Экзамены мои перенесены на осень, и я, конечно, сдам их. Я думаю о том, что сегодня мы расстаемся.
– Но ведь часть десятиклассников остается здесь, в Сибирске, – сказала Тоня.
– Это, Тонечка, очень хорошо!
Несколько минут мы стояли молча.
– А что, Тоня, на пароходе и педагоги и родители поедут?
– Непременно!
– И будем кататься всю ночь?
– До самой зари!
– Ой, как замечательно!
С реки донесся протяжный гудок парохода, и мы стали собираться на прогулку.
Ангара встретила нас прохладой и тихим плеском воды на прибрежных камнях. И вода и небо казались черными. Вдали по горизонту рассыпалась цепочка мерцающих огней. Они то ярко разгорались, то трепетали, готовые вот-вот погаснуть… Над этими огнями изредка поблескивали сполохи.
– Дождем попахивает, – забеспокоился Игорь.
– А что нам дождя бояться! – весело хлопнул его по плечу Романюк. – Эх, какой красавец нас ожидает!
У причала стоял пароход. Над его трубой поднимался золотистый сноп искр. С палубы мигали зеленые и красные огоньки. Ярко светились окна кают. Слышалось мерное дыхание паровой машины.
Когда все разместились, раздалась команда капитана. Заскрежетала якорная цепь. Пароход, медленно покачиваясь на волнах, отошел, и за кормой зашумела резвая ангарская вода.
Мы стояли на палубе, всматриваясь в темень летней ночи. Свежий ветерок омывал лица. За бархатно-черной полосой воды виднелись переливающиеся огни родного Сибирска.
В этом море света где-то притаились и смотрели на нас огни родной школы…
– Проезжаем мимо Песчаного острова! – крикнул капитан. – Не причалить?
– Обязательно! Костер разожжем! – раздались голоса.
Когда по трапу сошли на обрывистый берег, Максим Петрович приказал:
– С каждого выпускника по охапке хворосту! Да по хорошей охапке!
– Есть набрать хворосту! – отозвались радостные голоса.
– Я с тобой, Леша, – тихо сказала Тоня, ныряя в густые заросли тальника. – Здесь очень страшно, – прошептала она.
Я сжал ее руку:
– Не бойся.
Мы пошли. Я – впереди, раздвигая густые ветви кустов, Тоня – за мной, доверчиво держась за мое плечо.
Как мне хотелось остановиться и стоять так, вместе, долго-долго… Но, не замедляя шага, я шел вперед, с ожесточением пригибая ветви. Вскоре кустарник стал редеть, и снова показалась вода.
– Как же так получилось – с берега и на берег? – рассмеялась Тоня.
– А ты думаешь, мы много прошли? Вон огни парохода…
Тоня огляделась вокруг:
– Леша, прогуляемся по бережку, мне нужно тебе что-то сказать.
– Что сказать?..
– Идем, идем…
Взявшись за руки, мы пошли по прибрежной гальке. Остановились у самой воды. Тихо шелестела волна. Где-то вдали певуче крикнула птица. Прижавшись плечом к плечу, стояли мы, всматриваясь в неясные очертания противоположного берега.
– Леша, – волнуясь начала Тоня, – ты не едешь в Томск, я все знаю! Ты собираешься работать на заводе. Это хорошо… Через несколько лет ты станешь инженером, я – учительницей. Встретимся мы с тобой и вспомним, как темной июньской ночью после выпускного вечера стояли на берегу родной Ангары и мечтали о своем будущем… – Тоня передохнула. – Но дай мне слово, Леша, дай обязательно, что где бы ты ни был, ты всегда будешь учиться, идти вперед!
Я не ответил. Я просто не знал, что сказать. Я обнял милую Кочку за плечи, с какой-то новой, для меня еще неизведанной силой приблизил к себе и долго, долго смотрел в ее темные и казавшиеся то строгими, то необыкновенно ласковыми и добрыми немигающие глаза, пока не ощутил на своих губах тепло ее нежных, трепетных губ.

РАССКАЗЫ


РЯДОВОЙ КОШКИН
Пробыв в пионерском лагере неполных две смены, прибавив в весе три кило и еще сколько-то граммов, Кошкин за неделю до окончания второй смены пережил, можно сказать, кризисный момент. Надоело сразу все: хождение строем в столовую, купание в реке под строгий окрик физрука, походы в лес за бабочками и листочками, бесконечные споры с вожатой по поводу несъеденной булочки в полдник. Надоели кислое молоко, яйца всмятку, хотелось чего-нибудь такого, например, вареной картошки с солью или оладий. Какие оладьи умела печь Ольга: пальчики оближешь!
Надоела даже рыбалка. Да и какая рыбалка в лагере… Вот в городе! Собираясь на рыбалку с ребятами, Кошкин знал, когда и в каком месте их ждет на берегу лодка. Он заранее копал червей в овраге за парком, проверял рыболовные крючки, покупал в булочной два кирпича пшеничного хлеба и, поднявшись с постели чуть свет, когда над городом еще только-только занималась утренняя заря, выходил во двор к ребятам.
Тут действовали свои, «железные», законы, и они нравились Кошкину. Отправлялись со двора точно в назначенное время. Тот, кто опаздывал, мог потом хоть кусать от досады локоть, все равно бы не помогло. Не ходили по квартирам, не будили и не ждали таких на берегу. С ходу садились в лодку и отчаливали.
На воде тоже было «железно». Дождь не дождь, ветер не ветер – истинный рыбак должен стерпеть все. Поэтому в любом случае – плыли.
Ну, а дальше, как водится: знакомый заливчик, уха у костра, полный день купания, загорания и никаких тебе «мертвых часов»! Лагерный «мертвый час» Кошкин всю жизнь считал предрассудком, и не было случая, чтобы во время такого часа он когда-нибудь сомкнул веки. Лежал и рассказывал ребятам разные истории или слушал, что говорили другие.
Что касается купания, тут Кошкин тоже придерживался своих «железных» правил: не стеснять душу. Купаться до дрожи, до синевы и тогда уж бросаться на горячий песок. На песке то же – лежать до пота в подмышках. Это называлось «термической» обработкой организма.
Зато Кошкин не любил, когда кто-нибудь из здоровенных ребят мешал ему нырять. Как Рамзя в пионерлагере. На три головы выше других, сажень в плечах, а дурак. Прикинет взглядом, где Кошкину выныривать, незаметно подберется к тому месту и стоит с поднятым кулаком. Если вынырнешь и успеешь крикнуть: «Сам дурак!» – простит. А нет, бьет по макушке. Последнее время Рамзя бил подряд: когда прав и когда неправ…
Э, да что говорить, разве можно было сравнить городскую свободу летом с лагерной жизнью?!
За истинную свободу, какая была дома, можно было простить все: и не всегда приготовленный матерью обед (мать работала в разные смены), и несправедливые придирки отца к нему – среднему в семье Кошкиных (кроме него были еще две младшие сестренки, два младших братишки и старшая сестра Ольга семнадцати лет). Неизвестно, за что, наверное, за дух свободы, Ольга страшно любила своего среднего братца и всегда заступалась за него перед отцом и матерью.
Ольгу очень-очень хотелось увидеть. Увидеть своих друзей – мальчишек со двора. Ощутить босыми ногами жар асфальта городских улиц. Не знаем, кто как, а Кошкин любил ходить летом босиком. Легко! Что там разные плетенки или, например, резиновые кеды в сравнении с загрубелой подошвой ног! Правда, кеды Кошкин ценил, считая их обувью удобной, особенно при игре в футбол. Но всякому овощу свое время.
Одним словом, под напором таких дум однажды нервы у Кошкина сдали. Следуя мудрому совету одного из бежавших в первую смену, Кошкин еще с вечера приготовил свой рюкзак: положил в него все до мелочи, включая старую зубную щетку с выдранной щетиной.
Ранним утром, в последний понедельник июля, когда в лагере все еще спали, Кошкин, крадучись, так, чтобы не скрипнуло ни одно звенышко сетки его пружинной кровати, встал, оделся, осторожно вытащил из-под кровати свой довольно объемистый рюкзак и, неслышно ступая босыми ногами по остывшему за ночь крашеному полу спального корпуса, где проживала мужская половина четвертого и пятого отрядов, вышел за дверь.
Стояло тихое июльское утро. Пахло цветущей липой. Рядом из лесу доносились радостные голоса пробудившихся птиц. Но на сердце у Кошкина было неспокойно. Как-никак, а то, что он задумал, называлось грубым нарушением лагерного режима. Кошкин помнил, с каким позором свершалось водворение в лагерь того, бежавшего в первую смену. Его привезли «под конвоем» на попутном грузовике отец с матерью. Они долго извинялись перед начальником лагеря за то, что у них такой неудачный сын, и находились на территории лагеря до самого поздна, пока горнист не протрубил отбой. А ребята в отрядах назавтра же стали петь: «Бежал бродяга с Сахалина» – и весело смеялись. Смеялся и Кошкин. А кто знает, какая участь ожидает его самого?..
Но что делать, задуманный план уже начал осуществляться.
Стараясь идти не по тропинке, а сбоку ее, между деревьев, он быстро спустился под гору, к изгороди из высокого штакетника, отодвинул в сторону помеченную красным крестиком узенькую, лишенную нижнего гвоздя дощечку-штакетницу и вылез прямо на берег. Этот тайный проход был известен ему еще с той поры, когда они с ребятами из отряда ходили на речку купаться. Был «мертвый час», и им здорово тогда попало от старшей пионервожатой. Вихлявую доску пришлось на время забыть. И вот, выручила!
Надев рюкзак и все еще боясь, чтобы его не окликнули, Кошкин быстро пошагал в сторону города.
Шел он по влажному песку у самой воды, с удовольствием чувствуя подошвами ног утреннюю прохладу реки, и страх, появившийся в минуту, когда он только поднялся с постели, начал постепенно исчезать. Кто мог теперь его остановить!
За плотной зеленью островов виднелись дымки пробуждающегося города. Город был точно подожжен лучами восходящего солнца. Это пламенели стекла бесчисленного множества зданий, обращенных к рассвету. Кошкин только что видел их, спускаясь с горы, и дойти до них казалось ничего не стоящим делом. Так казалось ему и вчера, когда явилась мысль о побеге.
Шел Кошкин легко, бодро, останавливаясь лишь затем, чтобы подкрутить до колен опускавшиеся от быстрой ходьбы гачи выцветших за лето коротеньких штанов да поправить на спине под рюкзаком бумазеевую рубаху, сшитую матерью специально для лагерей, на случай ненастной погоды.
Рубаху можно было не надевать, но тогда ремнями рюкзака резало бы плечи, и Кошкин радовался, что поступил предусмотрительно. Идти в такой экипировке можно было сколько угодно, хоть сутки, хоть двое.
Однако, пройдя еще с километр, Кошкин вдруг почувствовал, что хочет есть. Вчера за ужином он оставил недоеденной порцию жареного мяса с гречневой кашей и, вспомнив об этом, выругал себя.
Он вздохнул, осмотрелся и увидел цветы. Прекрасные желтые лилии росли у самого подножия горы, шагах в тридцати от того места, где проходил Кошкин, и они точно звали его к себе.
«Букет для Ольги!» – подумал Кошкин, сворачивая к лилиям. Но дело было не только в букете. Миска с гречневой кашей точно застряла в его голове, и надо было хоть как-то от нее отвлечься.
Когда Кошкин рвал лилии, он не думал ни о чем. Но стоило ему, размахивая букетом, снова зашагать по кромке воды, как проклятая миска с кашей – точно вот она, здесь, – замаячила перед глазами. Есть хотелось уже так, как после похода в лес или долгого купания в реке, и Кошкин снова пожалел, что не доел и кашу и мясо.
Он остановился, пристально посмотрел на далекие дымки города за островами. Дымки беличьими хвостами висели над зеленью островов слева, а дорога шла по-прежнему прямо, не заворачивая к ним. Это несколько озадачило Кошкина. Он знал, что река делала медленный поворот и как бы исподволь приближалась к городу. Но почему-то этого не было заметно.
Снова подкрутив гачи штанов и поправив рубаху, Кошкин зашагал с удвоенной энергией, но вскоре почувствовал, что ему становится жарко. Однако, убавив шаг, он не испытал облегчения. Наоборот, ему сделалось еще жарче. За то недолгое время, пока он шел от лагеря, из-за горы выкатилось солнце и сейчас так припекало, что Кошкин почувствовал, как прилипла к спине рубашка. Капелька пота скатилась со лба на кончик носа, и он с досадой смахнул ее. Но если бы только одна эта капелька! Уже вскоре не капли, а целые струйки пота потекли за воротник бумазеевой рубахи, и Кошкин не успевал вытирать их.
В который раз Кошкин остановился, сбросил с мокрой спины рюкзак и уселся с ним рядом. «Выкупаться бы», – подумал он.
Он уже принялся сдирать с себя потную рубаху, да остановился. Неподалеку от него, ниже по реке, трое мальчишек удили с бревен рыбу. Они будто не замечали Кошкина, то и дело взмахивали удилищами. Но Кошкин-то знал, нырни он сейчас в реку – штаны и рубаха могли исчезнуть, как на ковре-самолете. Ищи потом где-нибудь в кустах. А нет, дикарем являйся в город. Такие штучки он «отрывал» и сам на городском пляже. Интересно было смотреть потом, как голый человек ищет одежду.
Нет, купаться в таких условиях нельзя. Надо было пересилить свое желание. Поджав ноги и закрыв глаза, Кошкин стал прикидывать в уме, сколько ему осталось идти до города. Весь будущий путь представлялся ему в виде дуги. Дымки за островами – там, где заводы и городской пляж, до них по прямой километров двенадцать. Это как бы по диаметру. А сколько же будет по дуге?
В четвертом классе, который Кошкин закончил нынешней весной, таких расчетов еще не производили. Но он понимал, что будет больше. Потихоньку он уже ругал себя. Ведь можно было бы не пешком, а автобусом. Только сесть в автобус не у самых лагерей.
Впрочем, Кошкин тут же прогнал от себя эту мысль, у него в кармане не было ни копейки. Приходилось голодным и по жаре продолжать долгий, нелегкий путь…
Рыбачивших мальчишек Кошкин обошел стороной, на всякий случай, чтобы не придрались. С унылым видом продолжал он свой путь то по песку, то по мелкой гальке, чувствуя, как растет тяжесть рюкзака. Даже букет из лилий постепенно приобретал вес. Зато желудок казался невесомым.
«Раз, два, три, четыре… пятнадцать», – шагая и чтобы как-то забыться, стал считать измученный Кошкин. На шестнадцатом шагу у него и произошла встреча…
Если Кошкин шагал в сторону города, то бабка Серафима – совсем наоборот. Взгромоздив на плечи коромысло с ведрами, где у нее были зеленый лук, редис и ранняя картошка, она шла в сторону пионерских лагерей. Так повторялось раз или два в неделю, в зависимости от того, как созревали овощи. До лагерей она не доходила, а сворачивала к дачным домикам. Эти домики, начиная с весны, заполнялись разным народом. Огородов многие не садили, все больше занимались садами. Вот таким-то Серафима и сбывала свой нехитрый товар. Сбывала по сходной цене, не жадничала, как некоторые. И дачники всегда с радостью ее встречали.
С коромыслом на плечах, жилистая и высокая, в косынке, подвязанной двойным узлом под самый подбородок, шла она своим не по годам шустрым, сбивчивым шагом по берегу.
В этот летний солнечный день Серафима нагрузилась как никогда. Поспела картошка. А кто ее не любит, молодую, в нежной кожурке? Серафима насыпала картошки целое ведро. Ну, а в другом, как всегда, – лук, редис. С огурцами в этом году что-то не выходило.
Сгибаясь под тяжестью коромысла, подошла к мосточку – широкой плахе, еще с весны кем-то заботливо положенной через ручей, и увидела мальчонку.
Решив опередить бабку с коромыслом, обалдевший от жары Кошкин с такой скоростью «рванул» по мостку, что лежавшая на камнях плаха неожиданно соскользнула с них, и Кошкин свалился в холодную воду.
Мокрый, несчастный, вылез он из ручья и сел на рюкзак. Получилось смешно, очень смешно, но стоявшая перед ним бабка даже не улыбнулась. Наоборот, она заботливо спросила:
– Зашибся?
– Нет, – отмахнулся Кошкин.
– Взопрел-то как…
– Чего-о?
– Взопрел, говорю, – убежденно повторила Серафима, в упор глядя на измученное, красное от жары лицо Кошкина. – За красками, поди, топаешь в город?
– Чего-о? – уже не сказал, а как-то прошипел Кошкин.
Серафима сняла с плеч коромысло и продолжала как ни в чем не бывало:
– А то вчера двоих таких же, как ты, мальцов повстречала. Вожатый послал их за красками в город. Для стенной газеты. Им надо бы автобусом сразу от лагерей, а они решили сначала пройтись берегом. Ну и растерялись, значит, не знают, как выйти на шоссе. Я им указала тропинку. Видать, хорошие ребята. Звеньевые оба. А ты, случаем, не звеньевой? Не звеньевой, говорю?
– Я-то? – У Кошкина на мгновение даже отнялся язык. – Я-то? – повторил он, захлебнувшись от горького смеха. – Рядовой я, бабка. Рядовой.
– А как звать?
– Кошкин.
– Нет, я хочу спросить, как имя твое?
– Кошкин. Меня так все зовут.
– Оттуда? – Серафима кивнула в сторону пионерских лагерей.
Кошкин промолчал: «Так я тебе и скажу!»
– Лет, поди, девять тебе, – прицеливаясь взглядом, продолжала Серафима.
– Девять… Одиннадцать скоро, – сердито пробурчал Кошкин.
– Одиннадцать? По росту можно дать девять, – простодушно сказала Серафима, не ведая о том, что маленький рост был самым уязвимым местом в биографии Кошкина.
– Тебе-то что, бабка? – огрызнулся он, берясь за рюкзак. Но тут же поправился: – Бабушка…
– Меня Серафимой Ивановной звать, – строго подсказала Серафима. Однако вежливость Кошкина тронула ее. – Хочешь лучку зеленого или редиски?
Показав взглядом на ведро, в котором лежали овощи, она присела рядом с Кошкиным на коряжину, достала из кармана юбки пачку «Беломора» и закурила.
– Редиска свеженькая, сладенькая. Ешь, – еще раз предложила она.
При слове «редиска» у Кошкина под языком появилась слюна: редиску он любил. К тому же он был голоден как волк. Но от угощения отказался – гордость не позволила.
– Не хочу портить аппетита, – проглотив слюну, сказал он.
– Как знаешь… А то ешь, редиски много.
«Добрая, видать», – подумал Кошкин. Маленькие круглые глазенки его из-под выгоревших на солнце бровей уставились на Серафиму, на ее туго затянутое косынкой морщинистое лицо, горбатый нос, дрожащую в руке папиросу… И тут пришла ему в голову мысль попросить у нее двенадцать копеек на дорогу, на автобус.
Расспрашивать о том, как пройти с берега к автобусной остановке, было глупо. Так могли поступать только уж очень неприспособленные к жизни звеньевые. Важны были деньги, к сожалению, редко когда водившиеся у Кошкина, и надо было суметь как-то подъехать к бабке. Лук, редис предложила сама, а насчет копеек могла ведь и заартачиться.
– Далеко до города, – устало вздохнул Кошкин.
– Далековато… – ответила Серафима. Пустив колечками дым (старая, а тоже хотелось позабавиться), она посмотрела вдоль реки и сказала: – Далеко. День поспать, два поспать, тогда дойдешь.
Таким способом исчисления расстояний Кошкин не пользовался уже с той поры, как покинул детсад. Но возражать не стал.
– Автобусом, пожалуй, лучше, – авторитетно подсказал он.
– Автобусом и разговоров нет.
Кошкин помолчал, надеясь, что бабка сама предложит ему двенадцать копеек, но она не предложила. Конечно, откуда ей знать, что Кошкин не имел денег. Подымаясь с коряжины, бабка взялась за коромысло, и тут уже нельзя было терять ни секунды.
– Бабушка, а вы мне двенадцать копеек не дадите на автобус? – дрожащим от волнения голосом заговорил Кошкин. – Хотите, я вам их потом лично доставлю или перешлю по почте.
Больше всего Серафиму рассмешило, что Кошкин пообещал переслать двенадцать копеек по почте. «Забудет ведь. Ох, малец! Да и почта не пришлет, какие же это деньги, двенадцать копеек!»
– Дам я тебе на проезд и так, – с необидной улыбкой, просто сказала Серафима.
– Вот и спасибо! – подхватил Кошкин. – А теперь вы мне разрешите искупаться?
– Купайся на здоровье, – спокойно, даже с некоторым удивлением ответила Серафима. – Чего тут спрашивать-то?
– А вы за моим рюкзачком с одеждой и букетиком того… присмотрите?
– Чего тут смотреть-то? Ну да ладно, ступай, купайся, присмотрю. Только побыстрее. – Серафима снова села на коряжину.
Кошкин, сбросив с себя одежду, побежал к воде, с ходу забрел в нее и нырнул. С этой минуты со спокойствием Серафимы было покончено. Кошкин над водой не появлялся.
– Батюшки, куда же ты девался? – запричитала она, срываясь с коряжины, и сердце ее зашлось от страха. Только сейчас, в момент, когда Кошкин ушел под воду, она поняла, что совершила ошибку. Ведь это она дала ему разрешение купаться. А как он плавает, этот малец? Вся ответственность теперь падала на Серафиму. Только на нее.
– Батюшки, – сказала она уже радостно, когда увидела над волнами мокрую, махорочного цвета голову Кошкина.
Подхватив подол своей длинной юбки, Серафима размашисто побежала к воде.
– Вылазь сейчас же, вылазь сейчас же! – не подобрав лучших слов, задыхаясь, проговорила она.
Но Кошкин будто не слышал ее. Всплеснув над водой ногами, он снова нырнул и снова – надолго. Сердце у Серафимы опять зашлось.
Размахивая руками, шлепая босыми ногами по воде, она пошла по берегу и, когда Кошкин вынырнул и, браво повернувшись к ней улыбающимся лицом, сделал рукой под козырек, закричала что было силы:
– Вылазь! Вылазь, говорю! Сейчас же!
– Не бойсь, бабушка-а! – с мальчишеской лихостью протянул Кошкин. Размашисто двигая руками, он отплыл подальше от берега, крикнул: «Ули-гули» и исчез под водой, как топор.
Это был самый затяжной нырок в его жизни. Тараща глаза в мутной воде, он зажал одной рукой нос, другой правое ухо, в которое частенько заливалась вода, и, не шелохнувшись, сидел на речном галечном дне, как кочка, до тех пор, пока его не саданула в бок какая-то рыбина. Кошкин хотел поймать ее, но неудачно, глотнул воды и, испугавшись, вынырнул. Захлебисто кашляя, он поплыл к берегу, где навстречу ему, все глубже забредая в воду, шла разгневанная Серафима.
Лицо ее пылало. Теперь, хоть гром разразись, она не отпустила бы Кошкина от себя ни за что на свете. Она уже протянула вперед дрожащую руку, чтобы схватить его за плечо, но Кошкин и сам не пошел бы теперь в реку. Посиневший, зайдясь в кашле, он покорно вышагивал из воды, и это разжалобило Серафиму.
– Жив, родненький, жив, – вместо грозных слов радостно сказала она. Сердце у нее громко стучало, ноги от волнения подкашивались. – Жив, – сказала она еще раз и остановилась, чтобы перевести дыхание.
Только теперь наконец Кошкин понял, что нельзя так бессовестно издеваться над старым человеком. Но что поделаешь, когда у него такой испорченный характер? Он вот и сейчас, откашлявшись, не сказав бабке ни слова, побежал одеваться.
Правда, когда Кошкин оделся, он предложил Серафиме свои услуги – помочь донести ведра, но та категорически отказалась.
– Что ты, малец, куда тебе такая тяжесть? Я уж сама как-нибудь, – сказала она.
Кошкин не сомневался, что обещанные двенадцать копеек она ему даст и так, без напоминаний и услуг, но все-таки сказал:
– Тогда, Серафима Ивановна, разрешите хотя бы одно ведро.
– Да я уж раздумала дальше-то идти. Домой вернусь. Куда я такая, вся мокрая? Только людей напугаю. Вон мой домишко, – кивнула она.
Не будем говорить, как хотелось есть Кошкину. Он взял ведро с луком и редисом, не удержался и, бросив на Серафиму извинительный взгляд, положил в рот луковое перышко.
– Есть хочешь, – сказала Серафима, подхватывая второе ведро. – Дойдем до дому, я тебе свежей картошечки отварю. Да нет, чего варить-то, готовая есть, сваренная. Поешь с маслицем.
При упоминании о картошке с маслом у Кошкина от радости точно расперло грудь. Даже идти стало легче.
Домишко у Серафимы был с виду неказистый. Однако низенькая комната, она же и кухня, где жила Серафима, сияла чистотой и порядком. У окна, заставленного горшками с геранью, стояла железная кровать с блестящими набалдашниками. Кровать и подушка были покрыты кружевным покрывалом. Чуть ближе к дверям высилась беленная известью широкая плита.
Напротив плиты, возле обеденного стола, и уселся Кошкин, как только вошел в избу.
Серафима затопила плиту и поставила в кастрюле подогревать картошку. Потом подлила в нее масла. Приятный запах, распространявшийся по комнате, вызывал в желудке Кошкина страшные мучения. Но он стойко переносил их. И только когда на стол была подана дымящаяся паром кастрюля, он, не дожидаясь вилки, за которой пошла Серафима к шкафу, схватил самую крупную, жирно политую маслом картофелину и, почти не разжевывая, проглотил. Не потребовалось вилки и для остальных картофелин.
Но гостеприимство Серафимы этим не ограничилось. Насыпав в эмалированную чашку муки, она, не отходя от плиты, замесила тесто, и не успел Кошкин съесть картошку, как на горячей сковороде весело зашкворчали оладьи. Появились чай с молоком, сметана к оладьям, мед и смородиновое варенье.
Кошкин не пренебрегал ничем, съедал все. Да и как было сдержать себя, когда все, что попадало к нему в рот, точно таяло на языке. «Вкуснятина-то какая», – сказала бы в этом случае Ольга.
Но наступил момент, когда говорят: «Сыт человек по горло». Утолил голод и Кошкин. И, как всякий насытившийся человек, он незаметно для самого себя поддался тому блаженному состоянию, когда хочется и поговорить, и получше познакомиться с тем, кто находится сейчас рядом с тобой.
Насчет того же – поговорить и познакомиться – не прочь была и хозяйка дома.
– Как все-таки зовут-то тебя, парень? – заинтересованно спросила она.
– Ленька, – уже не раздумывая, ответил Кошкин. – Ленька Кошкин. А этого? – показал он в свою очередь на портрет в рамке возле окна.
– Этого? Этого звали Тимофеем, – сделавшись вдруг задумчивой, ответила Серафима.
– В пограничной форме!
– Он и был пограничником, сынок-то мой…
– Это ваш сын? – с удивлением переспросил Кошкин.
– Сынок…
– А где же он сейчас?
Серафима отвернулась, пригибая голову, вышла за дверь, а когда возвратилась, глаза ее были влажными. Эх, если бы знал Ленька Кошкин, если бы он только немного знал о ее жизни, разве бы он задал такой вопрос!
– Вкусно вы очень готовите, – сказал он.
– Вкусно?.. – Серафима вдруг отчего-то закинула голову назад, и по ее щеке проползла медленная слеза. – Спасибо тебе, Лень, что так сказал. Спасибо.
И опять не знал Кошкин, что вот такие же, примерно, слова, какие вырвались у него сейчас, сказал Серафиме один уважаемый человек, директор школы. Это было несколько лет назад, в тот год, когда подошел срок уходить школьной поварихе Серафиме на пенсию.
– Где мы найдем такого повара? Может, еще повременим с увольнением? – упрашивал директор.
Но Серафима, хоть и жалко было школу, все-таки уволилась. Подошла пора, когда подношенный трудом организм потребовал тишины, покоя, свободного распорядка дня. А какой уж тут покой – быть поваром на школьной кухне?
Следуя совету добрых людей, Серафима купила на отшибе деревни, на самом берегу полноводной реки, старую избенку и поселилась в ней. Уезжать из родных мест не хотелось, хоть звали ее на Урал дальние родственники. Зачем? Здесь, на земле Амура, ей все было дорого. Отсюда она отправляла мужа на фронт. Здесь, на границе, погиб ее единственный сын Тимофей…
Если взобраться в гору над избой Серафимы, летним погожим днем можно увидеть речной перекат. Там шли когда-то жестокие бои. Там, храбро сражаясь за Родину, погиб Тимофей. Разве могла Серафима покинуть эти места?
Была она человеком трудолюбивым и не привыкла сидеть сложа руки. На своем маленьком огороде Серафима в первый же год стала выращивать лук, редис, картофель, огурцы. Сначала для себя, потом явились к ней хорошие люди с окрестных дач. Стала стараться и для них. И не заметила, как снова обрела хлопоты. Правда, только в летнюю пору.
Зимой Серафима отдыхала. То ходила к знакомым в деревню, то смотрела в клубе кино. А вьюжными днями, когда над ледяными торосами реки неслись снежные вихри, любила посидеть у плиты, включив репродуктор. Слушала песни, музыку, разные новости и подбрасывала в печку дрова. Смотрела, и никак не могла насмотреться, как пылают, потрескивают жаром в печи поленья.
А что касается дров, их было не занимать. Нет-нет да и нагрянут к ней в снежный зимний денек ребята с границы с зелеными погонами на плечах. Молодые, сильные; и пошутят, и посмеются, а между делом и дров нарубят, и прорубь ото льда вычистят, и полную бочку воды натаскают. Найдется среди них такой, что и крыльцо починит или крышу. А то возьмут ребята да и увезут Серафиму на заставу на целый день смотреть самодеятельность. Берегла граница память о Тимофее.
Но зима все же надоедала. Декабрь, январь еще куда ни шло, а с февраля уже не сиделось одной. Особенно когда по ночам завывала вьюга. С тоской на сердце вспоминала Серафима родную школу. А иной раз потеплее оденется после такой ночи, выйдет к шоссе, сядет в автобус – и в школу, к ребятам.
…Смотря на задумчивое лицо Серафимы, Кошкин сидел не шелохнувшись. Он только украдкой поглядывал на портрет ее сына в пограничной форме, и, когда, поднявшись с табурета, Серафима прошлась по дому, Кошкин понял, что не было у нее теперь сына, погиб, наверное, в бою. Она только не хотела об этом говорить. Вот, оказывается, какая это была бабка!
Серафима остановилась напротив Леньки и спросила:
– Куда же ты все-таки идешь, Лень?
Лгать уже было нельзя.
– Из лагерей иду пионерских, – сказал Кошкин, смотря на Серафиму.
– Бежишь, значит? – На бабкином лице не дрогнул ни один мускул.
– Надоело. – Кошкин вздохнул.
– А почему?
– Что почему?
– Почему, говорю, надоело в лагере?
– А… – Кошкин махнул рукой и задумался.
Сложна все-таки жизнь. Вот живешь, радуешься, горюешь, бываешь чем-то недоволен, а спросишь, чем именно недоволен, – не сразу ответишь. Но тут Кошкину припомнилось нахальное лицо Рамзи, и он рассказал, как тот давал ему подзатыльники.
– Хулиган, – сказала Серафима. – Вот из таких и получаются хулиганы, – добавила она с возмущением. И тут же строго спросила: – Ну, а ты-то чего молчал? Надо было вожатому сказать, а нет – самому начальнику лагеря!








