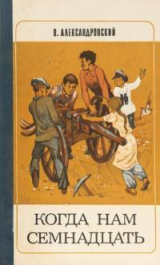
Текст книги "Когда нам семнадцать"
Автор книги: Виктор Александровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Но тут раздались голоса людей. Послышался топот бегущих. Эшелон остановился, зашевелился, как муравейник.
Я слез с вагона. Тем временем «мессершмитты», сделав глубокий разворот, заходили уже с хвоста эшелона, и, когда мы ставили сходни для лошадей, они второй раз пронеслись над нами.
Со стороны паровоза раздался взрыв. Эшелон дернуло. Кони, минуя сходни, стали выпрыгивать уже прямо на железнодорожную насыпь.
Угрюмкин тем временем выкидывал из вагона седла. Подхватив свое, я накинул его на Омголона, затянул подпруги и, усевшись, дал шенкеля. По приказу командиров солдаты быстро покидали состав. И только мы с Омголоном успели выскочить за дорогу у насыпи, как снова раздались бомбовые разрывы. Оглянувшись, я увидел пламя на вагонах и упавший с насыпи паровоз.
Рассыпавшись по полю, солдаты залегли. Каждый старался замаскироваться, как мог. Лишь бойцы нашего разведвзвода, пригибаясь к гривам коней, мчались в сторону ближайшего леса. Туча пыли поднималась им вслед.
Я направил коня за ними, но вдруг опомнился. Со мной не было ни карабина с патронами, ни клинка, ни шинельной скатки. В суматохе я забыл заскочить в вагон, взять свое оружие, и теперь надо было что-то предпринимать.
На всем скаку я развернул коня, и Омголон, словно понимая, что ему делать, помчал к эшелону.
Мы не сразу нашли окутанную дымом и пылью теплушку. Ушло время и на то, чтобы попасть в нее – вагонную дверь защемило. И когда снова выехал в поле, я увидел, что мы с Омголоном одни. Те, что полегли на землю в начале бомбежки, нашли для себя места более скрытные и притаились, а конников и след простыл. Гонимый страхом, я направил коня наугад к лесу.
И тут случилось то, чего я так опасался. «Мессеры», сделав еще один заход над эшелоном, беспорядочно разбрелись по небу, и вдруг один из них заметил меня. Я понял это сразу, как только за моей спиной раздались угрожающие повизгивания пуль. Омголон дико заржал и еще быстрее понесся по полю. Но не зевал и «мессер». Тяжело развернувшись, он шел к нам теперь уже спереди. Он походил на огромную хищную птицу, которая, опускаясь, знала, в какой момент ей прикончить жертву. Самолет спикировал так низко, что под плексигласовым колпаком его кабины я ясно увидел лицо немецкого летчика.
Я что-то скомандовал коню. Нет, тогда я, наверное, просто закричал, не отдавая себе отчета, и конь сделал такой резкий скачок в сторону, что «мессер» буквально проскользнул над нами, обдав ревом и вихрем воздушного вала. Где-то уже позади себя я услышал пулеметную пальбу.
Омголон во весь опор летел к лесу. Я уже думал, что опасность миновала. Однако это оказалось не так. Откуда-то сбоку «мессер» посылал очередь за очередью, и вот пулеметная дробь раздалась совсем рядом.
В тот миг я круто осадил коня. Летчик-фашист снова промахнулся. Но теперь мы скакали уже не к лесу, а в открытое поле, и было ясно, что «мессер» не отстанет от нас.
И он действительно не отставал. Делая развороты, он снова пикировал. Пули взвизгивали то справа, то слева, то спереди, я видел, как землю вспарывали серые фонтанчики пыли. Мой черный конь, каким-то чутьем угадывая, откуда нападет крылатый враг, на скаку шарахался то в одну, то в другую сторону и усилием ног мгновенно гасил движение, когда надо было остановиться.
Обезумевший от ярости фашист сбросил на нас остатки бомб и открыл беспорядочную пальбу из пушки. Он гонялся за нами до тех пор, пока не врезался в землю и не взорвался в подсолнуховом поле где-то метрах в двухстах позади нас. Немецкий летчик не смог вывести самолет из пике.
…Сознание того, что немецкого самолета над нами уже нет, пришло ко мне не сразу. Взрыв «мессера» походил на бомбовый удар, и мне показалось, что за нами гонятся уже не один, а несколько самолетов. Я инстинктивно пришпорил коня, и только когда над степью заполыхало яркое пламя и его отсветы легли на нашем пути, стало ясно: это «мессер». «Туда тебе и дорога», – подумал я и остановил Омголона. Над безмолвной, уходящей в предвечернюю мглу степью пылал окутанный черным дымом гигантский костер.
Я спешился. Омголон стоял, широко расставив ноги и тяжело вздымая взмыленные бока – они, как кузнечные мехи, учащенно, даже как-то лихорадочно сходились и расходились под седлом, ноги нервно дрожали, а в глазах затаился ужас.
Я отпустил подпруги и стал выводить коня. Он еле волочил ноги, а потом и вовсе остановился. Я потянул за повод сильнее: надо было, не теряя времени, идти искать затерявшийся в степи эшелон. Конь, оскалив зубы, яростно мотнул головой и не сдвинулся с места. Не только бешеной скачкой, но и страхом он был обессилен. Дрожь не проходила, и он вдруг припал на задние ноги. Из бабки левой передней ноги сочилась кровь, на ней не было подковы. Протяжно вздохнув, Омголон лег на бок, и мне пришлось тут же снять с него седло.
– Омголон! – Я смотрел в глаза коня и не знал, что мне делать. Бросить его и идти к эшелону одному, а потом вернуться? А дальше?..
Напрягая зрение, всматривался я в бугристую порыжелую степь, надеясь увидеть хоть одну живую душу, но, выжженная солнцем, она казалась мертвой. Только клубы густой черной гари живыми призраками расползались по холмам. Омголон, лежа у моих ног и вытянув шею, ловил ноздрями непонятные ему запахи. Разве мог я оставить его, такого беспомощного?
Мгла над степью сгущалась. Над горизонтом нависли темные тучи. Не в силах преодолеть усталости, я сел рядом с конем и вдруг почувствовал, как на меня точно навалилась каменная тяжесть.
Омголон издал глухой, протяжный стон. Я не сразу понял, что это он. Глаза его были закрыты, и он стонал во сне. «Бедный, бедный, сколько же тебе пришлось вынести в этом страшном поединке? А если б не ты?..» Я припал к шее коня и вдруг ясно, во всех подробностях вспомнил зеленый луг и ту тихую, ласковую июльскую ночь на Амуре. Теперь этого уже не вернешь.
Невольно веки мои сомкнулись, и, когда я открыл глаза, стоял уже вечер. В сгустившейся мгле неясным пятном проступали обломки сгоревшего «мессера».
Надо было что-то предпринимать, но что? Немецкий самолет загнал нас с Омголоном неведомо куда, и в эшелоне, наверное, считали меня погибшим. Заметили и пламя в степи, да разве время сейчас разбираться? Все, кто остался в живых, наверное, приводили в порядок эшелон, чтобы двигаться к фронту. А может, они уже двигались туда?
Но тут Омголон неожиданно приподнял голову, и в темноте я увидел, как «застригли» его уши. Что это означало? Преодолевая усталость, я приподнялся, вслушиваясь в степную тишину, но ничего, кроме шорохов ветра, не услышал. Но вот донесся далекий конский топот… С каждой минутой он нарастал, становясь громче, отчетливей, и уже вскоре можно было понять, что это всадники и скачут они прямо на нас. Сколько их – двое, трое? Не все ли равно. Может, это ребята из нашего взвода, и они разыскивают, нас с Омголоном?
Показались два силуэта. Всадники. Один повыше, другой пониже. «Да это же Свенчуков и Карпухин!» – мелькнуло в голове.
– Сюда… Сюда-а! – крикнул я и, видно, так громко, что тотчас услышал ответный голос нашего эмтеесовского кузнеца:
– Алешка-а?.. Живо-ой?
– Живой, ребята, живой! – продолжал я кричать, не помня себя от радости, шагая навстречу всадникам.
Свенчуков подъехал первым. Спрыгнув с лошади, он подбежал ко мне и схватил за плечи.
– Живой, черт, живой! – Он тряс меня со всей своей неуемной силой и, когда убедился, что я невредим, но стряслось что-то с моим конем, заговорил потише: – Сначала думали, куда податься, где тебя искать? Если бы не второй заход «мессеров», успели бы засветло.
– Что, опять налетали?
– Еще как! Если б не наши «ястребки», не видать бы нам эшелона.
– Точно! – тихо сказал Карпухин.
Затягиваясь махорочным дымком, Свенчуков во всех подробностях стал расспрашивать про «мессер» и про нас с Омголоном. Вдруг из темноты донеслось негромкое ржанье.
– Твой конь? – удивленно спросил кузнец.
– Мой, – обрадованно ответил я.
– А ты говоришь!.. Раз заржал, значит, ожил! Взяв своего буланого за повод, Свенчуков отправился вслед за мной.
– Ну вот, а ты говоришь! – увидев Омголона на ногах и не скрывая своей радости, снова сказал он: – Кони монгольской породы, они знаешь, брат, какие кони!
Включив электрический фонарик, Свенчуков внимательно осмотрел Омголона.
– Подкова? А ну, «монгол», подавай ногу, – сказал он, вставая перед конем на колено. И когда передняя нога Омголона оказалась в его руке, он сказал удовлетворенно: – Подкуем. Вынимай ухнали и подкову, Коркин, да побыстрее!
В эту минуту Свенчуков чем-то напоминал Подкосова.
Пока я возился с седлом и вынимал из сумы все необходимое, Свенчуков не выпускал ногу Омголона. Свободной рукой он отсоединил примкнутый к карабину коротенький штык и стал выдергивать из копыта застрявшие в нем плоские гвозди – ухнали. Потом положил на копыто подкову и с помощью другой вогнал в отверстие новые ухнали. Загнуть их концы штыком для опытного кузнеца не представляло никаких трудностей.
– Вот так, Коркин, – по-старшински сказал Свенчуков, поднимаясь с земли. – Доскакать до эшелона твоему «монголу» хватит, а там ротный кузнец проверит. – Да ты не торопись, – добавил он тут же, – дай коню отстояться. Пробудь здесь с ним до утра. А с рассветом вон прямо так, – И Свенчуков показал ребром руки на потухший костер. – Эшелон к утру будет готов.
Темной июльской ночью на какой-то станции между Доном и Волгой нас загнали в тупик. Поступила команда разгружаться. И пока мы выводили коней, скатывали с платформ орудия, хозяйственные и санитарные повозки, подошло еще несколько эшелонов.
Никакими осветительными средствами пользоваться не разрешалось. В густой тьме, нарушаемой лишь редкими вспышками фар, двигались люди, кони, машины, урчали моторы, раздавались команды и едкая солдатская ругань. И все это – и люди и вещи – сливалось в какую-то бесформенную живую лавину до тех пор, пока она не вытянулась и не покатилась колонной по дороге к фронту.
Орудия тащили лошадьми. Пулеметы и минометы везли в бричках. Легкое снаряжение пехотинцы несли на себе. Над колонной висела густая, хрустящая на зубах пыль.
Нам, конным разведчикам, было немного легче, чем пехоте. Мы ехали верхами впереди, где было не так пыльно и не так тесно от людей и повозок. Покачиваясь в седле рядом со Свенчуковым и Карпухиным, я вслушивался в неясный, но ощутимо мощный гул позади себя.
Иногда при мысли о том, что вот уже совсем скоро я увижу фашиста с металлической каской на голове и автоматом в руках, увижу его не в кино и не на снимке в газете, а вот так, с глазу на глаз, окунусь в грохот разрывов и клубы порохового дыма, я вдруг начинал явственно ощущать холодок на спине. Это было какое-то еще не осознанное чувство страха и своей неумелости и одновременно желание поскорее освободиться от всего этого. Сейчас, когда за моими плечами столько прожитых лет, мне, наверное, легче передать те мысли и чувства, которые обуревали меня в ту далекую июльскую ночь…
За двое суток, что прошли с момента встречи с немецким «мессером», Омголон окончательно оправился, шел в строю бодро и уверенно, временами отфыркивался, как и все лошади взвода, от удушливой степной пыли да нет-нет норовил куснуть Свенчукова жеребца, шагавшего слева. Что ему дался именно этот послушный буланый конь, не знаю. Во время, таких агрессивных действий Омголона я изо всей силы натягивал повод, мой вороной заносил голову назад и, звеня удилами и храпя, выражал этим свое крайнее неудовольствие.
А линия фронта все приближалась. Над темным, скрытым в ночи горизонтом сверкали бледно-розовые сполохи. Они были и тогда, когда мы начинали свой поход от станции. Редкие и трепетные, вспыхнув, они тут же угасали и вдруг точно затевали между собой игру. Небо, давившее на нас своею спокойной темнотой, будто оживало. И тогда слышались глухие раскаты артиллерийской канонады.
Под утро, когда орудийный гул стал реже, а потом и совсем утих, мы устроили привал в березовой роще. И только подъехала ротная кухня, как раздалась команда маскироваться. До переднего края оставалось километров пятнадцать, и проходить это расстояние днем даже по лощинам было опасно.
Коней свели в овраг, потом поили водой из ручья, протекавшего в низине. Заботливый Угрюмкин, не теряя времени, взялся за косу. Звонко провел по ней оселком и стал скашивать траву поблизости на лужайках. Косил он размашисто, быстро, заражая своим примером остальных коноводов.
Охапками носили мы пахучую траву лошадям, стоявшим на привязи у берез, и я видел, как радовался Омголон зелени, особенно сочной здесь, на дне оврага. С каким упоением внюхивался он в нее. И если бы не запахи пороховой гари, пришедшие сюда по лощинам с передовой и застрявшие с ночи, многое в этой картине напоминало бы что-то родное, мирное, от чего начинало щемить на сердце.
– Видать, дали наши по зубам немчуре, – отставив косу и вслушиваясь в тишину фронтового утра, высказывался, разговаривая с самим собой, удовлетворенный Угрюмкин. Такая же приподнятость во всем его облике чувствовалась и тогда, когда, примостившись на телеге с накошенным сеном, он хлебал из миски солдатские щи.
Вся первая половина дня прошла у нас в ничем не примечательных хлопотах: чинили снаряжение, скребли и мыли после дальней дороги лошадей, помогали артиллеристам натягивать над орудиями камуфляжные сетки.
После запоздалого обеда разрешено было поспать. В тревожном ожидании чего-то важного лег я у ног Омголона, подложив под голову седло, и, хотя от усталости ломило все тело, я так и не смог заснуть. В тяжелой дреме провалялся до самых сумерек. Мерещились лица отца, матери, Нюшки и какая-то большая, серая, с острым клювом и крестами на машущих крыльях птица.
В сумерках к нам явился новый командир взвода разведки – молоденький, туго перетянутый широким с портупеей ремнем и быстрый в движениях лейтенант Ложкин, назначенный вместо погибшего при налете «мессеров» Панина. Приказав построиться, он затем подвел нас к большой воронке от авиабомбы, и пока мы, все сорок солдат взвода, рассаживались вкруговую по сыпучему земляному скату, Ложкин поджег на бледном язычке трофейной зажигалки папиросу и не спеша стал курить. Пуская изо рта тоненькие струйки дыма, он сосредоточенно всматривался в каждого из нас, словно пытаясь понять, чего же мы сто́им.
Молодое, наскоро побритое лицо лейтенанта казалось очень усталым. Из-под бровей смотрели строгие, умные глаза. И в то же время во всем его облике было что-то лихое, мальчишеское, что сразу вызвало к нему симпатию. По крайней мере, у меня. Может, от пилотки, сдвинутой набекрень, или светлых кудрей, упрямо выбивавшихся из-под нее. А может, от озорной улыбки, однажды мелькнувшей на его смуглом лице. «С таким воевать не страшно», – подумалось мне, когда Ложкин, дополняя слова скупыми жестами, стал рассказывать о делах на передовой.
Стрелковая бригада, из которой он только что прибыл, отбила все атаки немцев, но за последние дни сильно поредела и нуждалась в срочном пополнении. Фрицы готовились к новому наступлению, вероятно, более мощному. К сожалению, об истинных силах немцев наше командование почти ничего не знало. Требовались «языки». Эту фразу Ложкин повторил несколько раз.
…Стояло редкостное затишье, когда в полночь, подойдя к фронтовой полосе, оставив лошадей под надзором коноводов, мы заняли окоп на левом фланге бригады. Лейтенант Ложкин привел на передовую весь взвод разведки, чтобы каждый из нас смог хорошо сориентироваться в обстановке. Спустя некоторое время часть людей он отпустил в блиндаж отдыхать, а мне, Свенчукову, Карпухину и еще троим велел остаться для наблюдения за противником.
Припав грудью к брустверу, пахнущему глиной и чем-то горелым, подавляя вдруг охвативший меня страх, смотрел я сквозь стекла полевого бинокля на бугристое, изрытое взрывами и опаленное огнем поле. При свете немецких ракет, вспыхивавших в ночной темноте то слева, то справа, то прямо предо мной, оно напоминало кусок какой-то странной безжизненной планеты. Но так казалось вначале. Стоило вглядеться пристальней, и метрах в трехстах от нашей передовой, сразу за лощиной, обнаруживалась линия немецких траншей. Обозначенная чуть заметной насыпью бруствера и валом колючей проволоки, она виделась недолго, минуту, может быть, две, пока осветительная ракета маячила над лощиной, и этого времени было достаточно, чтобы понять: там затаился враг.
– Гляди, блеснуло! Это стереотруба, – услышал я шепот Ложкина. Я не слышал, когда он подошел и стал за моей спиной. – Ниже, ниже держи голову, Коркин, пуля – она ведь не дура!
Я еще плотнее прижался к земле, поправил на голове каску и продолжал смотреть в бинокль. Ракеты бесшумно вспарывали небо по всей линии фронта, создавая бесконечную, то гаснущую, то снова загоравшуюся светлую полосу.
– Это от страха они, Коркин, светят. Боится нас немчура. Гляди, сейчас снова пальнет!
Он просунул руку в выемку бруствера, возле которого мы стояли, и направил вдоль нее мой бинокль:
– Смотри, откуда ракеты вылетают…
Шли томительные минуты. И вдруг за лощиной небо прочертила тоненькая пороховая ниточка, раздался взрыв, и повиснувший в воздухе, светящийся шар стал торопливо опускаться на землю. Не дойдя до нее, он погас.
– Простая осветительная, – пояснил Ложкин. – А есть ракеты с парашютом. Те долго маячат…
Не успел Ложкин досказать, как из того же места у линии немецких окопов выскочила вторая пороховая ниточка и, растянувшись по небу, тут же исчезла, точно сгорела в ослепительно ярком свете вспыхнувшей ракеты. Потом, спустя некоторое время, появилась третья, четвертая… Я стал считать. Ракеты взмывали в небо через разные промежутки времени, но я уже ясно видел маленький бруствер, из-за которого выскакивали эти тоненькие, бледные ниточки. Он высился на холме впереди немецких траншей.
– Там окоп, и там сидит фриц-ракетчик. Этого фрица можно запросто накрыть минометом, но мы поступим иначе. Мы с тобой должны взять его, Коркин, живьем. И не позднее чем завтра ночью, – сказал Ложкин с какой-то яростью в голосе. – Наблюдай! – Он исчез в темноте. Больше я его не видел в ту ночь.
Слова лейтенанта всколыхнули мой и без того тревожные чувства. «Завтра ночью…» А как? Надо ползком пробираться по освещенной лощине… Мои пальцы впились в бинокль, и в груди под ложечкой неприятно засосало.
В этот момент я, наверное, забыл про осторожность. Хотелось получше рассмотреть бруствер на холме. И тотчас «тиу… тиу-тиу» раздалось со всех сторон. Вот как поют фронтовые пули!
В немом оцепенении я сел на дно окопа, глядя на светящийся лоскут неба над головой. «Видно, почуяла что-то немчура…» «Тиу-тиу», – неслось вдогонку моим мыслям. Потом застрекотал пулемет.
Поднявшись, я снова навел бинокль на бруствер. Над ним опять протянулась тоненькая пороховая ниточка. Немец действовал нагло и уверенно. А что ему? Его окоп находился в почти неприступном месте на высоте. Позади – траншея своих, впереди – колючая проволока… «Завтра должно все свершиться».
Пулемет утих, и снова над полем воцарилась тишина. «Завтра…» Лейтенант Ложкин должен, конечно, разработать подробный план действий и сообщить его нам. Так нас учили там, в нашем далеком краю, когда готовили к фронту. А что сейчас там? В памяти всплыл пустынный железнодорожный перрон…
Стараясь отогнать невеселые думы, я вспомнил про Омголона. Мой черный конь был где-то здесь, рядом, за линией траншей. Угрюмкин, наверное, постарался накормить его как следует и укрыть вместе с другими лошадьми где-нибудь понадежнее. Я представил, как стоит сейчас в темноте Омголон, навострив уши…
Подошел Свенчуков. Навалившись на бруствер слева от меня, он сделал рукой в земле ложбинку и положил в нее бинокль. В его ровном дыхании не было ни тени тревоги.
– Вобьем ему в глотку кляп, и точка, – немного погодя сказал кузнец.
– Когда?.. – спросил я.
– Завтра ночью. Приказ Ложкина.
– Значит, поползем вместе…
– Выходит, что так.
Свенчуков застыл с биноклем на бруствере. Я как-то безотчетно поддался внушительной силе его спокойствия. Мне показалось, что и фриц на той стороне тоже стал спокойней, он что-то медлил с ракетой. В лощине стало темнеть.
– Смотри, смотри, что, сволочь, делает, – не то с досадой, не то с радостью заговорил Свенчуков.
Я напряг зрение. Что-то темное, еле уловимое глазом, ползло от окопа к немецким траншеям.
– Это он, гад, ползет. Видать, ракеты кончились, а может, это у них пересмена. У тебя нет закурить? – неожиданно обратился ко мне кузнец и тут же сплюнул: – Некурящий. – Немного помолчав, он снова заговорил: – А это ведь нам на руку, Алешка. Ты бы засек по своим штампованным, за сколько эта тварь сползает туда и обратно.
Подготовка операции по захвату «языка» началась в тот же день к вечеру, когда, отоспавшись после ночного дежурства в окопе, мы, по выражению Ложкина, обрели наконец «божеский вид».
Построив всех шестерых перед блиндажом, Ложкин, подтянутый и тоже, видать, отдохнувший, подбадривая нас шутками, стал объяснять задачу.
– Честно говоря, ребята, так в разведку не ходят, – начал он как бы между прочим. – Нужна подготовочка. Время, одним словом, нужно. А командование требует «языка». Вынь да положь. Поэтому и проводим все в ускоренном темпе. Но вы не думайте, что Ложкин посылает вас на погибель. Группу захвата поведу я сам. Впереди – саперы, они народ опытный. Ну и, конечно, минометчики создадут нам некоторую обстановку.
Сев на корточки и чертя палочкой по земле, Ложкин стал объяснять, когда и откуда будем заходить в лощину, где остановится группа прикрытия, какие знаки он будет подавать…
– Главное – выдержка, ребята. Не так черт страшен, как его малюют. Запомните это!
Сказав, что считал нужным, Ложкин отложил палочку, закурил и предложил папиросы нам. И эта простота в обращении лейтенанта так, оказывается, нужна была нам в эту минуту! Ведь и я, и Свенчуков, и Карпухин, и те трое, знакомые мне только по взводу парни, и с ними Ложкин – все мы представляли сейчас как бы одну семью и все были равны перед целью и той бедой, если она случится.
Последующие наставления Ложкина были такими же простыми и точными. Ни у кого не вызывало сомнений, что молодой, только чуть-чуть постарше возрастом многих из нас лейтенант – человек хорошо осведомленный, и тот план, который, быть может, созрел у него еще задолго до того, как он завел со мной разговор в окопе, был продуман им и тщательно взвешен.
Да, в первые полчаса нашего движения по лощине черт действительно был не страшен. Наши минометчики справа по фронту открыли беглый огонь. Немцы ответили. Завязалась та, ставшая потом хорошо мне известной, фронтовая «перебранка», увлекаясь которой, один из противников всегда что-то упускает из виду. Нам было важно, чтобы немцы ослабили наблюдение за лощиной. И это, кажется, удалось.
Выбирая моменты, когда свет над нами гас, мы, пригибаясь, делали стремительные броски вперед и замирали на скатах воронок от авиабомб. Камуфляжные пятна маскхалатов помогали нам «слиться» с пейзажем, когда над лощиной взмывали ракеты.
Ложкин назначил меня с Карпухиным в группу прикрытия. «Салага еще», – сказал он с дружеской иронией, когда при распределении кому с кем идти я вышел из строя вместе со Свенчуковым. Кузнеца и двух парней-«тяжеловесов» лейтенант взял с собой в группу захвата и шел с ними впереди.
«Шел» – это означало, что, пригибаясь в темноте, делал бросок за броском. Авиация здорово поработала над лощиной, и недостатка в воронках от бомб мы не ощущали.
Справа от нас стоял беспрерывный вой и грохот. Вслед за минами вступили в действие пулеметы, и временами, лежа в воронке, я вдруг начинал терять ощущение земли, самого себя. Все, что было вокруг, состояло из сплошных угрожающих звуков.
Но вот наваливалась темнота. И от сознания того, что вот тут же, сейчас она может кончиться, я словно получал удар в спину. Я устремлялся туда, куда ушел Ложкин. Таким же чувством, наверное, были охвачены и Карпухин и третий, самый нетерпеливый из нас, Крякин, которого все во взводе называли просто Крякушей.
В руках мы держали наготове автоматы. Где-то уже скоро придет конец нашим броскам. Мы должны будем залечь и в случае необходимости взять под защиту группу захвата. Карпухин, которого Ложкин назначил старшим, подполз ко мне и сказал, чтобы я не торопился. Вот-вот должны появиться кусты. Там мы заляжем, а Ложкин со своей группой начнет пробираться к холму, где засел немецкий ракетчик.
Еще тогда, у блиндажа, разбирая боевую задачу, Ложкин сказал, что мы должны залечь в кустах. Росли, оказывается, еще где-то здесь, в лощине, кусты, уцелели, несмотря ни на какие передряги, и они должны были сослужить нам верную службу.
Но кустов мы не видели, хотя прошли уже изрядное расстояние. Может, они были где-то впереди?
Мы приподнялись над воронкой, силясь в темноте рассмотреть предметы. Кустов не было видно. Свет над лощиной снова заставил нас припасть к земле. Так продолжалось несколько раз.
– Надо б идти, – подсказал Крякуша.
– Лежать! – приказал свирепо Карпухин. Почему он был уверен, что именно здесь мы должны остановиться, не знаю. Я тоже, как и Крякуша, начинал злиться на нашего старшего. «Неопытный. Зачем такого было назначать?..» Но тут Крякуша увидел кусты. Они оказались далеко позади нас.
– Э, черт!.. – только и смог сказать Карпухин. – Пробежали!.. Промазали!.. – долетали до меня обрывки его последней фразы.
Прижавшись друг к другу, лежали мы на скате большой земляной воронки, подавленные и злые. Все, казалось, было потеряно. Ведь где-то совсем рядом находился противник. Как мы не заметили этих злополучных кустов?
Потом, уже много дней и ночей спустя, когда прошла острота этих переживаний, я понял, почему мы пробежали кусты. Нас подвели нервы. Они были настолько напряжены, что ничего другого, кроме команды внутреннего голоса: «Вперед, только вперед!..» мы не воспринимали. Это было непростительной нашей ошибкой. Но что поделаешь, все трое мы шли в разведку впервые.
Бой справа не утихал ни на минуту. Под его прикрытием Ложкин, Свенчуков и с ними еще двое наших товарищей двигались к немецкому окопу, а мы в случае необходимости ничем не могли им помочь. Первое же наше движение будет тотчас замечено противником, и нас уничтожат.
Без схватки с врагом не обойтись. Еще там, у блиндажа, строя разные предположения о том, как будет взят ракетчик, лейтенант говорил, что схватка будет даже в том случае, если ракетчика они возьмут «глухо», то есть без всякого шума. В небе не станет ракет, и немцы забеспокоятся.
А мы лежали, как слепые котята, уткнувшись носами в землю.
Конечно, можно было постараться исправить ошибку, перебежками начать возвращаться к кустам. Но Карпухин молчал. Молчали и мы с Крякушей.
А между тем Ложкин действовал точно и напористо. Свенчуков потом рассказывал, как это у них получилось. В окопчик к немцу-ракетчику они проникли вдвоем с Ложкиным, как только фриц из него вылез. Парни-«тяжеловесы» притаились за бруствером. Стоило немцу вернуться и прыгнуть в окоп, один из них тут же навалился на него сверху и помог лейтенанту и Свенчукову бесшумно взять «языка». В рот фрицу воткнули кляп.
Вытащить из «норы» впавшего в шок немца не представляло особых трудностей. А когда Свенчуков и парни поволокли его в лощину, Ложкин остался в окопе.
Зачем он это сделал, стало ясно позднее, когда ракетчика удалось перетащить за колючую проволоку, где саперами был проделан ход. Из окопа взмыла ракета. Прочертив ниточкой путь по небу, она вспыхнула где-то далеко справа, где продолжала идти перестрелка. А здесь, где лежали мы, нужна была темнота. И то, что сделал Ложкин, выручило нас. Карпухин это сразу учел.
– Лежать… Лежать! – прохрипел он свирепо. Мы взяли автоматы на изготовку.

Шли минуты тревожного ожидания. Ракеты по-прежнему уходили вправо, появляясь через значительно большие промежутки времени, чем положено, но все же взлетали, окоп действовал, и это окончательно сбило с толку немцев. Выигрыш во времени оказался по крайней мере минут в двадцать, за которые Свенчуков и «тяжеловесы» унесли ракетчика на изрядное расстояние: А когда после ухода Ложкина из окопа немцы наконец опомнились и открыли стрельбу, это было уже не так страшно. Плотными очередями из автоматов накрывали мы пути их возможного появления и, как говорил потом Ложкин, хорошо прикрыли группу захвата. Кратчайшим путем по лощине «язык» был доставлен к нашим позициям, где его уже ждали солдаты из боевого охранения.
Первым моим желанием, когда наконец я пришел в себя после этой, в общем-то успешной, но оказавшейся для меня такой сложной и трудной операции по захвату «языка», было увидеть Омголона. Ложкин дал нам сутки отдыха, и, воспользовавшись этим, я отправился проведать своего черного коня. Мне пришлось пройти километров пять, а то и все семь по пересеченному лощинами полю, прежде чем я нашел «тылы» бригады.
Кони взвода разведки стояли отдельно от хозяйственных коней, но не в земляном укрытии, как почему-то все время думалось мне, а в деревенском сарае среди одиноких домиков опустевшего хуторка. Наверное, до войны здесь находилось отделение зернового совхоза – во дворе перед сараем, в зарослях полыни и лебеды, виднелись поржавевшие части плугов, жаток, а на задах, в запекшейся на солнце грязи, лежал опрокинутый набок старенький трактор.
– Пришел? – встретил меня придирчивым взглядом Угрюмкин. – А я думал, что не придешь. – Коновод сердито пошевелил кустистыми бровями. Сидя на корточках, он прилаживал новый обод к колесу армейской брички. Двое других коноводов на лавке возле сарая чинили хомуты, и, если бы не мелькавшие по улочкам хуторка военные гимнастерки да не окрашенные в болотную зелень санитарные, кухонные и разные другие повозки, скрытые за домами, ничто не напоминало бы здесь о близости фронта. Но это, конечно, только казалось. Угрюмкин поднялся, поправил сбившуюся на лоб пилотку и, не зная, что сказать еще, стал теребить заскорузлыми пальцами свою густую рыжую бороду.
– Как он там? – нарушил я молчание.
– Да так…
– Ну, а все же?
– Иди смотри своего беса, – пробурчал старик.
Услышав в его голосе недовольные нотки, я быстрым шагом направился к сараю и, как только вошел в открытую дверь, услышал радостное ржание.
Омголон стоял в глубине сарая на привязи, отдельно от остальных лошадей взвода, и деревянный столб, к которому он был привязан, порядочно пострадал от его зубов. Увидев меня рядом, конь заржал еще громче и заметался вокруг столба, глухо стуча копытами.
– Что зверь лютый, – услышал я за спиной голос Угрюмкина. – Всех коней покусал.








