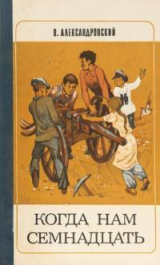
Текст книги "Когда нам семнадцать"
Автор книги: Виктор Александровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
– Вы же сами распорядились отдать их, – оправдывался перед мастером кладовщик.
– Да ты что, спятил? Кто приказал? Кому отдать? – изумился Цыганков.
Кладовщик нес какую-то чепуху. Цыганков разозлился не на шутку:
– Ты, старый хрен, хоть роди, но резцы чтобы были через десять минут!
– Да я что… – заморгал кладовщик. – Пришел, говорит: «Дай, дед, резцы. Работа встала». Ну, а я что, зверь, что ли? Пол-литра, правда, он сунул мне. До сих пор стоит, если не усохла.
– Какие пол-литра?! – заорал в бешенстве Цыганков. – Кто это пришел к тебе? Что ты мелешь?
– Я не мелю… – кладовщик обиделся, подозвал Чекмарева, сказал нараспев: – Гаврила, а Гаврила, отдай резцы. Куда ты их девал?
Пашка не выдержал:
– Сволочи!.. Ну и сволочи!..
Цыганков, рукой отодвинув с дороги кладовщика, подошел к Чекмареву:
– Сколько ты резцов у него взял?
– Ничего я не брал! – огрызнулся Гаврила. – Болтает спьяна!
Цыганков, брезгливо пятясь от Чекмарева, сказал Куракину:
– Идите. Я найду вам эти резцы. Самое большее через час.
Юлька с ненавистью смотрела на плоский затылок Чекмарева, на его прыщеватые, побелевшие от волнения уши. Вспомнила, каким было его лицо, когда он недавно ругался с Куракиным, и подумала: «Гадина».
После смены в цехе выдавали зарплату. Чекмарев получил деньги и старательно пересчитывал их. Юлька, стискивая в кулаке получку, подошла к нему вплотную. Чекмарев безразлично посмотрел на нее.
– С самого начала я не верила тебе, Гаврила. С первых дней моей работы здесь не верила, – сказала она.
Но Чекмарев, вместо того чтобы обидеться или выругаться, вдруг улыбнулся и подмигнул Юльке:
– Сколько ты получила сегодня?
Юлька, не ожидавшая такого оборота, машинально ответила:
– Шестьсот пятьдесят…
– А аванс?
– Четыреста.
– Итого, стало быть, тысячу пятьдесят за месяц. Гаврила не переставал улыбаться. Он и в хорошие-то дни никому так не улыбался.
– А выработку вашей бригады ты не помнишь? Процент какой?
– Сто один и восемь, – чувствуя, как кровь отливает от лица, ответила Юлька.
– Ты извини меня, – еще шире улыбнулся он. – А когда по одному работали, сколько ты за месяц получала?
Словно загипнотизированная его улыбкой, Юлька совсем тихо, одними губами ответила:
– Семьсот сорок… семьсот семьдесят.
Как ей могло показаться, что Гаврила улыбается? Это же оскал, злой, беспощадный. У него были желтые от табака зубы, редкие и крепкие, как дубовые пеньки.
– Так что же ты, барахло, мне мозги полощешь?! Энтузиастка на чужой счет! Если я зарабатываю, – он поднес к самому Юлькиному лицу руки, – так вот ими… А тебе подачки дают, и ты их берешь!
Он рассмеялся, резко оборвал смех и широко зашагал из цеха.
4
Метель началась еще утром. С Амура потянул пронзительный ветер. Тревожно дымилась снежной пылью дорога. Стройка тонула в белесых вихрях. Ветер поднимал поземку все выше, захватывал первые этажи зданий, по стеклам заструились белые змейки. А сейчас, в сумерках, на деповском дворе, залитом светом юпитеров, метель металась и злилась, позванивая железом и гудя в брошенных паровозных котлах. Медленно, будто с трудом преодолевая ветер, прополз маневровый паровоз. Из его трубы вырвался сноп искр, и метель вместе с дымом и снегом швырнула их в окно, за которым стояла Юлька.
Отправился в кузнечный доделывать корпус приспособления Куракин. Позади Юльки, за стеной, встал к ДИПу с новыми резцами Жорка. А за этой метелью, где-то в глубине нахохлившегося поселка, спал смертельно уставший Андрей и ничего не знал.
У Юльки на «семерке» закреплена последняя деталь к приспособлению – хомутик. Но Юлька не могла работать. А может быть, Андрей вовсе и не спит? Может быть, его голос трудно и устало звучит за дверью Зинкиной комнаты, так же как неделю назад, и вся Юлькина судьба со всеми радостями и бедами, с Дмитровкой, с Гришей, с разрушенной Хасановкой опять висит на волоске?
Тогда она слышала все. А сколько могло быть таких случаев в жизни, сколько могло их быть, когда Юлька и не подозревала и не догадывалась, что вот в эту минуту решалась ее жизнь и даже то, в какую сторону она сделает следующий шаг? Неподвижно глядя в окно, осыпанное снегом и вздрагивающее под напором ветра, Юлька мысленно произнесла те же самые слова, которые сказала ей когда-то Лиза: «Нет, это не для меня». Ей некого было винить.
Правым, убийственно правым оказался Чекмарев. «Он нехороший человек, – думала Юлька. – Но он прав». С холодной ясностью, как ей казалось, она сейчас видела и понимала людей и не находила себе места среди них. У всех жизнь как жизнь: учатся в школе, ходят в депо, создают свои семьи… А она только пытается догнать остальных, пристроиться как-то, хоть с краешку. Но ничего не получается.
Только что разошлась по домам смена. Юлька машинально дошла с группой рабочих до середины коридора и задержалась здесь. Она не чувствовала, что от окна дует. «Да, с этим ничего нельзя сделать».
Она оделась, повязала платок, натянула варежки и вышла на улицу. Брела поперек беснующейся метели, не замечая ее. Вокруг бесстрастно светились окна завьюженного поселка.
Ветер чуть было не сорвал с ее головы платок. Она подхватила его, но не завязала, а стала придерживать руками у подбородка.
Улица заканчивалась тупиком. В конце ее стоял новый дом, настолько высокий, что верхние этажи его терялись в снежной мгле.
Юлька остановилась. «Вот здесь живет Андрей». Постояла с минуту и вошла в подъезд. «Скажу ему все. И уйду». Внезапно ее обожгло: «А вдруг он в общежитии у-нее?» Но она уже стояла перед дверью.
Ей сразу же открыли, будто ждали.
Седая женщина, держась одной рукой за косяк, отступила, пропуская Юльку. Не отряхивая снега ни с валенок, ни с пальто, Юлька шагнула в полутемный коридор. Дверь в дальнюю комнату была открыта, из нее падал свет. Юлька пошла на светившийся квадрат.
Чертежный столик, настольная лампа на нем. Еще стол, заваленный книгами, этажерка, стеллаж. Диван. Его край освещен настольной лампой, все остальное погружено в теплый, коричневый полумрак. На этом диване спал опрокинутый навзничь усталостью человек, к которому она так долго шла.
Он проснулся, сел, согнув под одеялом ноги. Юлька не видела его лица, оно было за кругом света…
Он повернулся к ней, а ей нечего было сказать ему, у нее просто не было слов. Ей не было дела до того, что ее приход сюда сейчас нелеп и непонятен ему, и его матери, и всякому, кто увидел бы ее, Юльку, в эту минуту. Ей на глаза попалась оранжевая Зинкина кофта, висевшая на гвоздике справа от двери. Она видела все до малейшей подробности: оттопыренный кармашек, и засученный рукав, и даже шляпку гвоздя в стене.
Юлька пошла обратно.
Ей показалось, что Андрей крикнул вслед, но она не оглянулась.

На улице метель подхватила ее и потащила в темноту. Она не сопротивлялась ветру. Ей было легко идти, она не чувствовала тяжести своего тела.
Только возле насыпи Юлька поняла, что ей надо надеть платок.
Выйдя к путям, она подумала, что в такой вьюге не услышишь шума поезда, и пошла не между рельсами, как обычно, а рядом с насыпью, по бровке.
Ветер дул ей в спину, гнал все дальше и дальше от огней и жилья.
Вдруг сзади, из темноты, вырвался и загрохотал рядом тяжелый вагон, за ним катились длинные платформы. «С сортировочной горки», – успела подумать Юлька, останавливаясь, чтобы пропустить вагоны мимо…
Глава пятнадцатая
1
Юлька шла и шла. Кругом все было погружено в непроницаемый зыбкий мрак. И только впереди скупо брезжил рассвет.
Качалась под ней земля, кружилась голова. Ей казалось, что она взбирается вверх по такому крутому подъему, что если остановиться на мгновение, то увлечет вниз. Там холодная вода, которая тотчас сомкнется над ней.
«Я выберусь, – думала Юлька, – выберусь». Свет впереди дрогнул, медленно стал приближаться к ней. Вместе с ним приближался гул, словно в отдалении проходил поезд, слышался шорох веток, звон падающей воды.
Она сделала неосторожное движение и снова провалилась в темноту. Но ненадолго.
Юлька собралась с силами, снова потянулась к этому свету, открыла глаза и увидела прямо перед собой стену – белую, ровную стену с лампочкой посредине. «Это потолок!» – угадала она. Вместо гула поезда она услышала голос: кто-то говорил с ней. Лампочку вдруг заслонило человеческое лицо. Юлька еще не различала всех его черт, но это было вполне реальное лицо. И чьи-то громадные серые глаза, наполненные слезами.
Соленая капля упала Юльке на уголок рта. Губы человека, склонившегося над ней, дрогнули, и знакомый Наташин голос сказал:
– Ну вот… будешь жить, Юлька!
И другой, мужской голос в отдалении:
– Теперь пусть спит. Не мешайте ей, пусть она спит.
Юлька уснула. Уснула, а не провалилась опять в темноту.
Она думала, что спала недолго – может быть, полчаса, час. На самом деле с того момента, как миновал кризис, прошло трое суток. Но об этом она узнала потом, а пока, прикрыв веки, вслушивалась в полновесные, отчетливые звуки, наполнявшие комнату, весь дом. Вот кто-то прошел по коридору, звякнули кольца штор – кто-то открыл окно. На карнизе застучал клювом о жесть воробей. Урчала за окном машина. Наверху уронили на пол что-то тяжелое, ложка в стакане на тумбочке отрывисто звякнула.
Юлька думала, что она откроет глаза и увидит Наташу. Но вместо Наташи к ней подошла медсестра со шприцем в руках. Даже боль от укола была радостной. И звуки, и вечерний свет из окна, и боль, и запах йода – все означало жизнь.
– К вам пришли, – сказала медсестра. – Но вы не должны разговаривать. Доктор сказал, что вам еще нельзя разговаривать…
Юлька, соглашаясь, прикрыла глаза. А когда она снова открыла их, возле кровати стояла Наташа, предупреждающе приложив палец к губам. Юлька улыбнулась.
– Потерпи еще денек, – сказала Наташа. – Завтра все узнаешь. Я расскажу тебе.
На стене погасли последние блики солнца. Включили свет, неяркий, ровный – горела одна настольная лампа. Юлька, не отводя взгляда, всматривалась в милое до боли Наташино лицо.
Когда Наташа ушла и Юлька осталась одна, она попыталась вспомнить, что же произошло с ней? Был цех, Чекмарев. Была лестница на третий этаж. Метель. Выдвинувшийся из тьмы вагон…
Но что дальше?
В палате Юлька была одна. Вместо обычной тумбочки сбоку стоял небольшой столик, весь заваленный пакетиками, заставленный бутылками с уже свернувшимся молоком. По одному этому она догадалась, что лежит здесь давно.
На другой день врач – длинный, худой человек – разрешил ей говорить. Но недолго, не утомляя себя.
И когда пришла Наташа, Юлька почувствовала, как много хочется сказать ей. Отдыхая после каждого слова, она спросила:
– Я давно здесь?
– Да. Ты здесь вторую неделю.
– Как там наши? – спросила Юлька. – Карусельный работает?
– Все в порядке.
Юлька глубоко и осторожно вздохнула. Она хотела спросить еще, нет ли ей писем от Гриши. Но Наташа сказала:
– Мы будем разговаривать так: я буду рассказывать, а ты показывай мне глазами, поняла или нет. Андрей нашел тебя у сортировочной горки и на руках принес в депо. Туда и скорую помощь вызвали. Тебя ударило.
– Да, возле самых путей, – подтвердила Юлька.
Наташа помолчала и сказала:
– Андрей почему-то себя виноватым считает. Так мне кажется.
Что могла сказать на это Юлька? Да, да, да… десять раз, сто, тысячу раз виноват! Виноват в том, что брал ее руки в свои, когда учил ее затачивать резцы; виноват, что встретился на острове, что нашел ее в заброшенном переулке; виноват, наконец, в том, что всегда, когда ей было трудно, он оказывался рядом…
Но сейчас она не могла так ответить Наташе. Все пережитое за минуты метели сделало Юльку старше. Она боялась, что Наташа не поймет ее, да и она-то сама не могла еще ответить себе: чего больше в ней сейчас – благодарности или обиды? Благодарности за вдохновение, за то, что поверила в себя?.. Или обиды?
Наташа не дождалась ответа.
– Знаешь, Юлька, если бы Мишка подавал вагоны на горку быстрее, не разговаривать бы нам с тобой…
На немой вопрос Юльки Наташа ответила:
– Он подавал платформы с лесом. Одна доска свешивалась, и тебя ребром…
Движением руки Юлька попросила не продолжать.
– Как у тебя с ним?
– Он сейчас на улице, – не сразу сказала Наташа.
– Сколько лет ты еще будешь держать его на улице?
– Иногда я готова сама пойти к нему, – тихо ответила Наташа. – А потом вспомню все – и не могу!
Юлька накрыла ладонью Наташину руку.
– Если придешь в следующий раз, позови Мишку сюда.
Наташа помолчала, слегка улыбнулась и уже совсем другим голосом сказала:
– А у Лизы сын! Человек с серьезным мужским именем – Игорь! Весит четыре кило и успел Алевтине испортить юбку. Алевтину не узнаешь. Нянька. Отпуск специально взяла. А впрочем, черт ее знает, к прокурору вызывали…
– Зачем?
– «Уголовное дело по обвинению Макаровой Алевтины Петровны в преступлении, предусмотренном статьей 107 УК РСФСР». Так и записано. Может, пойти к прокурору поговорить? Ушибленный она в жизни человек… – Наташа опять помолчала и добавила: – На той неделе ваши переходят работать в ночную, так что днем жди гостей.
…Сквозь громадное умытое окно в палату смотрел солнечный день. На столе стояли цветы. Кто их принес и где можно было достать в середине февраля живые цветы? Они стояли в стакане, и пожилая няня каждый день меняла воду.
Юлька осторожно опустила голову на подушку и тихо засмеялась.
– Ты чего, худо тебе? – тревожно наклонилась над ней няня.
Юлька отрицательно покачала головой.
– Нет. Мне очень хорошо. Замечательно! А один злой человек сказал, что я никому на свете не нужна. И я было поверила ему…
Она не договорила и подумала вдруг: «А если бы Чекмарев сейчас сказал мне эти страшные слова, а? Я бы не поверила ему… Разве только эти цветы сделали его слова нестрашными? Мол, вот приносят – значит, я нужна тем, кто приносит их. Или компот… абрикосовый с косточками?.. Или то, что ребята ко мне сюда приходят?.. Нет. Ой, нет! И сказать так он мог лишь оттого, что сам слабый и жалкий очень».
Няня ждала, что Юлька скажет что-то еще, склонялась к ней с тревогой, но Юлька молчала.
«Живут люди. Строят дом. Сегодня дом, завтра дом, послезавтра – опять дом. И все? И точка? Но это же не так…»
И Юльке казалось, что сейчас она найдет слово, очень важное слово. Перед ней вставали в каком-то смешении то лицо Андрея там, в депо, когда он что-то придумывал к приспособлению, то Жорка, то замаячило перед нею, расплываясь, полное ожидания, неуловимой тревоги и счастья лицо Лизы и залитые слезами ее глаза.
«Нет, – усмехнувшись, покачала головой на подушке Юлька. – Так не живут. Живут, когда не просто строят, а создают, создают все, к чему прикасаются. Дом. Паровоз. Хасановку… Человека – его создают тоже…»
В воскресенье пришли вдвоем Андрей и Жорка. Волнение охватило Юльку, как только она услышала в коридоре их шаги. А что это именно их шаги, она не могла ошибиться.
Стараясь не греметь сапогами, Андрей двинулся к Юльке, сел, одной рукой взял Юлькину руку, другой дотронулся до ее лица.
– Одни глаза остались… – сказал он.
Больше всего Юлька боялась заплакать.
– Я здорово подвела вас, – сказала она, неловко усмехаясь.
– Ты об этом не думай, Юля, – ответил Андрей. – Мы тебя ждем… Пусть он подтвердит, – Андрей кивнул головой на Жорку.
– Точно, – сказал Жорка. – Подпись А. Малахова заверяю…
Когда они ушли, Юлька все-таки заплакала.
Были у нее Сеня Лебедев, Бондаренко с Горпиной. Лиза забежала мимоходом, передала записку. Приходили люди, которых Юлька знала только понаслышке.
Долго просидела у нее учительница Нина Павловна. Она была так же причесана, в том же платье, в каком ее привыкли видеть на уроках, и с той же усталостью в темных глазах.
– Вы ничего не знаете обо мне, Нина Павловна. Два-три раза в неделю на уроке видите меня. А я вам сейчас расскажу о себе… Все расскажу.
Юлька рассказала о Дмитровском детдоме, о том, как провожала брата на службу и осталась одна. Рассказала о том, как ее впервые заставила задуматься о человеческих отношениях дружба Егорова с Наташей. Как умерла тетя Маша, не оставив после себя ничего, кроме предметов и вещей, необходимых только ей самой. Так Юльке показалось вначале. А потом, поразмыслив, она начала смутно догадываться, что человек – это не только то, что он после себя оставляет людям.
Юлькина откровенность нужна была ей самой. Она не смогла бы так говорить ни с кем другим.
Рассказывая, Юлька приближалась к месту, опасному, как узкая дощечка, переброшенная через весенний поток – к метели, к седой женщине, открывшей ей дверь квартиры на третьем этаже, к комнате Андрея. И она помедлила.
Она подумала: «Ну, хорошо – кофта Зинкина, кофта. А если ко мне придут и скажут (сам же Андрей скажет), что ничего страшного в этом нет? Допустим, я вошла в его комнату лишь через пять минут после Зинкиного ухода. Допустим, ей стало жарко, и она сняла эту кофту. А когда Зинка ушла, Андрей сам повесил кофту возле двери. Допустим! А это изменит что-нибудь? – И ответила сама себе: – Нет, не изменит!»
– Я шла в метель, Нина Павловна, не думала ни о чем и не понимала, для чего и зачем я иду. Мне казалось: я просто иду, и все. А сейчас я поняла: мне нужны были его глаза. Гаврила ударил меня в самое больное, и никого, кроме Андрея, я не могла и не хотела видеть. Ведь он вел и вел меня, тащил за собой все выше, я не искала у него утешения или подбадривания, но он мог сказать мне правду.
Юлька помолчала.
– Вы понимаете меня?
– Да, я тебя хорошо понимаю.
– Но это еще не все… – Юлька никогда еще ни про себя, ни вслух не говорила того, что сказала сейчас Нине Павловне, сказала раздельно и ровно, как о давно решенном и выверенном:
– Я люблю его, Нина Павловна. И что бы ни случилось, я все равно его буду любить… Я теперь смогу…
Нина Павловна долго смотрела в окно, за которым мерцали звезды и редкие дежурные огни.
– Я завидую тебе, – сказала Нина Павловна. – Не молодости твоей, нет. Ты, Юлька, говоришь о своей сумятице, а я завидую. Это зрелость твоя, самая настоящая человеческая зрелость, трудная и ранняя. Этому просто нельзя не завидовать. – Нина Павловна улыбнулась и добавила: – Человек рождается дважды.
2
В солнечный февральский день за Юлькой приехал Андрей. Из стеклянного большого окна вестибюля она видела, как у подъезда остановилась голубая «Волга» с шашечками такси и как он вышел из машины. Темно-коричневая кожаная куртка его была расстегнута, из-под нее виднелась белая рубашка с черным галстуком. Шапка сдвинута на самый затылок, на лбу – выбившаяся прядь темных волос. Он стоял посреди тротуара и смотрел вверх. У его ног лежали блики от никелированных колпаков на колесах «Волги».
Широкая улица поселка из окна просматривалась до самого Амура. Чернели на берегу перевернутые лодки, по ледовой дороге редкой цепочкой тянулись грузовые автомобили. За рекой, будто нарисованной голубой акварелью, вставал Хехцир. И стены домов, и сияющие солнцем окна, и два пестрых людских потока на тротуарах – все излучало свет.
Юлька всю жизнь будет помнить и этот февральский день, и улицу, залитую солнцем, и машину у подъезда. И то, как Андрей идет сейчас по широким каменным ступеням наискосок.
Она сделала ему навстречу шаг, другой… Спустилась на одну ступеньку… Там они и встретились.
До этого ей всегда приходилось смотреть на него снизу вверх, а сейчас, когда он стоял двумя ступенями ниже, его лицо было на уровне ее лица.
Так бывает: ты привык к человеку, он стал тебе дорог. Ты изучил его привычки. Ты знаешь, что его правое плечо чуть ниже левого, тебе знакома его манера резать хлеб, прижимая буханку к груди, и когда он берется за стул, ты знаешь, как он сядет, как будут лежать его руки. Но вдруг возникнет его лицо, обращенное прямо к тебе. И у тебя забьется сердце оттого, что резки морщины, опустившиеся от крыльев носа к широкому подбородку, что выгорели под солнцем кончики бровей, что открытый всем на свете ветрам невысокий лоб открыт и твоему взгляду, что от уголков глаз к вискам уже разбежались паутинки тоненьких морщинок. И еще оттого, что нет в этих глазах прошлой спокойной твердости. Теперь их трепет, полувопрос и надежда обращены к тебе.
– Я, кажется, немного опоздал, – проговорил Андрей. – Тебя уже выписали?
– Да, – сказала Юлька. – Меня выписали, но ты не опоздал.
И перед тем как спуститься к нему, она на секунду зажмурилась, а потом раскрыла глаза и, сама не зная почему, посмотрела поверх головы Андрея торжествующе и гордо, так, как может смотреть человек, долго взбиравшийся в гору и наконец поднявшийся на самую вершину.
Он взял ее под руку и спустился с ней по лестнице. И когда она вступила на тротуар, солнце и воздух, который горьковато, едва ощутимо, но уже пахнул весной, гул людских голосов, стеклянный шорох снега, шуршание автомобильных шин, чвиканье воробьев на карнизе больницы (такое звонкое, словно в горле каждого из них было что-то металлическое) – все это оглушило Юльку, и у нее начала кружиться голова.
Андрей усадил ее на заднее сиденье. «Волга» тронулась. Но после того, что Юлька пережила на ступеньках крыльца больницы, ей было тесно и душно в машине. Она сказала:
– Я так давно не ходила пешком.
Андрей внимательно поглядел на нее и, дотронувшись до плеча водителя, попросил остановить машину. Они медленно двинулись к перекрестку.
Показался поселок. По левую сторону от него открылась стройка. Но там уже ничто не напоминало о старой Хасановке: посередине пустыря над землей поднимался бетонный фундамент завода.
Когда взошли на крыльцо общежития, у Юльки от волнения перехватило дыхание. Она даже пошатнулась, и Андрей поддержал ее.
– Что с тобой?
– Да так… – попробовала улыбнуться Юлька.
Сколько раз она бралась за медную, сотнями рук отполированную ручку входной двери, делая это машинально, а вот сейчас…
Андрей, кажется, понял ее. Сильным движением руки он распахнул дверь. Юльку обдало теплым запахом жилья с чуть заметной примесью паровозной гари, которую всегда вносили с собой деповские, и она переступила порог.
Охваченная тревожным ожиданием чего-то нового, что она должна еще узнать, пошла Юлька по коридору, слыша за собой четкие шаги Андрея.
Свою комнату она охватила одним взглядом: конверт на тумбочке – письмо от Гриши. На двух табуретках возле Лизиной кровати – большая плетеная корзина: первая кровать маленького человечка. Юлька, затаив дыхание, приблизилась к ней. Ребенок спал.
Через несколько минут, когда вернется из детской кухни Лиза, Юлька узнает, что корзину, в которой лежит Игорек, достала Алевтина. Она тащила ее через весь город, потому что с такой ношей ее не пустили в битком набитый трамвай.
У Юльки никогда не появится любовь к Алевтине. Но придет такое время, и оно придет очень скоро, когда Юлька увидит в Алевтине не только женщину со злыми глазами, готовую на грубость, едва ей покажется, что кто-то посягает на ее права, на ее собственность. Юльке станет жаль Алевтину, страшно жаль, и в этой жалости будет что-то мягкое, слезливое.
Узнает она, что разобранную детскую кроватку, прислоненную к стене (Юлька ее сразу увидела, как вошла), сегодня днем принес Куракин. Лиза, пряча заалевшее лицо, скажет: «Он сам. Я его не просила».
Все это будет потом. А пока… за спиной Юльки снимает кожаную куртку и кашне Андрей, а Юлька стоит над ребенком, спящим в корзине для белья. Тень от его ресниц падает на щечки. Алевтина сбоку глядит на Юльку опасливыми, настороженными глазками. Юльке очень хочется потрогать ребенка, но она не смеет.
Теперь она знает, что написать Грише. Она напишет о том, как много солнца здесь в марте и как пахнет талый снег, как в старой бельевой корзине спит маленький человек и что у него длинные ресницы.
Ей захочется сказать брату, что она долго цеплялась за землю ее и его детства – Дмитровку, а теперь обрела новую, продолжающую дмитровское поле, такую же желанную и знакомую, всю, от тополей вдоль дороги, ведущей в депо, от ровного рокота механического цеха до лица человека, который пришел сегодня за ней в больницу.
Может быть, она и не сумеет так написать. Скорее всего не сумеет – громкими и бледными покажутся ей слова, потому что невозможно втиснуть в них солнце, запах весны, металлическое чвиканье воробьев на больничном карнизе, зеленые крапинки в глазах самого дорогого ей человека. И ту спокойную радость, которая вспыхивает всякий раз, стоит лишь вспомнить, что завтра утром по дороге, обсаженной пробуждающимися после зимы тополями, густым потоком пойдут деповские, и шаги, и голоса их будут царить над поселком.

ДРУГ МОЙ ОМГОЛОН
Повесть
Герману Яскевичу


Сколько лет прошло, а как сейчас помню: мы с коноводом Угрюмкиным чистили конюшню, когда к нам вошел старшина эскадрона Подкосов. Медленно и весомо ступая тяжелыми сапогами по подсохшему, избитому лошадиными копытами полу и сосредоточенно глядя на козью ножку, которую сворачивал из клочка газеты, Подкосов, не доходя до меня шага четыре, остановился, вынул из кармана гимнастерки свой видавший виды монгольский кисет и так же, не поднимая головы, расчетливо двигая крупными, загрубелыми пальцами, стал набивать козью ножку махоркой. Его сурово-задумчивый и словно чем-то придавленный взгляд из-под густых нависших бровей не предвещал ничего доброго.
– Вот так-то, браток, – сказал Подкосов глухим, надсаженным простудой голосом и, чиркнув спичкой, закурил.
Услышав голос старшины, лошади в конюшне зашевелились, а Омголон, у станка которого я стоял, тихонько всхрапнул. Повернув к нам свою черную, лохматую морду, он уставился на Подкосова блестящим глазом.
– Вот так-то, – сказал еще раз Подкосов, обращаясь не то ко мне, не то к коню, и сердце мое тревожно ворохнулось. Старшина, кажется, явился сюда с каким-то важным известием и не решался объявить его сразу. Это заметил и всегда молчавший Угрюмкин.
– Чего тянуть-то? Можа и не тянуть, – сказал коновод ворчливо, по-стариковски, но дубленое ветрами и солнцем лицо Подкосова осталось невозмутимым. По-прежнему думая о чем-то своем, он направился дальше по конюшне. Синяя лента дыма вязко тянулась за его плотной приземистой фигурой. «Что могло случиться?» – задавал я себе вопрос. К выезду на фронт мы с Угрюмкиным были готовы. Омголон на тренировках вел себя превосходно. Чем же был недоволен старшина? Хотелось спросить, но военная субординация не позволяла.
Я стоял не двигаясь, наблюдая за Подкосовым. В дневном полумраке конюшенного коридора отчетливо выделялась его широкая спина. И по мере того как она удалялась, все сильнее нарастало беспокойное движение лошадей. Вздергивая головы, постукивая копытами и фыркая, они по-своему, наверное, приветствовали старшину. А он, как генерал, принимающий парад, шагал торжественно и строго. Нет, серьезно, Подкосов в ту минуту напоминал генерала. Да и как ему не быть генералом этого «войска», подумал я, когда добрую половину стоявших у кормушек коней пришлось объезжать ему, этому точно вылитому из металла человеку с длинными, цепкими руками, строгим взглядом, который мог усмирить не одну строптивую лошадь.
Подкосов нигде не остановился. Пройдясь по конюшне из конца в конец, он вернулся к нам с Омголоном, и этого времени ему как раз хватило на то, чтобы выкурить козью ножку. Старшина растер между пальцев окурок, хотел швырнуть его себе под ноги, но, осмотревшись, бросил мне на лопату.
– Вот так-то, браток, – сказал он, обращаясь теперь уже прямо к Омголону. – Неказист ты, самый, можно сказать, плюгавый конь на конюшне, да еще толком не объезженный!
– Зачем вы так, товарищ старшина? – заступился я за Омголона.
– А то нет! Самый низкорослый, факт. Шерсть длинная и лохматая – тоже факт. Гриву постричь нельзя, потому как на загривке следы медвежьих когтей. Факт?
Мне ничего не оставалось делать, как только молча стоять и слушать.
– Факт! – наконец, не выдержав, вскипел я. – Но Омголон в этом не виноват. Вы же знаете, товарищ старшина, при каких обстоятельствах и кто повредил ему загривок!
Подкосов с удивлением взглянул на меня:
– Разговорчики, Коркин!
Я умолк. Вступать в пререкания со старшиной рядовому не положено. Тем более мне, молодому. Не прошло еще и двух месяцев, как я добровольцем пошел в армию прямо со школьной скамьи.
Да, Подкосова я сегодня не узнавал. Зачем он пришел? Зачем говорит так об Омголоне? Ведь он же сам, своими руками вынянчил и выходил этого молодого монгольского коня. Помню, с каким интересом я слушал его рассказ об этом. Потом, встречаясь со мной, он всякий раз подробно расспрашивал об Омголоне. А вот сегодня…
– Вот так-то, браток, – повторил Подкосов, обращаясь к коню. – Разве только что ты вороной масти. Черный. По ночам в разведку ходить с тобой не опасно.
Низкорослый, лохматый Омголон стриг ушами и, казалось, понимал все, что говорил ему старшина. Напряженно вытянув шею и косясь на него блестящим на свету выпуклым глазом, он беспрерывно двигал своими острыми ушами, время от времени помахивая хвостом.
– Жаль, конечно, что ты такой. Не видный. Боюсь, Шмотин того… забракует тебя, дружище, – неожиданно и с горечью закончил старшина.
– Как? Шмотин? – испуганно спросил я.
– Да, да, тот самый Шмотин, главный ветврач. Завтра в шестнадцать ноль-ноль комиссия по отбору лошадей. А ты как думал? Фронту нужны добрые кони.
Подкосов говорил что-то еще, отпустил какую-то шутку, очевидно, желая подбодрить меня, но я стоял, словно побитый. «Шмотин… Неужели Шмотин?..» Еще совсем недавно Подкосов говорил, что кони для фронта отобраны окончательно, что я поеду на фронт с Омголоном, а теперь Шмотин… Выходит, до этого старшина сам толком не знал, что и как.
С некоторого времени фамилия полкового ветеринарного военврача Шмотина не выходила у меня из головы. Первым назвал ее Подкосов, когда две недели назад Шмотин появился в полку. «Контуженный. Злой. Только что с фронта. С Пинских болот. Любит лошадей чистокровной буденновской породы». Этим, собственно, сказано было все. «Случись комиссия по отбору коней, прощай, Омголон», – еще тогда подумал я. Но Подкосов успокоил: кони для фронта отобраны. И вот завтра, в шестнадцать ноль-ноль…
Когда Подкосов ушел из конюшни, я рассказал обо всем Угрюмкину. Старый службист, всю жизнь пробывший в кавалерийских частях, он понял меня с полуслова.
– Н-да, конечно, – сказал коновод, поглаживая свою рыжую бороду. Потом подумал и заговорил о том, что не мешало бы еще раз как следует почистить Омголона, окоротить ему хвост, подстричь гриву, однако так, чтобы не обнаруживать рубцов затянувшейся раны. Угрюмкин принес ножницы, скребницу, конскую щетку, и мы, не говоря больше ни слова, принялись за дело.
Много хлопот причинила нам грива. Как только раздалось лязганье ножниц, Омголон дернулся, намереваясь встать на дыбы, и встал бы, не будь чембура, которым он был привязан к кормушке. И все остальное время, пока шла стрижка, конь вел себя беспокойно. «Это когда мы с Угрюмкиным, ты ведешь себя так, а что будет, когда к тебе подойдет Шмотин да еще хлопнет по загривку? – тревожно думал я, поглаживая Омголона щеткой. – Вот что натворил проклятый медведь».








