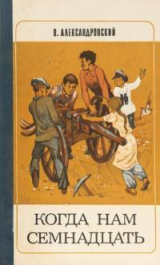
Текст книги "Когда нам семнадцать"
Автор книги: Виктор Александровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– Коркин? – спросил он устало.
– Так точно! – Я вытянулся в ожидании.
Вошел невысокого роста лейтенант с папкой в руке и протянул командиру бригады маленькую коробочку.
– Именем Верховного Совета Советского Союза, – четко сказал комбриг и, выйди из-за стола, раскрыл коробочку. – Одним словом, спасибо, Коркин, за службу! – С этими словами он подошел ко мне вплотную и сильными, жесткими пальцами приколол к гимнастерке медаль «За отвагу». Потом взял за плечи и, уже отпуская меня, сказал: – Майор Смирнов, объясните бойцу Коркину…
Помню свой обратный путь от комбрига. Я ехал на том же «виллисе», сжимая в руке приколотую медаль, и думал о Лорке. Это за нее мне… А она умерла. Умерла, спросив, как сказал майор Смирнов, перед смертью мое имя.
Милая, удивительная Лорка с чистыми, ясными глазами. Ученица одной из московских школ. Хорошо знала немецкий язык, играла в спектаклях на школьной сцене. Уйдя с подругами на войну, была зачислена в разведку при штабе фронта. С «той стороны», из-за речной поймы, Лорка принесла что-то такое, о чем срочно доложили Верховному командованию…
Самым трудным для девушки оказалось возвращение из вражеского тыла. Переходя реку, Лорка попала под обстрел немецкого патруля, была тяжело ранена и смогла уйти только под покровом ночи. Нечеловеческая боль, потеря крови и начавшийся жар изнурили ее настолько, что если бы не этот ночной ливень, она бы так и не смогла прийти в чувство.
Особенно трудно было Лорке говорить, не давало перебитое пулей легкое. Если бы заговорила, непременно бы умерла. А ей надо было обязательно прожить хоть немножко, чтобы рассказать командованию фронта обо всем, что накопила ее острая память за время пребывания в тылу у немцев. Она берегла каждый грамм своих растраченных сил. Что значил девичий стыд в сравнении с тем, что она несла для победы!
Мысль отомстить за Лорку не покидала меня с той поры, как я узнал о ее смерти. Мое состояние нетрудно понять. Я видел страдания Лорки, сам страдал за нее. Но что значит отомстить? Это, наверное, сделать что-то такое, чтобы враг запомнил тебя на всю жизнь, навсегда. Так я понимал тогда поставленную перед собою цель.
…Это было где-то уже под Ольховаткой. Пошли в разведку боем – на лошадях. Противник тщательно скрывал свои огневые точки, и только дерзким, неожиданным налетом можно было заставить его расшевелиться. Но перед нами ставилась и другая задача – разгромить офицерский блиндаж. По данным, которыми располагал Ложкин, он находился недалеко от позиций немцев, в сосновом бору, который хорошо просматривался из наших окопов. Моей мечтой было влететь в этот блиндаж первым. С каким наслаждением я забросал бы его гранатами!
Никогда прежде так тщательно я не готовился к бою, как в этот раз. Было проверено все, вплоть до саперной лопаты. Кто знает, как могло обернуться дело, мы ведь шли прямо на огонь.
Атака началась к вечеру, когда по небу протянулись красные полоски зари. Услышав команду, мы пошли полем, в разорванной топотом копыт тишине, вздымая серую, едкую пыль. Впереди, лихо размахивая клинком, скакал Ложкин. «Не так черт страшен…» – повторял я про себя его любимую поговорку и, честное слово, не испытывал никакого страха. Лишь бы вперед, лишь бы скорей офицерский блиндаж!
Но тут случилось непредвиденное. Из леса, где находился этот блиндаж, выскочила конница. Каким образом немцам удалось скрыть ее в сосновом бору и подготовить к контратаке – не знаю. Большая группа всадников на сильных конях понеслась нам наперерез.
Где-то на середине нейтральной полосы скрестились наши клинки. Дико захрапели разъяренные кони, раздался звон стали. Потом все это сгрудилось, смешалось, и я очутился в гуще боя. Видя пред собой только озверелые лица да дергающиеся лошадиные морды, я с силой посылал клинок на врагов и вдруг почувствовал легкость в руке. Клинок сломался почти у самой рукояти. Наверное, его удар пришелся по луке чьего-то седла. В одно мгновенье я был обезоружен. Эта мысль как молния пронзила меня насквозь. Я рванул повод, намереваясь выскочить из окружения, и тотчас увидел занесенную над собою саблю. Она опустилась, не задев меня, и в то же мгновенье я увидел падающего с седла румынского офицера. В него вцепился мой Омголон.
Свирепо скаля сильные зубы, лягаясь передними и задними ногами, Омголон рвал и метал с такой яростью, что вскоре вокруг себя я словно почувствовал пустоту. Враги растерялись под натиском монгольского коня.
Потом всей лавиной мы покатились вперед, я увидел Ложкина. Он все так же скакал на своем коне. Контратака вражеской кавалерии была отбита.
Мы скакали напрямик к лесу. Вот уже показалась линия немецких окопов. Еще один хороший рывок… И тут заговорила вражеская артиллерия. Заухало, загромыхало сразу со всех сторон. На опушке леса мелькнули багряные языки пламени. Взрывы пошли один за одним. Потом громыхнуло где-то совсем рядом, и я упал с Омголона. Мне кажется, в тот момент я перестал слышать и потонул в вязкой, расплавленной мгле…
Пробуждение было томительным. Я долго не понимал, где я и что со мной. Прямо над головой чернело небо, светились звезды, и холодок прохлады омывал лицо. Время от времени по телу пробегала мелкая, противная дрожь. Я понимал, что дрожала земля от далеких орудийных залпов.
Взлетела в небо ракета. Засветились линии трассирующих пуль, на мгновенье перечеркнув звезды. Затратив немало усилий, я повернулся на бок. Но что это? Передо мной темным силуэтом лежал человек. Я окликнул его, он не ответил. Я сказал ему что-то, и он снова промолчал. Когда я подполз к нему, то в ужасе отшатнулся. Предо мной лежал Карпухин, лежал как-то жалостливо, подложив под живот скрюченные руки. Правая нога его была оторвана, и под нее натекло много крови. Карпухин был мертв. Только сейчас я понял, где я и что со мной. Тошнотно запахло горелым человеческим мясом. Кто-то плаксиво зарыдал и вдруг затих. Припомнилась картина первых минут боя… Удалось ли взорвать офицерский блиндаж? Я снова впал в забытье.
Меня разбудило щекотание под подбородком. Потом кто-то жестко схватил за гимнастерку и поволок по земле. Я открыл глаза и снова долго раздумывал над вопросом: где я? На меня глядели два черных блестящих глаза. Омголон?! Не может быть, это, наверное, приснилось. Омголон?! Откуда он мог быть здесь?
Я, должно быть, вскрикнул, потому что конь испуганно отпрянул, но тотчас над ухом я услышал его шумное дыхание. Омголон!.. Мне казалось, что я потерял ощущение реальности. Нет, на небе по-прежнему сияли звезды, и невдалеке лежал убитый Карпухин. Я обнял лохматую голову коня.
Теперь я был не один в этой мертвой, зловещей тишине. Со мной был мой верный друг Омголон. Где он пропадал с той поры, когда на эскадрон навалились вражеские пушки, не знаю, но, оставшись живым, он пошел искать меня, и нашел среди этого хаоса!
Все еще не веря тому, что рядом со мной был Омголон, я приподнялся и стал ощупывать коня. Левая нога его была поджата, над копытом в мякоти сустава сидел осколок. Вынув кинжал, я подрезал на ноге кожу и вынул острый кусок металла.
Почувствовав облегчение, Омголон протяжно вздохнул. Теперь я уже действовал энергичнее. Нащупав в кармане индивидуальный пакет, я распечатал его и перевязал рану. Омголон послушно вытерпел «операцию».
Когда все было готово, чтобы идти, мы постояли с ним, вслушиваясь в щемящую тишину фронтовой ночи. Потом я подвел Омголона к месту, где лежал Карпухин, взвалил его на седло, и мы пошли.
Однажды, а это было уже, кажется, в середине сентября, меня вызвал к себе лейтенант Ложкин. Повязка на голове, которую он носил после памятной всем нам атаки, была снята. На лбу под пилоткой обнажился розовый рваный рубец.
Разведка боем принесла тогда малые результаты. Удалось только засечь огневые точки противника, а офицерский блиндаж так и остался невредимым. Однако Ложкин имел на этот счет свое особое мнение. Еще лежа в санбате, когда мы пришли его проведать, он, вспоминая атаку, воскликнул: «Молодцы, ребята, сдюжили!» И этим, собственно, было сказано все.
Усадив меня на снарядный ящик возле входа в блиндаж и усевшись напротив, Ложкин спросил:
– Ты какой язык изучал в школе, Коркин?
– Немецкий, – ответил я.
– Так чего же ты молчал!
Ложкин так обрадовался и повеселел, что мне пришлось тут же объяснить ему, что иностранные языки изучали мы плохо, все больше на математику да на физику нажимали. И что, в общем, немецкого языка я не знаю.
– Но слова-то хоть помнишь? – упавшим голосом спросил лейтенант.
– «Вас ист дас?..», «Шпрехен зи дойч?..», «Хенде хох!» – с улыбкой стал перечислять я ходовые немецкие выражения.
– Это-то и мы знаем…
Ложкин был окончательно разочарован.
– Нет, Коркин, скажи, почему ты все-таки немецкий язык плохо учил? – немного погодя, снова принялся укорять меня Ложкин. Я молчал, смущенный его словами. – Ладно, все равно что-нибудь знаешь… Обязан знать, – добавил лейтенант, решительно встал и повел меня в окоп на передовую. Стоявшего у стереотрубы Свенчукова он попросил отойти в сторону и сам, плотно пристроившись у «глазка» прибора, долго и внимательно рассматривал какую-то точку на местности.
– Вон смотри, высотка… – Лейтенант жестом приказал мне занять место у стереотрубы. – Видишь? Или нет? Чего молчишь?
– Вижу, – ответил я, не находя в этой высотке ничего особенного. Потрепанная в боях наша стрелковая бригада стояла уже пятый день в обороне, и высотка за траншеями противника, на которую обратил внимание Ложкин, была всем нам знакома. С нее хорошо просматривались наши позиции.
– Так вот, Коркин, – выкурив папиросу, снова заговорил Ложкин. – На этой высотке должен обязательно быть наблюдательный пункт противника. Понял, разведчик?
Понимать тут особенно было нечего, я утвердительно качнул головой.
– Эх, Коркин, Коркин! Ну, почему же ты плохо знаешь немецкий язык? – еще раз сказал лейтенант и ушел, так и не объяснив мне, зачем ему понадобились мои познания в немецком.
Упрек Ложкина я понял потом, спустя двое суток, когда уже находился на этой высотке, в тылу у немцев. Скрытый в кустах, я лежал на каменистой земле, держа в руках телефонный шнур, от которого шел проводок к моим наушникам.
– «Штилль, штилль… Натюрлих», – вслушивался я в спокойную немецкую речь. Говорили двое: один – лежа на вершине высотки, другой – где-то там, в глубине немецких позиций, где стояли, прицелясь стволами на нашу оборону, их дальнобойные орудия.
Шел пятый час утра. Низко нависшие тучи мешали рассвету. Но он должен все равно наступить и тогда…
Ложкину удалось «забросить» меня и девчонку-переводчицу из штаба сюда еще с вечера. Я не представлял, где и когда проскользнул между немецких окопов. Меня и переводчицу «вели» саперы. В темноте, при слабеньком свете новорожденной луны, я видел перед собой только каблуки чьих-то сапог, и они служили мне ориентиром…
С вечера, подсоединив телефонный аппарат к этому проводу, попеременно с переводчицей я слушаю спокойную немецкую речь. Да, она очень спокойна. Немцы уверены в точности попаданий своих орудий, ведь на вершине высотки их корректировщик. Возможно, он не один, их несколько, и для того чтобы обезопасить нас с переводчицей, рядом, в кустах, лежит Свенчуков, а чуть повыше еще несколько наших ребят. Они подадут мне сигнал, если по линии вдруг захочет пройтись немецкий связист. Тогда два раза чирикнет вспугнутая птичка, и мы с девчонкой должны быстро отползти от провода.
Но пока все спокойно. За ночь только один раз прошел немецкий связист. Спокойна и немецкая речь. Один из тех, что на вершине, пробует даже острить. Из набора немецких слов я понимаю наконец, что есть на свете бог, это немецкая артиллерия, а над этим богом еще бог, который лежит сейчас на вершине горы. А может, он не лежит, а сидит, удобно устроившись в окопчике? Конечно, сидит, он много раз произнес слово «зитцен» – сидеть.
К тому, кто внизу, я и переводчица прислушиваемся особенно внимательно. Он должен обязательно проболтаться о начале атаки, и тогда по рации Свенчуков передаст условный знак нашему штабу. А может, атаки со стороны немцев не будет? Хорошо, если бы не было, приданный нам артполк не успел еще развернуться. Но если все-таки атака, мы должны упредить ее. Не немцы, а мы первыми начнем артобстрел, чтобы спутать им карты. Поэтому от нас с переводчицей зависит сегодня многие…
Старшим в этой двойке я, хоть знаю немецкий язык в сто раз хуже девчонки. Но она совсем еще не «обстреляна», первый раз на задании и может от страха что-нибудь напутать. Поэтому-то я и вслушиваюсь в немецкую речь, «изучаю» ее, стараясь вникнуть в смысл.
Девчонка мне явно в тягость. Когда начнем уходить, мне поручено ее охранять и доставить в штаб бригады. Это единственная «ученая» переводчица среди многих нас, «слухачей». Имя ее Светлана. Тоже, как и Лорка, закончила десятилетку в одной из московских школ, поступила в институт иностранных языков. Но куда ей до Лорки! Совсем еще «зеленая». Наушники дрожат в ее чуть видных в темноте руках. А немецкий язык знает отлично. Особенно разговорную речь. Вот бы мне так!
…Сейчас, когда после войны прошло столько лет, рассказывать об этом просто. Но что было тогда… Я не говорю о задании, оно было выполнено, Светлане удалось «выудить» из телефонного провода время начала немецкой атаки, и Свенчуков об этом радировал штабу. Но потом нам пришлось трое суток добираться до своих. Эх, если б я был один, не было б этой Светланы, а я бы знал немецкий язык!
Голодный, оборванный, уцелевший прямо каким-то чудом, явился я в расположение своей бригады.
«Где Омголон?» – было первым моим вопросом к кому-то из солдат. Но в ответ я ничего не услышал. Здесь только что прошел бой. Спотыкаясь об изрытую снарядами землю, я побежал в лощину, где было, устроено укрытие для лошадей – старый саманный сарай. Но то, что я увидел, привело меня в смятение. На самом солнцепеке, облепленный мухами, лежал убитый Угрюмкин. Чуть дальше валялись трупы других коноводов и убитые лошади. А Омголон, мой бедный Омголон, покрытый полчищами огромных фронтовых мух, метался в засаде – выход из сарая был завален взрывом.
Он узнал меня сразу, хрипло и радостно заржал и стал бить копытами о землю.
Он исхудал, взгляд его сделался диким. В сарае было все изгрызано его острыми зубами. Как он хотел есть и пить! Но Омголон жив, и это было для меня главным!
Угрюмкина надо было захоронить, я это понимал. Но сейчас, на жаре, когда рядом со мной находился голодный, истерзанный, лязгающий зубами от голода Омголон, я едва ли мог думать о чем-то другом. Прежде всего надо было накормить моего верного коня. Ведь он с такой надеждой ждал меня четверо суток. Воды я ему принес, вода была рядом в овраге. Но где взять корм?
Я огляделся. По земле словно прошел зловещий огненный вал. На далекое расстояние вокруг все было выжжено, исковеркано. Походный склад, где коноводы хранили овес и сено для лошадей, был сметен с лица земли. Попытка найти здесь хотя бы клочок зеленой травы, на которую можно вывести Омголона, казалась сейчас просто смешной.
Но трава была. Зеленая, сочная луговина, несмотря на сентябрьское дыхание, точно вот она, здесь, стояла перед моими глазами. И это не мираж. Когда, спасаясь от преследования гитлеровцев, я переходил нейтральную полосу, видел вдали эту луговину. Ее не сожгло степное солнце, не опалил огонь снарядов. Посередине нежной зелени синело небольшое озерко.
Возле трупа Угрюмкина стояла телега. На ней лежала лошадиная сбруя и крестьянская коса, которой подкашивал сено этот заботливый человек. И чем больше я смотрел на приготовленную коноводом утварь, тем ярче перед моими глазами рисовалась, сияя красками летней зелени, эта луговина.
Запрячь Омголона было делом пяти минут. К телеге он был уже немного приучен.
– Трогай! – крикнул я, запрыгивая в телегу, и конь понес меня по изрытой земле. За моей спиной раздались выстрелы из пистолета, наверное, нас пытались остановить, но в ту минуту я не обратил на них никакого внимания.
Когда мы домчались до луговины, я, не распрягая коня, схватил косу и, смотря только на нее, на ее сверкающую в движении сталь, широкими замахами пошел по траве. И вдруг я увидел справа от себя немецкие окопы. Леденящий душу ужас прошелся по мне. Луговина шла как раз посередине нейтральной полосы.
Немцев, конечно, ошеломило мое внезапное появление. Я слышал, как в их окопах раздалась громкая гортанная речь. Из-под руки мне были видны зашевелившиеся стекла стереотруб. Потом раздался треск репродуктора, и в тишине над степью веселый голос чеканно произнес: «Гуд, русс, гуд. Карашо. Пра-даль-жай!»
Я понимал, что на меня нацелены десятки автоматных стволов, что вот сейчас, сию минуту могут раздаться залпы. Но чем больше я об этом думал, тем злее становились мои руки, они точно наливались свинцом, подавляя страх перед смертельной опасностью.
Залпы не раздавались. Снова прохрипел репродуктор, и под хохот пришедшей в себя немчуры я услышал сказанное раздельно по буквам бранное русское слово. Оно было повторено, это слово из трех букв, с добавлением немецких ругательств. А я продолжал косить. За моей спиной образовался уже довольно длинный валик душистой травы. Пьянящий дух ее резанул мне ноздри, когда я понес первую охапку в телегу. Потом понес вторую… До сих пор не могу объяснить того состояния, которым был охвачен я весь в тот момент. Тут было и презрение к смерти, презрение к врагу и какая-то дикая юношеская лихость. Я должен был во что бы то ни стало накормить Омголона.
Уже потом, на исходе дня, когда я копал могилу Угрюмкину, я понял, почему немцы не хотели уничтожить меня сразу. Они готовили этот момент с тем наслаждением, какое испытывает, наверное, садист, терзая свою жертву. Что просто выстрелы по исхудалому коню и доведенному до отчаяния русскому парню? Ну, убили бы того и другого, как убивают тысячи. Они терпеливо ждали, когда я набросаю в телегу целую гору травы, когда, воткнув в нее косу, сяду на эту траву и взмахну вожжами. Тогда можно будет не десятками, не сотнями пуль из автоматов, а всего лишь одной-единственной разрывной из снайперской винтовки заставить кувыркнуться кверху ногами русского солдата. Как это мило и смешно, доннер веттер!
Они так и сделали, послали пулю, когда я, взявшись за вожжи, понужнул Омголона. Я слышал ее шмелиный пролет за ухом. Но кувырканья не вышло и смеху тоже. Промахнулся снайпер-фашист.
Не вышло и тогда, когда в ход пошел миномет. Несколько облаков взрывов взметнулись перед нами, когда телега неслась по лугу. Но не получилось у гитлеровского минометчика. Ах, доннер веттер!
Когда заработали немецкие пулеметы, мы с Омголоном были уже за бруствером наших траншей. Я слышал бешеный натиск пуль. Но Омголон с жадностью ел траву.
В середине октября сорок второго мне пришлось надолго расстаться с Омголоном. Случилось это вот при каких обстоятельствах.
Перед нашей разведывательной группой была поставлена задача достать «языка»-офицера. Трое суток мы вели подготовку, изучали оборону противника, а на четвертые в ночь пошли.
Нас было трое: я, Свенчуков и еще один боец из нашего взвода. Уже не один шрам имели мы под нашими полинявшими гимнастерками, не одну контузию пережили. Но живы остались, окрепли в боях. Не так ведь черт страшен!..
Стирала война в памяти события, словно сплющивала их, превращала в крохотные пылинки, и они как бы сами собой исчезали. Но Лорку я помнил всегда. Она была тем талисманом и той светинкой в груди, которые несли мне удачу. И всякий раз, идя на задание, я давал клятву отомстить за нее. Эх, война, не оставила даже фотографии Лорки!
Было так и на этот раз: шли, оставив лошадей коноводам, тревожились за то, как пройдет операция. Когда перебрались через линию фронта, пошли к немецкому штабу. Неслышно сняли часового. А когда приготовились ворваться в штабную землянку, в дверях появился офицер. Он выстрелил первым. Пулей из парабеллума мне раздробило челюсть.
Меня отправили в глубокий тыл, в госпиталь под городом Череповцом.
Никогда не забыть письма, которое получил я там от матери.
«Родной ты наш сынок, Алеша, – старательной рукой писала она. – Как ты там на фронте? Как здоровье твое, где спишь по ночам, чем тебя питают? Мы все хотим о тебе знать, а ты только про коня пишешь…»
Эх, знала бы мать…
Мое возвращение из госпиталя было, можно сказать, досрочным. Не смог я больше двух месяцев вынести без Омголона. Виноватый, с забинтованной головой явился к начальнику бригадной разведки и рассказал, как изнылась моя душа. Одним словом, добился. Оставили меня сначала на хозяйственных работах, а в конце декабря сорок второго нас, конников, направили на Ленинградский фронт.
По прибытии в город Тихвин нас снарядили к озеру Ладога на участок Войбокало. По тонкому льду на лошадях мы должны были пробиться к блокированному Ленинграду. Мать накануне прислала письмо и снова огорчалась, что я по-прежнему пишу им с отцом только о коне. Смеялась, видать, и плакала, когда корила меня. Доброе-доброе и такое непонятное ты, материнское сердце!
Ладогу форсировали ночью. По льду в глубь озера с интервалом полкилометра были расставлены дорожные посты – девчата в полушубках и валенках. В руках они держали зеленые фонарики. Вот по этой, чуть приметной на льду зеленой пунктирной нитке мы и пошли на своих лошадях.
Омголон, выйдя на лед, сначала остановился и к чему-то долго принюхивался, пуская из ноздрей тугие струи зимнего пара. Потом стал копытами бить по льду. И только немного успокоившись, задумчиво повернул ко мне свою лохматую в белом куржаке голову, качнул ею: пошли, мол, Алешка…
Шел он по льду осторожно, словно чувствуя под собой всю таинственную неизвестность ладожской воды. Давал обгонять себя другим коням, и уши его, ни днем ни ночью не имевшие покоя, «стригли» на этот раз особенно активно.
И вот тут-то и произошло то, что заставляет меня всякий раз, когда я рассказываю, остановиться и, может быть, не закончить рассказ… На середине пути нас начали бомбить немецкие самолеты. Налетело их сразу огромное множество. Бомбы, вонзаясь в тонкий озерный лед, взрывали его, то там, то здесь поднимая огневые сполохи. Группу конников как-то враз разбросало.
Оставшись в одиночестве, я спрыгнул с коня и сразу почувствовал под ногами воду. С каждым шагом она ползла все выше по валенкам и наконец добралась до колен. Ступни ног и икры охватило ледяным ожогом, и куда ни посмотри – всюду волновалось, гудело, ослепляя светом смерти, колышущееся водное царство. А под ним – изрешеченный бомбами лед. Куда идти?..
Стоя по колено в воде и держа в руках повод, я с надеждой смотрел на своего коня. А он, как всегда, проявляя свое мудрое спокойствие, неторопливо дотрагивался губами до воды, словно шептался с ней. Потом повернул ко мне голову. «Пошли, только строго следуй за мной», – как будто говорил он всем своим видом. И мы побрели в ледяной воде. Омголон – впереди, я – чуть сбоку от него, крепко держась за повод.
Иногда мой конь оступался, падал, фонтаны брызг осыпали шапку, полушубок, рукавицы. Потом стал оступаться я сам, туго натянутый повод от коня выволакивал меня из воды. А декабрьский мороз не зевал. Он тут же на лету сковывал и без того мои неловкие движения.
Идти становилось труднее. Не знаю, сколько времени продолжалось это изнурительное шествие по Ладоге. Ноги мои онемели настолько, что я даже не почувствовал, когда мы вышли из воды и продолжали шагать уже по каменистой кромке берега. Только шаг мой становился теперь еще замедленней, и наконец я уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Мороз окончательно меня сковал. Сковал всего, с головы до ног. Наверное, я походил на ледяное чучело, на которое страшно было смотреть. Мне стоило больших усилий держаться на ногах.
Вдоль берега шел высокий бугор. В рассеянной мгле утра я видел его снежную вершину. Возможно, за бугром, далеко или близко от нас, находились люди, и они бы помогли нашей беде. Но я не видел людей. Для этого надо было взобраться на бугор. А как? Что мог сделать я – недвижимое ледяное чучело? Но к моей правой руке примерз повод от Омголона. И вот, отдавая последние силы, вонзаясь копытами в мерзлую землю, конь потащил меня наверх.
Иногда он останавливался, тяжело отдуваясь, и тогда, весь обросший сосульками, он вызывал во мне чувство глубокой жалости. Но чем я мог ему помочь?
Собрав последние остатки сил, отчаянным рывком Омголон наконец вытянул меня на вершину бугра. Несколько минут я лежал ошеломленный и недвижимый, глядя в пепельное небо, по которому проползали какие-то белые струи. Сначала я не понимал, откуда они. Потом увидел раздувшиеся ноздри Омголона, его широко расставленные обледеневшие ноги, вытянутую шею и злые, устремленные на меня глаза. Конь дышал часто и трудно, он, конечно, не понимал, отчего я лежу. Мои попытки подняться были вялы и беспомощны. Опираясь всем туловищем на натянутый повод, я стремился подогнуть ноги, чтобы хоть немного привстать и осмотреться, где мы и куда мы с Омголоном попали, а ноги, как отяжелевшие в воде чурки, не хотели поддаваться никаким усилиям.
Наконец мне удалось дотянуться до шеи коня, и какое-то мгновенье, повиснув на поводу, с трудом разомкнув заиндевелые ресницы, я мог смотреть вокруг себя. Но то, что я увидел, окончательно привело меня в смятение. Туманная даль Ладоги расстилалась и слева, и справа, и впереди, и только снег, выпавший недавно и заметно выделявший береговую часть пространства, как бы подтверждал, что мы с Омголоном находимся не на льду, а на суше. Но где здесь хоть что-нибудь, пусть самое малое, что бы доказывало присутствие в этих местах живого?
Омголон, очевидно решивший, что я уже могу идти, дернул повод, и этого оказалось достаточно, чтобы я потерял точку опоры. Я упал как-то сразу, всем телом, ударившись о землю, и тут же потерял сознание.
Много ли, мало времени прошло с того момента, трудно сказать, но когда я снова открыл глаза, то почувствовал, что не лежу на месте, а кто-то медленно тащит меня по снежному полю. Это был мой верный конь. Напряженно вытянув шею, упираясь обледеневшими копытами в мерзлую землю, спотыкаясь и падая, он изо всей силы тянул повод, припаянный морозом к моей правой руке. «Куда же ты меня тащишь?» – хотелось спросить Омголона, как друга, как человека, сказать ему еще, что я ни в чем перед ним не виноват. И он, наверное, нашел бы способ ответить мне, по крайней мере так мне казалось в тот страшный, трагический момент.
Однако я точно онемел на морозе, не мог произнести ни звука, чтобы хоть как-то привлечь внимание коня.
Иногда, остановившись и приподняв голову, Омголон прислушивался к чему-то, тревожно стриг ушами и, постояв немного, снова принимался за свое нелегкое дело.
Или конь уже выбивался из сил, или перед нами появилась возвышенность, этого я не мог тогда понять, но Омголон, сделав очередную остановку, простоял на этот раз необычно долго и, когда затем, потянув повод, поволок меня, он делал это с необычайным напряжением. В его усталых и словно опухших от наморози глазах ничего не было видно, кроме страшного отчаяния. Вдруг он упал. Это лопнул повод, соединявший нас. Омголон дико заржал, вскочил на ноги, сделал попытку пробежать по снегу, потом вернулся ко мне и вдруг неуверенно, оступаясь, побежал прочь. Начинавшаяся поземка скрыла его из виду.
Это походило на предательство. Сознание того, что я остался один умирать в этой ледяной безмолвной пустыне, острой болью прошлось по сердцу. В глазах у меня потемнело, я впал в какое-то состояние небытия.
Очнулся я уже в лазарете.
Наверное, жар которым все эти дни была придавлена моя голова, отхлынул сразу, потому что я как-то вдруг увидел огонь в печурке посередине большой комнаты, наполненной густым храпом и шумным дыханьем крепко спящих людей, и девушку-медсестру в полушубке, бросающую в печурку дрова, и серый мрак, разлившийся в комнате. Девушка сидела ко мне боком, тихонько напевая что-то протяжное, и я увидел ее сразу всю, от непомерно больших валенок на девчоночьих ногах до челочки русых волос непокрытой головы.
– Пить, – попросил я девушку. – Попить можно?
– Можно, можно, солдатик, – с готовностью откликнулась медсестра и принесла мне кружку с водой. – Бредил ты, солдатик, ох, как бредил, – начала девчонка. – Все какого-то Омголона вспоминал. Дружок твой, что ли?
– Омголон?! – не ответив медсестре, я соскочил с койки, и вид у меня был, наверное, такой сумасшедший, что девчонка невольно хихикнула.
– Ты куда, солдатик, собрался? Ложись, ложись, – приказала она уже начальственным тоном.
Но в тот момент я не выполнил бы, наверное, приказа даже самого генерала. Мне надо было увидеть Омголона, припасть к его голове и просить, просить прощения. Было ясно, что это он спас меня от смерти. Как выяснилось потом, ему удалось добежать до солдат обогревательной службы, в задачу которых входило встречать всех, кто идет на помощь блокадному Ленинграду. Омголон привел их ко мне. Не теряя времени, они принялись прикладами винтовок сбивать с меня лед, а потом отнесли в лазарет.
– Принеси мне валенки и полушубок, – потребовал я от медсестры.
– Товарищ боец!.. – взмолилась она. Но вид мой и тон заставили ее быстро принести мне одежду.
Уже выйдя с медсестрой на мороз, я объяснил ей, что Омголон – это мой конь, с которым мы вместе воюем и что я люблю его больше своей жизни.
– Конь? – почему-то переспросила девчонка.
– Да, конь, – сказал я. – А что?
– Так тут есть чей-то конь.
– Где он? Где, спрашиваю?
Девчонка не ответила. Крупно шагая по снегу, она привела меня к какому-то разрушенному строению, и когда, чиркнув спичкой, я вошел под его каменные своды, оказалось, что это старая часовня.
Омголона я увидел сразу, но не поверил глазам своим, что это он. Предо мной на соломе из-под матрацев, низко опустив вытянутую шею, лежало животное со впалыми боками.
– Омголон!
Услышав мой голос, конь медленно поднял голову, повел ноздрями, хотел заржать, но из груди его вырвался хрип.
– Омголон!
Я встал перед конем на колени и схватил его лохматую голову. Девчонка подожгла лучину и стала светить мне. Глаза Омголона были грустными. Я ощупал его ноги, суставы походили на крупные шишки.
– Почему вы его не кормили? – закричал я на медсестру. Она поднесла лучину к полу, и рядом с Омголоном я увидел хлебные корки.
– Всем лазаретом откладывали от паек. А пайки сам знаешь какие, солдатик, – вздохнула она. – Да он и это не ест. Болен.
– Почему не вызывали врача?!
Я, должно быть, снова закричал, потому что лучина в руках девчонки вздрогнула, и она ответила не сразу:








