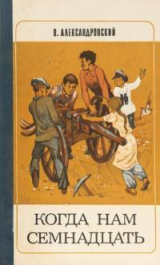
Текст книги "Когда нам семнадцать"
Автор книги: Виктор Александровский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
…О том, как это случилось, существовала целая легенда, рассказанная мне Подкосовым. В первый год Великой Отечественной войны один из госхозов Народной Монголии выделил в подарок фронту коней. Отобрали из табунов лучших, приставили арата, и тот погнал их через Забайкальские горы. В табун попал и Омголон – трехлетний конь вороной масти. Был он среди других лошадей самым непослушным. Еще бы! На нем ни разу никто не сидел верхом. Хлесткая петля урги коснулась его упругой шеи всего лишь один раз, когда стали отлавливать коней в табуне. С самого рождения Омголон жил в родной Хангайской степи, деля радости и невзгоды с такими же, как и он, лошадьми вольного табуна. И вот наступила иная пора.
Стояла морозная, снежная зима. Над степью проносились сильные ветры. Но, несмотря на холод, на снег и ветер, пока шли степной стороной, Омголон свободно добывал себе корм копытом из-под снега, резвился, но от табуна не отставал.
Кончились горы, пошли леса. Снег стал глубоким, доставать траву стало труднее. И Омголон заскучал. Понуро опустив хвост, нехотя брел он за табуном, и только свист и щелканье арапника, нет-нет да раздававшиеся над его ухом, заставляли вздрагивать и мчаться вперед.
Однажды Омголон отстал слишком далеко. В сумерках зимнего дня постепенно скрылись табун и тропа. Конь остановился, вслушиваясь в подозрительные шорохи леса. Однако пустой желудок требовал своего. Чтобы утолить голод, Омголон стал срывать с деревьев мох, потом, поднимаясь на задние ноги, обгладывал ветки. И тут на него с ревом набросился медведь-шатун. Ухватив когтистой лапой шею коня, могучий зверь повалил его на землю, стремясь сломить своей жертве шейные позвонки.
Казалось, участь Омголона была решена, но в жилах монгольского коня текла кровь диких скакунов, умевших постоять за себя. Опрокинувшись на спину и бешено крутясь на земле, Омголон с храпом и визгом стал кусать наседавшего медведя, стараясь сильными ударами ног отбросить его от себя. Меткий удар острого копыта оглушил хищника. Он повалился в снег. Конь вскочил и пустился догонять табун. Из разорванного загривка по шее стекали струйки крови.
Когда я смотрел на рваную рану Омголона под гривой, то вспоминал, сколько хлопот она принесла Подкосову.
Омголона, как явно бракованного, отделили от остальной партии монгольских коней и отправили не на Запад, а на Восток, где в глубоком тылу формировались новые воинские подразделения. Так он попал на Амур, в одну из стрелковых бригад.
Больного коня поместили в старом низеньком сарае с небольшим окном. Когда Угрюмкин открывал туда дверь, чтобы налить, в корыто воды и подбросить овса, черный конь отбегал в дальний угол и тотчас принимал воинственную позу.
– Что я тебе, медведь, что ли? – мрачно острил Угрюмкин.
Все чаще коновод замечал, что овес остается несъеденным. А главное, конь ни за что не подпускал к себе человека.
Когда в сарай пришел ветфельдшер, чтобы осмотреть кровоточащую рану на загривке коня, тот так отчаянно залягался, что фельдшер вынужден был уйти ни с чем и доложить об этом начальству. Тогда-то и пришел старшина эскадрона Подкосов.
Опытный кавалерист, участник боев на Халхин-Голе, он хорошо знал повадки монгольских коней.
– Вот так-то, браток, в темницу, значит, тебя заточили, – сказал он, войдя в сарай. И долго стоял возле коня, пока не выкурил козью ножку. – Конечно, откуда тут аппетит? Да и к овсу ты не приучен. Не те, браток, запахи, вкус не тот. Тебе бы степной травы, верно? А ну, валяй! – вдруг решительно произнес Подкосов и настежь открыл дверь.
– Ты что? Да ты чего? – замахал руками Угрюмкин.
Но старшина был неумолим.
– Валяй, говорю! – приказал он коню.
Вороной конь пулей вылетел на рыхлый снег и радостно заржал. Не прошло и минуты, как он уже мчал во весь дух по улице, только развевалась лохматая грива. Он привел в бешенство поселковых собак. И вскоре исчез в белом вихре снега.
– Просил не поминать лихом, – мрачно съязвил Угрюмкин и ушел.
А Подкосов, не теряя времени, направился в конюшню, оседлал своего серого в яблоках иноходца и помчался тем же путем.
Вороного коня он нашел на косогоре за околицей. Сбивая копытом снег с промерзшей земли, конь с наслаждением выщипывал прошлогоднюю траву.
– Так я и думал, – рассмеялся старшина. Он дал коню возможность спокойно пастись весь остаток дня. А вечером, выехав на своем иноходце, поймал «монгола» самодельной ургой и водворил в конюшню.
Надеть на коня уздечку с трензелями для бывалого кавалериста не составило особого труда. Сложнее оказалось осмотреть рану. Стоя на привязи, конь по-прежнему брыкался, не подпускал человека на близкое расстояние. Но это отчасти и смешило Подкосова.
– Монгол, чистейшей породы монгол, – потешался Подкосов, наблюдая за тем, как лягался вороной конь. Стоило Подкосову сделать к нему шаг-другой, как конь немедленно поворачивался и, подогнув заднюю ногу в колене, «стрелял» копытом, точно пулей. – Так и надо степному коню, – одобрял действия «монгола» Подкосов. – Нападет, скажем, волк, бей его в черепок сразу, насмерть! Ты ведь и спишь по ночам стоя, и уши во сне держишь навострив. Так, правильно делаешь, – приговаривал Подкосов, а сам размышлял, как бы к нему подступиться, посмотреть рану под гривой.
Задача сначала состояла в том, чтобы суметь схватить коня за «стреляющую» ногу. Для этого надо было прежде всего проявить изрядное терпение. Приблизившись к коню на безопасное расстояние, Подкосов присел и стал ждать, пока конь «отстреляет» положенное.
– Ярый ты, ох какой ярый, – приговаривал старшина и, выждав момент, схватил ногу коня мертвой хваткой. – Вот так, ярый, так. Теперь я положу тебя на лопатки, – спокойно сказал он и рассмеялся: – А ведь тебе, браток, самое верное имя – Ярый… Постой-ка, постой, а как это по-монгольски? – Старшина на минуту задумался: – Омголон! Ну да, Омголон… кажись, так… Мы тебя теперь и станем называть: Омголон.
С этими словами Подкосов сдернул с плеча веревку, набросил ее на задние ноги коня и крепко их стянул. Теперь можно было вызывать ветеринара.
Удар медвежьей лапы пришелся как раз посередине загривка, и ветфельдшер подозревал повреждение сухожилия.
– Вероятно, не сможет поворачивать голову направо, – сказал он. – Что ж, определим на хозяйственные работы, в тыл.
– В тыл?.. Да с таким конем в бои ходить! – категорически возразил Подкосов.
Он помог ветеринару промыть и зашить рану и заявил, что берет Омголона под свою ответственность.
С той поры Подкосов почти не расставался с монгольским конем. Встав спозаранку, он спешил в конюшню, стреноживал Омголона и, напоив его свежей водой, которую приносил с собой в ведре, отводил на выпас. Закончив все дневные дела, он мчался на иноходце туда, где гулял его подопечный, и тот встречал его тихим ржаньем.
Потом отпала необходимость стреноживать. Омголон сам уходил на заснеженный луг и возвращался оттуда к вечеру. Подкосов терпеливо приучал его есть овес, конь позволял чистить шею скребницей и щеткой. Был у старшины какой-то особый нюх на коней: никогда он не ошибался в них. Не сделал ошибки Подкосов и на этот раз. С весенними днями, как только затянулась рана на загривке «монгола», он оседлал его.
Трудно передать мое состояние, когда подошли эти злополучные «шестнадцать ноль-ноль». Мы, группа молодых конников, будущих разведчиков, держа своих лошадей за поводья, стояли у ворот обширного плаца. Мне хорошо был виден низенький прихрамывающий человек с палкой. Прохаживаясь вдоль стола, поставленного посередине плаца, он отдавал приказания своим помощникам в белых халатах. Те куда-то уходили, потом возвращались. Это был, конечно, Шмотин, полковой военветврач.
На этом ровном плацу, где предстоял сегодня «экзамен» нашим коням, проходила вся боевая подготовка солдат. Здесь командиры взводов и старшины учили нас владеть клинком, метать гранаты и ползать по-пластунски. Здесь же в углу двора, возле казарм, под деревянными навесами мы в спешном порядке изучали устройство винтовки, пулемета, миномета, противогаза.
Слева от плаца виднелся манеж со всеми препятствиями для верховой езды: херделями, трипельбарами, рояльными стойками, чухонским забором. Целыми днями здесь раздавался конский топот, ржанье, звон сабель, отрывистые команды. А по вечерам, когда манеж был свободен, Подкосов выезживал на нем молодых лошадей.
На этом манеже старшина эскадрона вместе с клинком вручил мне Омголона. «Передаю тебе, Алексей Коркин, золотого коня… Конька-горбунка», – подумав, добавил Подкосов.
Помню, как он тут же заставил меня расседлать и заново оседлать Омголона. Придирчиво проверил, как я затянул подпруги, хорошо ли положил на грудь коня подперсие. Ну, а проверять верховую езду не стал. Мы торопились. Враг рвался к Сталинграду, и наша стрелковая бригада готовилась к выезду на фронт.
С конями, в общем-то, я умел обращаться, старшина это приметил сразу. Родился я и вырос в деревне. Отец работал животноводом, мать – на парниковом хозяйстве. С мальчишеских лет довелось мне вести дружбу с лошадьми. То навоз подвезешь к парникам, то воду к телятнику. А летом, бывало, посылали в ночное, на луга.
Вспомнив, как было на лугах летом, когда небо светлое-светлое, и дым от костра сливается с ним, и наши ребячьи песни летят туда же, ввысь, и трава пахучая, прохладная, – вспомнив обо всем этом, я даже пошатнулся: ведь сейчас было то же время – начало июля. Только ехать нам предстояло не в ночное.
Стоя вот так у ворот казарменного плаца, я держал Омголона за уздечку, а он, каким-то десятым чувством понимая меня, положил мне на плечо свою лохматую голову и тихонечко посапывал. Как мы привязались друг к другу за этот месяц!
Когда до нас донеслась команда и началась наконец выводка лошадей, пошли сначала ребята с настоящими строевыми лошадьми. Кони все видные, выхоленные, так и взыгрывают. У Шмотина, любившего красивых, сильных коней, складывалось, по всему видать, неплохое впечатление о лошадях, с которыми поедут на фронт ребята бригадной разведки. «Фронту все только хорошее. Хороших солдат, хорошее оружие, хороших коней», – услышал я его слова, сказанные моему другу, здоровяку Свенчукову. Что по сравнению с его длинным, широкогрудым, подбористым буланым был мой, приземистый, лохматый монгольский конь!
– Следующий! – услышал я резкий и неприятный голос Шмотина.
Санинструктор замерил у Омголона температуру, пульс, дыхание. Все было в норме. «Помните, боец Коркин, – обращаясь ко мне, пока Омголону делали замеры, наставительно говорил Шмотин, – здоровый конь всегда выполнит задачу при любых обстоятельствах. Конь в Отечественной войне должен сыграть свою роль!»
Я не сразу уловил смысл этих слов. Уже потом, спустя много времени, вспомнил о них. А тогда я стоял, держа Омголона под уздцы, и с ненавистью смотрел на полкового врача. Опираясь на свою сучковатую палку, заглядывая моему коню в зубы, он стучал молотком по копытам, коленям и, казалось, не знал, к чему бы еще придраться. И тут он сделал то, чего я все время боялся: он провел рукой по загривку Омголона. Не похлопал его, не стал ворошить гривы, а просто провел рукой. Но этого оказалось достаточно, чтобы Омголон, покорно переносивший все шмотинские «пытки», вдруг зло оскалил зубы и чуть не укусил Шмотина за плечо. Потом взвился свечой, звонко заржал и рванул с такой силой, что я не устоял, упал к нему под ноги, а он, перескочив через меня, поскакал прямо к забору казарменного плаца. Он перемахнул его с той же легкостью, с какой брал чухонский забор на манеже, и тотчас скрылся из виду.
Что оставалось делать мне? Лицо и руки горели от ссадин. Я поднялся из пыли на виду у всей комиссии, сидевшей недалеко-за столом. Все, что мы с Подкосовым так тщательно скрывали от ветеринарного начальства, теперь стало известно несокрушимому в своих убеждениях Шмотину. Возможно, когда он гладил Омголона, он не только почувствовал рукой, а и увидел под гривой рубцы этой проклятой медвежьей раны.
В один момент все было кончено. Разве Шмотин разрешит послать на фронт такого коня? И кто из членов комиссии не согласится с его мнением? С Омголоном нам уже не быть вместе…
Никого не слушая, хотя мне что-то сказали, ничего не видя перед собой, хотя кто-то пытался схватить меня за руку, я побежал. Бежал, наверное, долго, потому что, когда увидел Омголона в лучах вечернего солнца на косогоре, далеко за поселком, я упал на траву и долго не мог отдышаться. Разгоряченный конь не сразу подбежал ко мне. Но когда я услышал над собой его шумное дыхание и поднял голову, в глубине его больших круглых глаз увидел теплые ровные огоньки.
Мы отправились в часть. Понуро опустив голову, Омголон шел за мной по пыльной улице поселка, не обращая внимания на крик мальчишек и злой лай собак.
Недалеко от конюшни, возле старенькой деревенской изгороди, мы остановились, я в последний раз обнял Омголона за шею и, что скрывать, заплакал.
Медленно угасала вечерняя заря. Небо прочертили ночные тени. А воздух был такой спокойный и теплый, что когда со стороны поселка, на краю которого размещалась наша бригада, донеслось мычание коров, мне показалось, что я нахожусь дома, в своем родном колхозе «Заречный», что вот сейчас скрипнет калитка и раздастся голос матери: «Алешка!.. Санька!.. Григорий!.. Куда вы, чертенята, запропастились? Ужинать шагайте!»
Я закрыл глаза и не сразу понял, что мы с Омголоном уже не одни.
– Комарья-то сколько, а им хоть бы что… – раздался чей-то ворчливый голос.
Только сейчас я почувствовал, что меня действительно кусают комары, что их много и мне больно от их укусов. Рядом со мной, обмахиваясь березовой веткой, стоял Подкосов.
– Милуетесь, значит, братки! Ну, милуйтесь, а война идет. – Старшина перешел на строгий тон. – И как ты, Коркин, на виду у всех командиров, товарищей своих сбежать мог и не являться в часть столько времени! Если бы не завтрашний выезд на фронт, быть бы тебе в наряде! Вот так, браток! – Подкосов помолчал, делая глубокие затяжки своей любимой козьей ножкой, и сказал уже несколько примирительно: – Иди, тебя командир бригады зовет.
– Командир бригады?..
Я вытянулся, оправил гимнастерку. Но Подкосову этого показалось мало.
– Поставь в конюшню коня, иди помойся и почисть сапоги. Грязный ведь, в пыли валялся. Явишься по всей форме.
Слова Подкосова как-то сразу привели меня в то собранное состояние духа, какое должно быть у бойца. Я не медлил ни минуты.
– Рядовой Коркин явился по вашему приказанию! – отрапортовал я, когда мне разрешили войти к командиру бригады.
Как сейчас помню, яркий свет настольной лампы освещал усталое лицо командира и его седые виски. Сбоку от него навытяжку стоял старшина эскадрона Подкосов.
«Ну, сейчас начнется, – со страхом подумал я. – Влетит и мне и Подкосову. Хоть бы уж только мне…»
Командир бригады медлил. Он заговорил необыкновенно тихо.
– Тяжелая война идет, Коркин, ох, какая тяжелая. – Он поднялся со стула и сурово посмотрел на меня. – Зарвавшийся фюрер делает ставку на Сталинград. Завтра будем грузиться в вагоны… Ну, а как твой «монгол», выдюжит?
Ноги мои словно вросли в землю. Я не сразу понял, о ком идет речь.
– Молчишь? – комбриг неторопливо прошелся по кабинету. – Старшина Подкосов говорит, что конь у тебя добрый, хотя и имеет отметину. С медведем он, что ли, воевал?.. Подкосов ходатайствовал, чтобы тебя отправили на фронт вместе с «монголом», – добавил он, хитровато посматривая в сторону старшины.
Я, наверное, покачнулся, потому что командир сказал: «Вольно, Коркин» и предложил сесть. Но говорить я все равно бы не смог, хоть стреляй в меня.
– Волнуется, товарищ комбриг. От радости волнуется Коркин.
– Ну что ж, тогда решено…
Командир бригады снова подсел к столу и углубился в свои бумаги, а мы с Подкосовым вышли. В темноте вечера я отыскал его большие шершавые руки и крепко сжал в своих. Какая же, оказывается, душа был этот Подкосов!
Когда прошли изрядное расстояние, старшина сказал своим хрипловатым голосом:
– Вот что, браток. Может, и свидеться уже не придется. Завтра в эшелоны. Тебе на Запад, а я еще здесь останусь, хотя в тех краях появлюсь обязательно, тыл не мое дело. А потому вот что: попрощаюсь-ка я с твоим коньком-горбунком.
Подкосов прямым ходом привел меня в конюшню, отвязал Омголона, и мы втроем отправились за поселок.
Было тепло и тихо. Кругом стрекотали ночные кузнечики. Сапоги наши мягко шуршали по траве. Радостно мотая головой и пофыркивая, за нами шагал Омголон. Неожиданно над горой засияла луна, и я отчетливо увидел скуластое лицо Подкосова. Не изменяя своей привычке, он и на этот раз смотрел куда-то вниз, под ноги, и думал о чем-то своем.
– Ну вот что, Алешка, будем сейчас делить с тобой коня, – сказал он вдруг необычно задорно. – К кому он пойдет – к тебе или ко мне?
Приказав мне остановиться, он провел Омголона по траве еще шагов на пятнадцать, дал знак стоять на месте, а сам прошел дальше.
– Теперь давай звать коня. Ты по-своему, я по-своему. Увидим, чей зов сильнее. Зови, – негромко сказал Подкосов.
Еще не совсем понимая старшину, я крикнул:
– Омголон! – Конь продолжал спокойно щипать траву. На мои слова он, казалось, не обратил никакого внимания.
Теперь очередь была за Подкосовым.
– Омголон, ко мне! – тихо, с каким-то особенным волнением в голосе произнес старшина.
Конь поднял голову, сделал несколько шагов по направлению к Подкосову, потом постоял немного в раздумье и вдруг, взбрыкнув, повернул назад и маленькими шажками побежал ко мне.
Подкосов, не скрывая обиды, махнул рукой и, отвернувшись, сел на траву.
Несколько минут он не подавал голоса. А потом, как будто ничего не случилось, сорвал травинку и, размахивая ею, подошел к нам с Омголоном.
– Вот что, браток, под мою ответственность… Да так, чтобы душу отвести… Садись на своего вороного – и скачи на луга, на всю ночь. – Он прислушался к звону кузнечиков. – Таких ночей на фронте не будет.
Я не сказал Подкосову ни слова. Хмельной от радости, я вскочил на коня, изо всей силы натянул повод. И Омголон, казалось, только этого и ждавший, понес меня, как на крыльях. Это было в самом деле похоже на полет. Ни топота копыт, – они тонули в густом шелесте травы, – ни звуков, кроме свиста ветра в ушах. А под ногами – лунным серебром расшитый ковер. Почуяв степное раздолье, Омголон готов был скакать без передыху.
Опасаясь запалить коня, я наконец остановил его. Спешился, расседлал и пустил на волю. По притихшему в ночи зеленому лугу прокатилось заливистое ржанье. Оно раздалось сначала рядом со мной, потом повторилось где-то вдалеке и замерло. А я упал в прохладную траву, обнял ее руками и долго не мог надышаться. Мир на какое-то мгновение точно исчез из моего сознания.
Я знал, что как бы далеко конь ни убежал, он все равно отыщет меня. Так и случилось вскоре. Снова послышалось ржанье. Оно повторилось где-то совсем близко и снова замерло. Я притаился, наслаждаясь этими беспокойно-зовущими звуками в ночи, и так и не откликнулся, пока конь сам не пришел ко мне.
Эшелон уходил на запад в двадцать один с минутами. В полночь он должен быть на станции Ягодная, где предполагался забор воды. Так мне сказал наш командир взвода Панин. Я дал телеграмму отцу, чтобы он сумел с братьями и матерью как-то добраться до станции. О Нюшке – сестренке – уже не просил. Ей шел всего пятый годок.
Как только тронулся поезд, я занял место на верхних нарах переполненного вагона-теплушки.
Кто-то сразу же растянул гармошку. Свенчуков горласто подхватил:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Если грозные силы нагрянут…
Но война уже шла. И ребята, уставшие за день с погрузкой эшелона, скоро умолкли, а мы с Угрюмкиным слезли с нар и стали у открытых дверей.
Так же, как и вчера, полная луна серебрила своим светом все вокруг, делая еще нарядней и таинственней и без того прелестную благоухающую июльскую ночь. Привычно стучали колеса вагона на стыках рельсов, ветер пахучими струями омывал наши лица. И все это ощутимо принималось каждой частью, каждой клеточкой моего тела. Казалось, вот сейчас, когда я, мои товарищи по взводу разведки и наши боевые кони находились все вместе в одном эшелоне, когда до цели, к которой мы так упорно стремились весь этот месяц, остался последний шаг, мои мысли должны быть там, где рвутся снаряды, пылают города и села, где на головы безвинных людей обрушиваются горе и смерть, где ждут нас с такой надеждой.
Да, казалось, должно быть именно так. Я даже заранее приготовил слова, которые скажу при встрече отцу, матери, братьям.
Но произошло нечто странное. Когда раздался прощальный гудок паровоза и наш длинный, пестрый, гремящий на стрелках железнодорожный состав наконец покатился по рельсам, все то, о чем я столько передумал за время своей боевой учебы, как бы отодвинулось в сторону, а в голове вдруг, точно наяву, встали лица отца, матери, Нюшки, братьев. Я смотрел в светлый проем вагонной двери, но видел только их. Тогда мне еще не было известно, что старший брат Григорий, работавший трактористом в МТС, был призван в танковый батальон, а Сашку взяли сапером. Тогда я думал, что на станцию Ягодная они прибудут все, я увижу их всех сразу, обниму, стану расспрашивать, до мельчайших подробностей, как идут дела дома. Трудно было им всем, очень трудно, я это хорошо понимал, особенно – матери, у нее последние годы так болела спина. Но чем я им мог помочь? Разве только Нюшке…
Держа правую руку в кармане, я сжимал в кулаке небольшой сложенный вдвое конверт, где были собраны мои солдатские рубли, почти все до единого. Зачем солдату деньги? Купить махорки? В ту пору я еще не научился курить, да и где ее купишь, махорку-то? На сбереженные рубли решил приобрести Нюшке леденцов. Но и это оказалось только мечтой: на полках вокзального буфета стояли одни пустые банки из-под конфет. Эх, Нюшка, Нюшка…
Но если я не мог им ничем помочь, то я мог их обрадовать: на фронт я ехал не один. В конце состава в одном из вагонов, двухосном, таком же, как наша теплушка, постройки еще тридцатых годов, привязанный поводком к кормушке, стоял в ряду с другими конями и мой Омголон.
Выводка коней из вагонов предполагалась утром, когда эшелон подойдет к какой-то большой станции, а на Ягодной, пока паровоз набирал воду, мы с Угрюмкиным успели бы напоить закрепленных за ним лошадей. Да заодно и показать Омголона родным. Вот разохаются братья, увидев, что я еду на фронт с персональным конем!
Этой минуты, остановки состава, я ждал все сильнее и сильнее. Все отчетливее на фоне лунного пейзажа проступали лица родных. А потом как-то вдруг в голове все перемешалось. Наверное, оттого, что где-то рядом в соседнем вагоне грянула гармошка. Звук ее резанул по сердцу, да так резанул, так дохнуло родным, знакомым, что я еще крепче вцепился в деревянный брус поперек дверного проема. А гармошка пела, бесилась звуками, и луна, казалось, еще ярче засеребрила вершинку бегущей навстречу горы. Отец… Мать… Гришка… Санька… Сестренка… Сейчас я всех вас увижу!
Скрестив на груди руки, я старался приглушить ладонью удары сердца. Ведь шел уже двенадцатый час ночи, пройдет еще полчаса, и вспыхнут огни станции. А вдруг… Нет, я даже не допускал мысли, что отец не получит телеграммы. С транспортом он тоже устроится, возьмет в колхозе полуторку.
Чтобы обмануть медленно текущее время, я спрятал за край рукава гимнастерки свои блестевшие при лунном свете штампованные часы. Ведь надо же, как они разошлись сегодня! В первый день своего знакомства с Омголоном я упал с него и здорово стукнул часы о землю. Они остановились, потом неожиданно снова пошли, но тикали вяло, с перебоями. Если бы не память от колхоза, я бы, наверное, оставил часы в казарме. Но вчера вечером, когда, готовясь к отъезду, я стал перекладывать в вещмешке свои пожитки, часы упали на пол и вдруг затикали бойко и уверенно, напомнив день, когда на знойном колхозном току мне вручил их сам председатель колхоза. За ударную работу по обмолоту пшеницы многие ребята нашего класса получили тогда именные часы.
А поезд с шумом врывался в ночь. Дробно стучали колеса, паровозная гарь врывалась в уснувший, точно опустевший вагон, и едкий запах ее щекотал ноздри.
Свет луны стал постепенно блекнуть, вдали мелькнули огни. Вот гибкая цепь вагонов вильнула куда-то влево, огни исчезли и долго не появлялись; потом они снова засветили – коротенькая зовущая цепочка огней. Это, конечно, Ягодная.
Глухо кашлянув, Угрюмкин закурил трубку. Простой он был человек и вместе с тем какой-то загадочный. А в общем, добрый, и главное – коней любил. Всю жизнь до старости прожил бобылем. На станции Ягодная он не нужен был никому. Почему же стоял, не ложился спать? От волнения в ту минуту я даже забыл, что мы должны были с ним поить лошадей.
Спрыгнули с нар и подошли к дверям Свенчуков и Карпухин. Им, видать, не спалось. Свенчуков попросил у коновода огонька и тоже закурил. Был он рослым, широким в плечах, с простым, открытым лицом. Работая кузнецом в нашей МТС, еще задолго до войны Свенчуков отслужил действительную, но на фронт не был взят. Всякий раз, когда дело доходило до его призыва, правление колхоза слезно просило военкомат дать кузнецу отсрочку, хотя бы до посевной… Свенчуков позарез был нужен обезлюдевшему колхозу. А потом наступала уборка урожая, и так это тянулось до той поры, пока не подошел Сталинград. Теперь уже никакая сила не могла задержать в МТС Свенчукова, и, если б даже из военкомата поступил приказ об отсрочке, кузнец все равно ушел бы на фронт. Сталинград решал исход войны.
Невысокого роста молодой электрик из той же МТС Карпухин в сравнении со Свенчуковым казался сейчас особенно маленьким и тщедушным. Но Карпухина ценили у нас за ловкость, и командир взвода разведки Панин возлагал на него большие надежды.
Огни станции снова скрылись – проезжали густой сосновый бор, и появились сразу ярко, приветливо. Вот они!.. Но что это? Поезд шел, не сбавляя хода. «Что случилось? Почему эшелон проходит мимо?» Я повернулся к Угрюмкину, крикнул ему, коновод продолжал молча курить. Может, он что и сказал, да я не расслышал. В висках у меня стучало. Поезд шел. Теперь уже стало ясно, что он не остановится. Я схватился за поручни, повис над бегущей внизу землей и увидел их сразу. Их было трое: отец, мать, Нюшка. Растерянные, оглушенные грохотом мчащегося состава, они промелькнули всего в нескольких шагах от меня.
– Ню-у-шка! – закричал я.
И тогда они побежали. Первой бежала Нюшка, протягивая в своих тоненьких ручонках какой-то узелок. Я даже услышал ее громкий плач. Потом закричала мать и вдруг рухнула на землю.
Что было дальше, помнится смутно. Помню бородатое лицо Угрюмкина и пахнущие потом солдатские нары. Угрюмкин как-то сумел затащить меня туда, на второй ярус, и при тусклом свете висевшего под потолком керосинового фонаря я смотрел на его рыжую бороду.
…Целые сутки потом я находился в состоянии какого-то безразличия ко всему. Лежа на нарах, я смотрел в одну, только мне видимую точку. Она, как магнит, притягивала к себе нити всех мыслей. Как они там теперь? Что с матерью? А Нюшка-то, Нюшка, она ведь хотела передать какой-то гостинец. Может, камушки-корольки, а может, пряник, который берегла специально для этого дня.
Командир взвода Панин пробовал растолковать мне, как все получилось на Ягодной. «Что же поделаешь, Коркин, война…» Он говорил что-то еще, слова его успокаивали, и я вдруг подумал об Омголоне. Ведь здесь, в эшелоне, он был мне сейчас самым родным.
Помню, ребята обедали, и кто-то протянул мне котелок со щами. Я есть не стал: поезд тормозил ход. Вижу, разъезд какой-то. Я – из вагона и, пока поезд стоял у закрытого семафора, успел отыскать теплушку с лошадьми нашего взвода.
Их стояло восемь, по четыре в ряду, все головами к середине вагона. По обе стороны неширокого прохода висели кормушки, брезентовые ведра для воды. Омголон стоял крайним, у самого входа. Можно понять мою радость, когда после всего того, что произошло со мной, я увидел своего любимого коня. Да и Омголон не ожидал моего внезапного появления, громко заржал, застучал копытами.
Лежавший на сене Угрюмкин сказал, чтобы я принимал дневальство, а сам пошел отдыхать.
Особенно радостно было с Омголоном на выводках. Коням, чтобы не застоялись, через день-два делали разминку. Приставляли к вагонам сходни, выводили их на перрон, седлали и выезжали куда-нибудь на станцию. Поили, даже давали попастись, в зависимости от того, сколько стоял эшелон.
Однажды, а это случилось на Байкале, все, кто был с лошадьми, забрели вместе с ними в воду и пригоршнями пили прямо из самого сибирского моря. Угрюмкин потом всю дорогу уверял, что такой вкусной воды ему нигде не приходилось пробовать.
Так прошло дней десять – двенадцать.
Помню, где-то, уже за Волгой, проснулся я после очередного дневальства от непонятной тишины. Поезд не несся как прежде, а шел тихо, осторожно, словно выбирая себе дорогу. Нары были пусты. Откатив дверной щит, ребята столпились у вагонного проема и молча смотрели в степь. На искореженной взрывами земле виднелись полуобгоревшие дома, освещенные заходящим солнцем, стлались дымы по ложбинам. Здесь бомбили.
Угрюмкин, прихлебывая из железной кружки кипяток, сказал, что едем к Воронежу. «Воронежский фронт». Я придвинулся поближе к проему, и тут меня словно полоснуло каленым железом. Недалеко от насыпи железнодорожного полотна валялась груда истерзанных конских туш. Лужи багровой крови зловеще поблескивали на солнце. Видно, налет вражеской авиации был совершен недавно, может быть, только что перед подходом нашего эшелона.
«А что если вот так же с Омголоном? – подумал я. – Завтра, сегодня, сейчас… Налетят стервятники!» Решение созрело мгновенно. Как только поезд застопорил ход, сказав командиру отделения, что мне надо к лошадям, я побежал в хвост эшелона. Но не успел открыть дверь. Поезд тронулся. Боясь отстать, я запрыгнул на буфера, потом, хватаясь за скобы, вскарабкался на крышу вагона. Где-то тут, сразу под крышей, должно было быть окно. Зацепившись ногой за какой-то угольник, я свесился с крыши и позвал:
– Омголон!
Сначала черный квадрат окна оставался безмолвным. Но вот раздалось негромкое ржанье. «Омголон, Омголон!» – позвал я громче. Теперь уже забеспокоились все лошади. Донесся голос дневального: «Что такое? Кто там?..» Я сделал попытку дотянуться до окна, но чуть не сорвался с крыши, отполз от ее края и стал раздумывать, как же быть дальше.
Когда эшелон, замедлив ход, продвигался мимо какой-то степной станции и я в надежде на то, что он сделает остановку, приготовился спускаться с крыши, раздался гул авиационных моторов. Инстинкт подсказал, что это вражеские самолеты. Они летели прямо к составу. Тогда я еще не умел определять их названий, уже потом, вспоминая свое первое боевое крещение, я понял, что это были «Мессершмитты-109», я хорошо видел их акульи туловища и распростертые, как у стервятников, крылья. Мгновенье – и они с ревом пронеслись над эшелоном. Донеслись запоздалые звуки пулеметной стрельбы. Потом пошли бомбовые разрывы, их грохот был ужасен. Прижавшись к крыше вагона, я закрыл от страха глаза. Мне казалось, что меня несет в черную-черную бездну.








