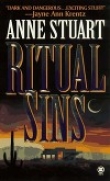Текст книги "Наследники по прямой.Трилогия (СИ)"
Автор книги: Вадим Давыдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 91 страниц)
Татьяна, оказавшись в прицеле у Коновалова как супруга партийного работника, быстро определилась: лучше давать Коновалову то, что доставляет удовольствие им обоим, а не только одному лишь Коновалову, а от всего остального следовало, по возможности, уклоняться. В общем, такая её политика Гурьеву очень понравилась. Помимо всего остального, это служило признаком того, что на понастоящему серьёзные гадости Татьяна – по крайней мере, добровольно – не пойдёт. Её склонность дарить мужчинам радости физиологических проникновений, доставляя себе при этом максимум возможного удовольствия, он просто не мог считать скольконибудь предосудительной. Брак Татьяны, если и был когдато чемто, на сегодняшний день представлял собой пустую формальность. Единственное, что Гурьев считал совершенно неприемлемым – это отношения Татьяны с Ферзём. И отнюдь не по личным мотивам – насилие в отношении женщин, сколь бы предосудительно не выглядело их поведение в свете господствующих моральных стереотипов, Гурьев не терпел и пресекал. Иногда, если требовалось, пресекал самым радикальным образом.
– Бедная ты моя лошадка, – Гурьев погладил вздрагивающую от слёз Татьяну, прижимавшуюся к нему так, словно ей хотелось в нём раствориться. – Айяйяй. Придётся Якову Кирилловичу тебя тоже выручать. Это всё тебе Коновалов хвастался, герой?
– Да, – Широкова всхлипнула. – Яшенька… А мне ничего не будет?
– За что?! – удивился Гурьев. – За то, что на передок слаба?! Ну, знаешь… Если бы ещё и за это сажали, то уж тогда бы над нами точно весь мир ухохотался. А как ты к Ферзюто в лапы умудрилась угодить? Чулки порвалися? Или помадка кончилась?
– Ох и злющий же ты, – опять всхлипнула Татьяна. – Кошмар какойто. Передок – передком… А Коновалов мне брошку подарил… Камею ту… И ещё всякого…
– А ты, с Ферзём поручкавшись, решила не ждать милостей от Коновалова, идейного борца за чистоту партийных рядов, а получить прямой доступ к вожделенным материальным благам, – укоризненно покачал головой Гурьев. – Ферзь через тебя пытался на Коновалова поддавливать? Инструкции давал – скажи то, спроси это?
– Яша…
– Что – Яша?! – Гурьев сделал вид, что сердится. – Да или нет?!
Татьяна быстро закивала.
– Жадность губит не только фрайеров, Таня. Дур, вроде тебя – тоже. И очень быстро. Ты хоть понимаешь, Танечка, какая ты дура? Или нет?
– Наверное, нет… – Татьяна уткнулась мокрым, как у котёнка, носом ему в плечо. – Яшенька… Дурато я дура… Это правда… Да не совсем… Это изза Даши всё? Изза Чердынцевой?
– Видишь ли, Таня, какое дело, – с нехорошей ласковостью проговорил Гурьев. – Чего ты не знаешь, того ты не расскажешь. А жить захочешь – даже спрашивать не станешь. Так что ты забудь напрочь, что спросила. А то ведь Яков Кириллович может и не успеть. Хотя он и быстрый, когда надо.
– Я…
– Ты да я да мы с тобой. Что там у Маслакова с Дашей за дела?
– Да ничего. Лапал он её на уроках.
– Как – лапал?! – изумился Гурьев.
Да, подумал он. Далеконько ушёл я от нормальных человеческих неприятностей. Всегото?!
– Да так – обыкновенно, – вздохнула Широкова. – Подойдёт и по плечику гладит, пока ктонибудь урок у доски отвечает. Это привычка у него такая. Да и было бы что серьёзное, а то… В каждом классе – облюбует себе девочку посимпатичнее, и… Какието дети, знаешь, спокойно к этому относятся, а Чердынцева – как вскочит, да как даст ему по роже!
– Давно это было?
– Давно. В позапрошлом году ещё…
– Какая прелесть, – Гурьев мечтательно закатил глаза. – Как всё это вовремя – я тебе просто передать не могу. Как же Завадская такой гадюшник у себя терпитто, под самым носом?
– Да ну его…
Это тебе – «ну», подумал Гурьев. Это от тебя не убудет, даже если он тебя всю облапает и обслюнявит. Засунет и высунет. А это – дети. Дети, понятно?!
– Ладно, с этим я позже разберусь. Теперь слушай внимательно, лошадка, и ничего не перепутай, – Гурьев перевернулся и навис над Татьяной. – Значит, так. С этой минуты – ты под домашним арестом. Завтра утром вызовешь врача и разыграешь перед ним или кто тут у вас весь букет женских болезней, включая токсикоз и родильную горячку. В школе я всё организую, детей пришлю, сходят за продуктами, чтоб ты тут с голоду не преставилась, хотя поголодать тебе не помешает. Никуда не звонить, не выходить на улицу – вообще не выходить, поняла?!
– Да…
– Никому – ничего – не рассказывать. Вообще ничего. Да, нет, не знаю, не видела, не слышала, спала. Это все слова, которые тебе разрешается произносить. Одно твоё лишнее слово может стоить жизни людям, которые мне очень дороги, Таня. Это ты понять можешь?
– Ммогу…
– И хотя ты мне тоже дорога посвоему, моё терпение и доброта не безграничны. Это дошло?
– Ддошло.
– Всё. Ждать распоряжений. К телефону подходить, но не разговаривать ни с кем, кроме меня. Всем отвечать – мол, болеюпомираю, перезвоню завтра. Третьего дня. Вчера. Вопросы?
– А ты?
– А я тебя сейчас полюблю ещё один разочек и поеду по своим делам, Танечка, – Гурьев улыбнулся и приступил к исполнению своей угрозы.
– Оставайся, – прошептала Татьяна, вцепляясь ему в плечи так, словно надеялась удержать. – Оставайся… Хоть сколько… Никогда не выходи…
Сталиноморск. 10 сентября 1940
Оставив Татьяну просматривать сны, Гурьев поехал домой. И ему было о чём поразмышлять по дороге.
Было уже почти два ночи, когда Гурьев подъехал к дому. Заведя в сарай мотоцикл, он, по извечной привычке, проверил периметр. Из Дашиного окошка сквозь ставни пробивался свет, и это его не порадовало. Он осторожно вошёл в дом – впрочем, не бесшумно, чтобы не пугать «стражу». Шульгин, выглянув из его комнаты и убедившись, что всё в порядке и все свои, нырнул обратно.
Зато девушка осталась, и выражение её лица ничего хорошего не предвещало.
– Где ты был?! Я чуть с ума от беспокойства не сошла. И Нина Петровна… А Денис Андреевич не говорит. И Алексей Порфирьевич молчит. Почему?!
– Потому что есть дела, о которых никому не положено знать, дивушко. Никому совсем. А случиться со мной не может ничего. Ничего – тоже совсем. Так что волноваться – не надо этого. Не надо.
– Я знаю эти дела, – тихо произнесла Даша, и ноздри её затрепетали, а глаза наполнились слезами и потемнели от гнева. – Это Танькины духи. Вот и все дела. Ты не можешь без этого, да? Никак?
– Даша, – Гурьев улыбнулся. – Давай мы не будем сейчас обсуждать, что, где, с кем, когда и почему я делаю. Я уже говорил, что иногда совершаю на первый взгляд не очень понятные поступки. Это надо просто пережить – и всё. А всё объяснять – я только этим и стану заниматься, а не действовать. Пожалуйста.
– Как же так, Гур? – потерянно спросила Даша. – Как же это – любить одну, а…
– А спать с другой? – прищурился Гурьев. – Измена, да? Предательство.
– Да, – девушка, краснея до корней волос, не отводила гневного взгляда. – Да. Это – измена. Я никогда не прощу измены, Гур. Никогда.
– Это правильно, – кивнул Гурьев, подходя к столу и отодвигая стул. – Может быть, ты присядешь? Я понимаю – ты хочешь выяснить отношения. Садись.
– Я…
– Садись.
Кажется, ничего не изменилось, – ни громкость голоса, ни его высота, – но Даше почудилось, что неведомо откуда сорвавшийся порыв арктического штормового ветра с размаху хлестнул её по лицу. Но она даже не зажмурилась.
– Этим голосом, таким тоном – ты будешь усмирять бунт на пиратском корабле, Гур, – сказала Даша, не двигаясь с места. – Или – отправлять в бой эскадроны. Я знаю – ты можешь. Но со мной – не смей так. Я не бунтую. Я требую, чтобы ты объяснил, почему. Я знаю, что ты меня спасаешь. Поверь, я очень хорошо это знаю. Куда лучше, чем ты думаешь. Но обижать и предавать твою любовь я тебе не позволю. Даже изза меня. Тем более – изза меня. Я лучше умру.
Конечно, подумал Гурьев. Конечно. Именно так она и поступит. Конечно, это она. Только она может так разговаривать со мной. Только у неё есть такое право. Все остальные – либо дрожат, либо текут и тают. А она… Господи. Рэйчел. Ты должна, ты просто обязана на неё посмотреть.
Он сел за стол, сложил на столешнице сцепленные в замок руки. Не смотрел на неё. Даша видела сейчас каждую крошечную морщинку, каждую жилочку на этом лице – красивом и жёстком лице человека, не знающего слова «невозможно». Вот только жёсткости в нём было уже много больше, чем красоты. Это цена, поняла Даша. Это – цена. Страшная цена, которую он заплатил. Она помнила слова отца – «Всегда нужно сполна платить по счетам, дочка». Этот человек – платит. И требует платы с других. С себя – прежде всего, но и с остальных – тоже, сполна. С неё, Даши. С Рэйчел, которую любит так, что невозможно дышать. С Таньки. Со всех.
Даша стремительно шагнула к нему, отодвинула стул и села. И накрыла ладошкой замок его рук:
– Прости. Я не должна была этого говорить.
– Должна, – спокойно возразил он. – Должна говорить всё, что смеешь сказать. Всё, что есть тебе сказать. Это правильно. Измена – это когда от подлости, дивушко. Когда знаешь всё, но делаешь – или назло, или чтобы ударить побольнее, или просто от пакости, что сидит внутри. А бывает и подругому. Бывает, что не от подлости и не от глупости, а от отчаяния или просто от жизни. А самое страшное – это работа. Когда ничего не чувствуешь. Вообще – ничего.
– Как у тебя.
– Может быть.
– Ты просто жалеешь всех.
– Да. Жалею.
– А если бы она была с тобой? Всё было бы подругому, ведь так?
– Никогда не бывает так, чтобы всё получалось, как задумано. Никогда.
– Потому что цена всё меняет. На всё начинаешь иначе смотреть.
– Да, дивушко. Ты права. Ты ужасно права.
– Гур… А что такое любовь? Настоящая любовь? Я влюблялась, ты же знаешь, я тебе говорила. Но это так быстро проходит! Как насморк. Почему?
– Любовь – это дерево, дивушко. Его надо растить, поливать, ухаживать за ним. Вкладывать душу. Тогда начинаешь понастоящему любить. Чем больше вкладываешь, тем больше любишь.
Потому что любовь – это химия, подумал он. Как и всё остальное. Но этого я тебе не скажу.
– И меня ты тоже любишь? Ты столько в меня вложил.
– Десять дней, – он улыбнулся.
– Десять дней твоей жизни, Гур, – покачала головой Даша. – Десять дней твоей жизни – это безумно, чудовищно много. Мало кто может похвастаться, что отнял у тебя больше минуты. А я… Я всё тебе заплачу, Гур. Всё. Вот увидишь. Правда.
Господи, подумал он, глядя в глаза Даше. Господи. Рэйчел. Ты должна. Ты должна на неё посмотреть. Поверь, эта девушка стоит целого мира.
– Я тебя очень люблю, – сказал он и провёл пальцем по её щеке. – Ты не моя женщина, но ты мой человек. И всегда будешь моим человеком. И твой мужчина будет моим другом. Я, во всяком случае, очень постараюсь.
– А тебе с ней хорошо?
– Вот для этого точно нет слов. Ни в одном языке.
– Да. Да! Я тоже хочу, чтобы у меня было именно так. Она ведь тоже очень сильная, да?
– Сильная. И знает, что это – честь и долг.
– Как папа. Как ты.
– И как ты.
– А вы с ней тоже боролись?
– Немного. В самом начале.
– А потом?
– Потом? Потом она победила, – он улыбнулся.
– Нееет, – протянула Даша. – Нет. Ты просто сдался. Потому что влюбился.
– Да. Наверное.
– Расскажи мне про неё. Пожалуйста!
– Расскажу. Когданибудь – обязательно расскажу. Обещаю.
* * *
Гурьев разбудил Кошёлкина – следовало как можно скорее закончить работу, для чего, без всякого сомнения, требовался мозговой штурм. В схеме, которая вырисовывалась из сведений, уже имевшихся и полученных от Широковой, содержался довольно существенный изъян. Оставалось совершенно непонятным, откуда брался оборотный капитал для приобретения той самой контрабанды, которая, как уже успел убедиться Гурьев, появлялась не только на чёрном, но и на «белом» рынке – в некоторых магазинах он видел товары, не принадлежащие к обычному или расширенному советскому ассортименту. Да и составленное Кошёлкиным досье говорило о том, что товары поставлялись регулярно и в солидных количествах. Конечно, понастоящему, покрупному развернуться было невозможно – в условиях тотального советского контроля, который Гурьева донельзя раздражал, слишком много сил и средств требовалось на логистику, в том числе финансовую – чёрный оборот мог выражаться только в наличных деньгах, а их следовало отвезти, привезти, собрать и раздать. Но перекос заключался отнюдь не в логистике.
Дело было в другом, – для Гурьева, хорошо знакомого, в отличие от подавляющего большинства сограждан, с тем, как работают деньги и для чего они нужны, это было очевидно. Вопервых, объёмы поставок контрабанды изза рубежа – именно изза рубежа! – намного превышали не только те крохи, которые Ферзь мог получать в качестве конфиската от Коновалова, но даже и те «универсальные» ценности, что стекались к нему – в обмен на контрабандный товар – из всей торговой сети города и близлежащих курортных зон и посёлков. Не Москва ведь, – и даже не Одесса. Ясно, что на советские деньги ни в Турции, ни в Румынии много не накупишь, а валютные операции – штука непростая: для официального обмена нужно иметь совершенно иной уровень доступа, чем у Коновалова или Ферзя. А валютные спекулянты оставляли бы самому Ферзю не так уж много маржи, да и были не намного доступнее Госбанка – в его положении. И статья другая. Конечно, представления об объёме контрабанды Гурьев имел довольно приблизительные, но и те, что имелись, свидетельствовали: приход с расходом никак не совпадает. Нет равновесия – даже неустойчивого. Прямые денежные доходы от продажи контрабанды частично поглощались работниками, которым Ферзь должен был платить, даже если и не очень много. Но вот оборотные средства, превращаясь в рублёвый эквивалент, могли быть использованы только внутри советской системы. Внутри же, ввиду зацентрализованности планирования, распределительного характера торговли и явного преобладания тяжёлой промышленности, все производимые потребительские товары более или менее приемлемого качества поглощались без остатка, не успев даже удовлетворить спроса. Чем может торговать Ферзь, да ещё при полной монополии государства на внешнюю торговлю, – танками, самолётами, чугуном и сталью? А брать он их где станет – угонять? Красть? Смех, да и только. Советская система, при всей её сложности связей, оставалась сугубой «вещью в себе», и Ферзь просто не мог ничем заинтересовать своих зарубежных контрагентов. Не невольницами же для гаремов, в самом деле – никаких сведений о периодическом исчезновении женщин в округе «в товарных количествах» не поступало. Конечно, совсем исключить этот род деятельности было невозможно, но системный характер ему придать у Ферзя явно не получилось: то ли не догадался ещё, то ли кишка оказалась тонковата. Исполнители для такого предприятия нужны довольно специфические. В общем, для «буржуев» оставался Ферзь абсолютно ничем неинтересен. Кроме одного. Информации. И вот такой вот информатор Гурьеву мог сильно и больно помешать. Конечно, будь у Гурьева желание, а, главное, время, – можно было бы, покопавшись с полгодика и отследив все ниточки, определить, в какой из стран для Ферзя создан режим наибольшего благоприятствования, какова география производства контрабандного товара и прочие занимательные детали, позволяющие наладить нормальную агентурнодезинформационную дуэль с соответствующей разведкой. Гурьеву, однако, такая игра была совершенно неинтересна – не его масштаб. С другой стороны, он прекрасно понимал: спустить сейчас на контрабандистов и сбытчиков НКВД – сотрудников по расследованиям в области хозяйственных преступлений – значит раскрутить очередной маховик посадок, который может, по советской привычке, не столько повалить лес, сколько превратить его в щепу, попутно зацепив людей, к происходящему отношения не имеющих. Но выбора у него большого не было. В такие минуты он – как никогда хорошо – понимал, в каких жёстко детерминированных условиях приходилось действовать Сталину, решая те задачи, которые он, Сталин, полагал первоочередными.
В общем, вся эта высота, глубина и ширина нравственнополитических терзаний могла бы довести до белого каления кого угодно – только не Гурьева. Уж чточто, а определять приоритеты своих действий он выучился неплохо. Плохо было другое: если Сталин решал задачи, принимая людей в расчёт лишь постолькупостольку, то Гурьеву приходилось о людях думать. И людей спасать.
– Ладно, дядь Лёш. Теперь всё в общих чертах понятно. Вот видишь – правильно мы с тобой чувствовали: не только чулочкиносочки за всем этим стоят, не только.
– Да, – кивнул Кошелкин, проведя рукой по лицу, словно желая этим снять накопившуюся усталость. – Шпиёнов мне ещё ловить не доводилось.
– Да какой он шпион, – поморщился Гурьев, – так, агентишка мелкий, информатор. Всё изза денег. Был бы идейный – тогда да, тогда – интересно. А так…
– И тебе интересно?
– Нет, – Гурьев усмехнулся. – Мне это неинтересно. Но дело даже не в этом. При ином раскладе я бы сдал его на руки специалистам, но сейчас – нет. Сейчас мне требуется только одно – чтобы никакие сведения отсюда никуда ни в каком виде не утекали. Выбрать всё подчистую, мелким бреднем. А подать всё так, будто это хозяйственное дело. Чулочкипомадкипудракокаин.
– Сделаем, сынок.
– Спасибо тебе, дядь Лёш. Ты один за шесть дней и ночей работу целого управления вытянул.
– А я и говорю, – не стал скромничать старик. – Развели тут бюрократию! Где раньше два сыщика работали, теперь целая армия государственный харч даром трескает. Пойду спать, ну вас всех… к этому самому, в общем.
Гурьев вошёл к себе в комнату. Шульгин закряхтел, заворочался, сел на кровати:
– Ну, что?
– Что?
– Взбил пенку в Танькиной ступке?
– Обожаю устное народное творчество, – просиял Гурьев. – Мог бы сказать попростому, как ты умеешь. Однако ж нет, совсем другие слова нашёл, ласковые. Очень смешно. Обхохочешься.
– Бабоукладчик.
– Это уже не так колоритно, – отмахнулся Гурьев.
– На кой она тебе сдалась?!
– Денис. Мы с тобой, кажется, договаривались.
– Смотрю я на тебя иногда… Не пойму, – с тоской проговорил Шульгин. – Вроде ты нормальный. Вроде такой… Ну, почти всегда. Вроде можно с тобой хоть к чёрту в зубы. А иногда?! Что ты ищешь, Кириллыч? Думаешь какую найти, чтоб езда поперёк? Дарья узнает – прибьёт тебя!
– Боцман, я тебе уже объяснял. Дарья – мой друг. Сколько раз нужно повторить?
– Это фуйня, что ты говорил. Главное, что она скажет! Тем более. Разве ж можно такую девку обижать, Кириллыч?! Она ж со всею душой к тебе!
– И я к ней, Денис. И я. Только всё это совсем не так, как тебе кажется. Или как тебе хочется. И она всё знает.
– Спятил. Как есть, сдурел. Ну, если тебя не тронет – так всем остальным точно небо с овчинку сделает. Что ж ты за зверь такой, Кириллыч… А Танька – да какой с неё толк, кроме этого?!
– Идика ты, Денис, покури, на воздух. Мне с Москвой поговорить надо. Сейчас рассветёт, и станет некогда.
– Знаешь, Кириллыч, о чём я думаю?
– Нет. Я не читаю мыслей.
– Я думаю, что лучше: уметь такое, как ты, или – всётаки не уметь?
– Мне – лучше уметь, Денис.
– Вот. Это точно, – Шульгин сгрёб с тумбочки папиросы и спички и, громко кряхтя и топая, вышел.
Городецкий слушал, почти не перебивая. Пачку бумаги извёл, поди, промелькнуло у Гурьева в голове. Была у Городецкого такая привычка – во время беседы и сопутствующих раздумий черкать на бумаге непонятные никому, кроме него самого, каракули. А уж в его сокращениях слов, оставляемых на служебных бумагах в виде резолюций, могла только Скворушка разобраться – бессменная секретарша сначала Вавилова, а потом – Городецкого. По наследству. По прямой. Гурьев улыбнулся своим мыслям.
– Ну, Гур, – присвистнул Городецкий. – Это ты сам раскопал? Волкодав.
– Да, конечно, – Гурьев вздохнул. – Такое бы я ни за что не потянул. Местные кадры, Варяг. Люди просто валяются на земле, никто и не думает подбирать.
– Давай мне сюда их, таких.
– А я с кем работать буду?! Пылесос ты московский, вот ты кто. Скажи, лучше, что там с этим бесом, Рыжухиным. Есть чтонибудь на него?
– Есть, – Городецкий помолчал. – Его в тридцать втором из ленинградского отдела попросили.
– Опля. А за что?
– В бумагах ничего умного не написано. А людей – иных уж нет, а те – далече.
– Ниточки какие?
– Нет. Ничего. В смысле – ничего интересного. Фамилия, имя, – настоящие, описание внешности – сходится, так что мы быстро управились, как видишь.
– И что посоветуешь?
– Совет тебе мой – короткий: актируй его к едрене фене.
– Я сейчас не могу.
– Я понял. Три дня хотя бы продержишься?
– Три – продержусь. А что ты успеешь за три дня?
– Я много чего успею. Жди нового уполномоченного по губе и чистильщиков. Больше двух дать не могу – подключите местные кадры по прибытии.
– Да это же просто царская щедрость, Варяг.
– Ты знаешь – чем могу. Жизнь за царя.
– Ладно, Сусанин. Как там девушка Надя?
– Жива твоя Надя, жива. И будет жить. Всё, работай, Монтессори. [87]
– И тебе, Варяг, не болеть.
Сталиноморск. 11 сентября 1940
Вера уже два дня состояла на службе в парикмахерской № 2 на улице Ленина – раввин Ицхок Зильбер оказался человеком слова. Заведующий парикмахерской, которому Гурьев принёс Верины документы, сделал свои, далёкие от действительности, но вполне устраивающие его, Гурьева, выводы. Столкновение ужасов, явственно обозначившееся на лице оберцирюльника Гурьева, правда, не слишком порадовало, но за неимением гербовой приходилось писать, на чём попало.
Он сел в кресло, положил руки на подлокотники, улыбнулся:
– Здравствуй, Веруша.
– Здравствуй, Яшенька, – тихо, только ему ответила Вера и улыбнулась, укутывая его простынёй. – Ты, вижу, побрился уже. Что тебе сделать – подровнять, уложить?
– Ты у нас мастер. Решай сама.
– Хорошо, – она кивнула и опять улыбнулась. – Какой ты молодец, что пришёл.
О, Господи, подумал Гурьев. Эти женщины – я когданибудь сойду от них с ума. Что же это такое? Отдавать, отдавать – всегда отдавать. Ничего не ожидая взамен. Ну, нет. Всё у тебя будет, Веруша. Обещаю. Тебе – обещаю.
– Как тебе работается?
– Хорошо работается. Уже даже постоянные клиенты появились.
– Прелесть какая. Не обижают тебя – начальство, коллеги?
– Девочки?! Да ты что. Тут коллектив замечательный. Просто чудо. И Наум Исаевич – очень хороший человек. Напрасно ты его напугал. Я понимаю – ты не со зла, ты за меня беспокоишься. Не нужно, Яшенька. Я сильная. Уж больше, чем ты для меня сделал – такое, наверное, никому не под силу. А за то – прости, это ведь я от слабости бабьей…
– Веруша. Голубка, ты что говоришь.
– Знаю, не думай, знаю, что говорю, – светлая, такая светлая играла на её губах улыбка, что у Гурьева медленно, но неумолимо возник в горле колючий комок. – Проси, чего хочешь, Яшенька. Мне для тебя ничего не жаль. Нужно чтонибудь?
– Нужно.
– Говори.
– Если услышишь – от клиентов, от захожих каких людей – разговоры такие, что тебя испугают, насторожат, – не раздумывай, сразу звони мне. В школу звони – а с завтрашнего дня по номеру девятнадцатьдевятнадцать, добавочный ноль один. С автоматического аппарата просто шесть цифр набрать. Запомнила?
– Запомнила, Яшенька. Что случилось? Плохое что?
– Пока ничего, но может, – он коротко, скупо объяснил, о чём речь. – Я руку держу на пульсе, конечно, но всякое, знаешь ли, случается.
– Что ж за нелюди бывают на свете, Яшенька, – горестно вздохнула Вера. – Не сомневайся – если что…
– Нелюди, – кивнул Гурьев. – Очень правильное слово, голубка. Нелюди. Нежить.
Сталиноморск. 11 сентября 1940
В школе уже начинались вызванные появлением Гурьева процессы, которые он ожидал и на которые очень надеялся. Правда, Завадская пребывала по этому поводу в тихой панике, но его это не слишком смущало. Не возникало и разговоров среди коллег, которых он весьма опасался: до взрослых куда труднее достучаться, это дети всё схватывают на лету. Коекто из учителей был безотчётно напуган, конечно же, не догадываясь об истинной подоплёке разворачивающихся событий. Но, в общем и целом, – всё было пристойно. Штатно.
Идиллическое расположение духа, в котором пребывал Гурьев, легко всходя на школьное крыльцо и расточая вокруг себя ласковые улыбки, адресованные расцветающим при его появлении детским лицам, было грубо разрушено явлением маслаковской физиономии:
– Товарищ Гурьев! Зайдика ко мне в кабинет.
Гурьев не то, чтобы позабыл о спектакле, устроенном для Маслакова в первый день учебного года, но както за суетой последних дней не удосужился проследить за эффектом – уж очень был занят. А Маслаков, который, похоже, был так погружён в свой собственный мир, преисполненный его, Маслакова, значением и ролью в деле партийного и советского строительства, что даже всем понятные и вполне ясные ситуации преломлялись в его голове прямотаки ошеломляюще своеобразно. Вычислить это для Гурьева не составило большого труда: у Маслакова всё было написано на заднице. Потому что на том месте, где у нормальных людей находится обычно лицо, у Маслакова находилась именно задница – с усами и ушками. Как же мне хочется когонибудь убить, с нежностью подумал Гурьев. А вслух осведомился:
– Надолго?
– А?! – опешил Маслаков.
– Я жутко занят, Трофим Лукич, – пояснил Гурьев. – Могу уделить тебе ровно, – он вскинул руку с хронометром к физиономии Маслакова и постучал ногтем по стеклу циферблата, – три минуты. – И добавил с милой улыбкой старого аппаратного волка: – Время пошло.
– Это как такое?! – ошалело спросил Маслаков. – Ты кто?! Ты… как такое?!
– Это, Трофим Лукич, новое штатное расписание, – заговорщически склонился к нему Гурьев. – Если тебе, паче чаяния, есть, что мне доложить – докладывай. Если не укладываешься в регламент – подай письменный рапорт. А разговоры с тобой рассусоливать – это мне совершенно некогда. Так я тебя слушаю. Внимательно.
– У?!? – сказал Маслаков. – А?!? Эээ…
– Гласные звуки проходят в первом классе. Что ты их знаешь все наизусть – верю. Говори, меня дети ждут.
Маслаков, похоже, собрался хлопнуться в обморок – во всяком случае, усы на заднице поехали в одну сторону, а ушки – совершенно в противоположном направлении. Сшибка ужасов, происходившая в мозгу Маслакова и отражавшаяся на физиономии, являла собой хотя и забавное, во многом поучительное, но отнюдь не приятное зрелище. Гурьев нахмурился и покачал головой:
– Соображаешь туго, товарищ Маслаков. А девушки – они, знаешь, любят длинноногих и начитанных. Так ты чтонибудь понял? У тебя осталось ровно сорок секунд.
– Ттт, – проскрипел Маслаков, становясь буромалиновым. – Кк. Пппп.
– Давай так, товарищ Маслаков, – Гурьев решительно взял несчастного Трофима Лукича стальными и цепкими, словно капкан, пальцами за плечо. Разворачивая и придавая ему необходимое ускорение, Гурьев посоветовал: – Пойди к себе, товарищ Маслаков. Повтори в тишине и покое все звуки русского языка. Гласные и согласные. И крепко, очень крепко, подумай – а надо ли товарищу Гурьеву лишний раз на глаза попадаться? Подсказку даю – не надо.
Он оттолкнул Маслакова и, наклонив голову набок, проследил, как тот врезался жирной спиной в стену. Гурьев кивнул и собрался идти дальше по своим делам, когда услышал за спиной тихий, звенящий торжеством и немного – совсем чутьчуть – насмешливый, Дашин голос:
– Гур Великолепный.
* * *
Собственно, Гурьев не ожидал, что Маслаков сдастся совсем уж без боя. Но вот то, что партийное животное бросится искать управу на него, Гурьева, у Завадской – это было забавным, более чем забавным, сюрпризом. Завадская набросилась на Гурьева практически без предисловий:
– Вы больны?! Вы хромаете?! Или это новая мода такая московская – с тростью разгуливать?!
– В некотором роде, – беспечно просиял Гурьев. – Ну, это, разумеется, никакая не трость, но всё равно – не надо, не надо бояться.
– Яков Кириллович, миленький! Да что же вы такое творите?! Да он же вас … Ох!
– Ладно, – сжалился над ней Гурьев. – Ладно, Анна Ивановна. Давайте, я вам коечто объясню. Обычно я этого не делаю, но тут уже у нас обнаружились некоторые чрезвычайные обстоятельства. Так я начну, с вашего позволения?
Гурьев прекрасно знал и понимал, что происходит – и с детьми, и с учителями, и даже с Завадской. Всё это химия, усмехнулся он про себя. Химия, сплошная химия – и ничего больше. Просто в последние годполтора всё происходило со скоростью, изумлявшей его самого. Вот и в школе. Как когдато для Тэдди, он мгновенно сделался всеобщим детским кумиром. В костюме, сидящем на нём, словно на манекене, сорочках и галстуках, а не в сталинке и галифе. В туфлях, а не в смазных сапогах. С непокрытой головой – символом свободы мысли и духа, а не в дурацком «партийном» картузе или полублатной кепчонке. С причёской, уложенной волосок к волоску, а не стриженый под тюремную «чёлочку». Пахнущий не порохом и раной гнилой, а кёльнской водой «4711». Другой. Совсем другой, всё делающий не так, подругому. Да, против него всё ещё работала громадная инерция партийной агитационной машины. Но она уже буксовала – всё чаще, всё, глубже. А прямого столкновения с ним – не выдерживала вообще. Ломалась сразу же. И это его радовало. Он поудобнее устроился в кресле и улыбнулся Завадской во все свои тридцать два сахарнобелых, ровных зуба:
– Есть у меня один приятель. Можно сказать, друг. Настоящий товарищ. Он – народный филолог. Нигде и никогда не учился ничему такому. Но в придумывании всяческих прозвищ, вообще в игре со словами – ему нет, помоему, равных. Так вот. Он, и другие мои друзья, однажды устроили новогоднюю шутку. Изготовили для меня такой смешной, очень смешной адрес, где обыграли… Моё прозвище. Вы же знаете, как меня дети зовут за глаза?
– А некоторые – не только за глаза, – проворчала заинтригованная Завадская. – И что же?
– Да ничего. Получилось очень весело. Есть всякие разные заболевания со смешными названиями – ну, там, ящур, храп, всякие, в общем. А эта болезнь так и называется – «гур». Первая стадия, которую вы сейчас наблюдаете в школе, особенно у мальчишек, называется «огуревание». Она состоит, в основном, во внешнем копировании моих так называемых «штучек». В подражании походке, словечкам, взгляду, интонациям. Поиске в зеркале гуреческого профиля. Потом, когда первый ужас и восторг утихают, начинается стадия номер два – «огурение», которая, при соответствующем гурировании, гуровании и гуровке, приводит к значительно более глубоким изменениям. Начинается ровное, спокойное гурение. Чтото похожее на обмен веществ или круговорот воды в природе. Конечно, случаются и накладки. Например, у мальчишек – если их перегурить – начинается безудержное гурство, гуровство, переходящее иногда в самую настоящую гурячку. С мальчишками, пожалуй, труднее всего – в этом деле допускать гуровотяпства нельзя ни в коем случае. Тогда, конечно, негурно, негурошо. Огурчительно, так сказать. Тяжёлая форма огурения – гуробесие – лечится только смехом, больше ничем. Чтобы встряхнуть такого страдальца, можно крикнуть ему в ухо: «Гурак!» или «Гурень!». Или – «Сгурел?!» Обычно этого хватает. Вообщето объегурить любого человека достаточно легко. Не всем, конечно, но тем, кто владеет в совершенстве методом научного гуризма. Иногда особо неподдающихся бывает целесообразно гурануть, тогда они могут оказаться полезны, хотя и не всегда позволяют себя как следует отгурить. Надо сказать, несмотря на отдельные побочные эффекты, явление это само по себе положительное. Мы долго и весело над всем этим смеялись. А отсмеявшись, поняли: никакая это не шутка. Всё именно так и есть. Я вижу, вы улыбаетесь. Похоже, я вас убедил?