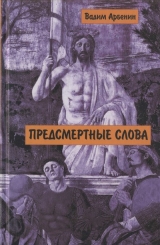
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
В восемь часов утра 3 апреля 1897 года дежурство возле постели умирающего ИОГАННЕСА БРАМСА приняла фрау Трукса, преданная композитору вдова венского литератора, у которой он снимал квартиру в доме № 4 по улице Карлсгассе. От прежнего здоровяка и жуира осталась одна тень. Кроткое спокойствие и просветлённость всё более и более овладевало Брамсом. «Бокал вина», – попросил он фрау Труксу. Вино сопровождало великого немецкого композитора всю жизнь, он был даже почётным завсегдатаем кабачка «Красный ёж» в Вене, и влюблённая в Брамса сердобольная вдовушка, воспользовавшись отлучкой доктора, вино ему подала. Доподлинно известно, что это был рейнвейн из погреба старых кёльнских друзей Брамса, и, несомненно, отменного букета, потому что композитор, сладострастно почмокав губами, его оценил: «Ах, какой приятный вкус. Последнее наслаждение. Спасибо». И через полчаса неженатый, бездетный и никому полностью не принадлежавший Брамс испустил дух без больших страданий. Последним его произведением стала Одиннадцатая прелюдия из цикла «О, мир, я ухожу». На мачтах всех судов, стоявших в порту его родного Гамбурга, в этот день были приспущены флаги.
Четвёртый президент США и один из «отцов» Конституции страны ДЖЕЙМС МЕДИСОН угостил пользовавшего его доктора хересом, только что доставленным из Англии, и пригубил его сам. Потом, правда, посетовал: «Мой вкус, доктор, сильно пострадал от болезни, и я уже не могу, как прежде, отдать должное этому замечательному напитку». – «Херес действительно хорош, – заверил его доктор. – Высший сорт». Назавтра, около 6 часов утра, преданный слуга Медисона, Дженнингс, побрил хозяина, а другой слуга, Сакки, такой же старый и такой же скрюченный ревматизмом, как и сам Медисон, подал ему завтрак, а племянница, Нелли Виллис, стала кормить дядю с ложечки. Ей показалось, что он с трудом проглатывает кашу, и спросила: «Что такое, дядя Джеймс?» – «Да не по вкусу мне всё это, только и всего, моя дорогая», – ответил тот. И вслед за этим его голова резко упала на грудь, и прервалось дыхание. Словно бы затухла свеча. Это случилось в вирджинском поместье Медисонов 28 июня 1836 года.
И герцог Йоркский ДЖОРДЖ КЛАРЕНС, родной брат английского короля Эдуарда Четвёртого, вознамерившийся сам стать королём и приговорённый за это парламентом к смертной казни, тоже захотел перед смертью выпить. «Велите подать мне вина, – потребовал он у палача. – Только сладкого, моего любимого». – «Да сколько угодно, ваша светлость, – ответил тот. – Нет ничего проще, да ещё за 50 тысяч экю. Последнее желание королевского брата для меня закон». И окунул бедного Кларенса головой в десятивёдерную бочку со сладким мальвуазийским вином, почему-то оказавшуюся в подвалах Тауэра. «И тогда, не в силах дышать, тот испустил дух». По другой легенде, однако, Кларенс просто сам пожелал, чтобы его утопили в бочке с вином. Он, видите ли, хотел себе самой сладкой смерти.
Во время Тридцатилетней войны предводитель императорской армии и католической лиги Иоганн Тилли захватил баварский город Ротенбург и приговорил всех членов магистрата, протестантов, к смертной казни. Но потом, распотешившись таубергским вином и сменив гнев на милость, предложил кому-либо из сенаторов выпить одним махом огромную кружку этого вина, в которую входило тринадцать обычных пивных кружек. «Я не только помилую всех вас, но и пощажу город от разграбления», – пообещал он. Вызвался старик НУШ, бывший бургомистр и бывший содержатель трактира «Золотой кабан». Со словами «Приятнее захлебнуться вином, чем быть повешенным», он пригубил кружку и сделал «чудовищный глоток». Возвращая пустую посудину графу Тилли, он едва слышно пробормотал: «Сдержи своё слово, граф. Второго города я уже не спасу». И упал без чувств на пол.
А российский император АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ МИРОТВОРЕЦ возжелал перед смертью пенистого ржаного кваса. Вышел он сам по себе из Ливадийского дворца под Ялтой в парк и возле местного ларька запросто выпил кружку такового. Узнав об этом, вызванный из Москвы доктор Григорий Захарьин вышел из себя и спросил в довольно резкой форме: «Кто вам разрешил квас, Ваше Величество, с вашими-то почками?» Обычно простой в обращении «крестьянский царь» ответил ему тоже резко, но не без юмора: «Я вам удивляюсь, профессор. Не волнуйтесь, квас выпит с Высочайшего разрешения». А потом сказал лакею: «Ты слышал, что сказал доктор? А я, русский император, приказываю тебе: „Налей мне стакан квасу!“» Тем же вечером он шёпотом попросил у дочери Ольги: «Дорогая, я знаю, там, в соседней комнате, есть мороженое. Принеси его сюда, но смотри, чтобы никто не увидел». Александр съел тарелку мороженого и в изнеможении откинулся на подушки. Днём ранее он попрощался со своей армией. На плацу у нового дворца была выстроена рота 16-го стрелкового Его Величества полка. «Здорово, стрелки!» – прозвучал громкий и низкий голос императора всея Руси. «Здравия желаем, Ваше Величество!» – последовал дружный ответ солдат. Александр медленным шагом обошёл фронт. «Спасибо, стрелки!.. Славно!..» Это был его последний привет армейским частям. Следующими были сын, наследник Николай, с невестой. «Ники, Алиса, даю вам моё благословение. Люби свою жену, Ники, как я любил твою мать. Держи честь и помни, кто ты. Служи Богу, России и своему народу и… будь твёрд… России боятся из-за её огромности… У нас нет союзников… Избегай войны… Теперь уходите… я очень устал…» Умирающего от нефрита Александра пыталась приободрить императрица Мария Фёдоровна, сидевшая рядом с ним и согревавшая своим дыханием его коченевшие руки. Находясь в ясном сознании, царь устремил на неё полный мольбы взгляд и пробормотал: «Чувствую свой конец». Она пыталась ободрить мужа. «Нет, – твёрдо ответил он. – Это тянется слишком долго. Чувствую, что смерть близка, чувствую свой конец. Будь покойна. Я совершенно покоен. Я готов к смерти». Александр обнял жену рукой и поцеловал её. Веки его смежились. Он положил голову на плечо Марии Фёдоровны, словно бы собираясь заснуть. «И несколько времени перед смертью произнёс: „Я не боюсь умереть“». Она не сразу поняла, что он перестал дышать. Был четверг, 20 октября 1894 года, 2 часа 15 минут пополудни. Любимый попугай царя прокричал: «Кончено… Кончено…» Императорский штандарт был приспущен на шпиле дворца. Стоявший на рейде крейсер «Память Азова» произвёл траурный салют всеми своими орудиями. Тринадцатый император российский правил ровно тринадцать лет.
Захотел перед смертью хлебного квасу и отец Петра Первого, кроткий и милостивый царь АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ТИШАЙШИЙ, второй монарх из династии Романовых. Ничто не предвещало трагического исхода. Накануне был царь весел и здоров, принимал послов из Голландии, смотрел с царицей и царевнами комедию с заезжим фокусником и слушал военных музыкантов, разных там трубачей и литаврщиков. Но вот дохнуло на него лёгким сквознячком, и слёг царь в постель. Иноземных лекарей он не признавал или остерегался, лекарств и микстур избегал, лечился всегда сам по травникам и постоянно возил за собой большой сундук с лекарственными травами. И на этот раз, весь в жару, потребовал: «Дайте мне квасу, только очень холодного, чтобы в нём были кусочки льда. И на живот мне положите толчёного льду. И в руку тоже». Но это не помогло. Умирал царь «смертью благой и доброй» – в просветлении и покаянии. И последними его словами было традиционное волеизъявление умирающего: «Освободите из темниц узников, а должников я прощаю от долгов и обязательств. Передайте скипетр и державу сыну моему Фёдору Алексеевичу». Болезнь царя несколько времени держали в тайне, но на рынке уже закупали чёрные сукна и другие траурные ткани.
Русский художник НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ, живший в Индии, в долине Кулу, в предгорьях Гималаев, пил за обедом гранатовый сок, сладкий, густой, холодный, и смаковал его, даже облизывался. И вдруг поперхнулся и побледнел. «Что с тобой, Николя?» – встревожилась жена Елена Ивановна. «Да так, ничего… Слабость… Пойду прилягу». – «Я тебе помогу». – «Нет-нет, дорогая, я сам». Через полчаса Елена Ивановна наведалась в спальную комнату. Рерих был мёртв. Буквально накануне он попросил своего слугу: «Отведи меня в сад». И там спокойно, с какой-то определённой уверенностью, выбрал для своего ритуального погребального костра несколько вековых деревьев: «Вот это… Вот это. И ещё вот это». Через два дня перед домом Рериха костёр из этих деревьев и запылал. На мольберте художника осталось незаконченное полотно «Приказ Учителя». На камне, сорвавшемся со скалы, высечено на хинди: «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сём месте 30 мачхар 2004 года Викрам эры, да будет мир».
Утром 7 октября 1959 года американский певец МАРИО ЛАНЦА, который лечился в клинике Валле Джулия от избыточного веса, а попутно и от незалеченного флебита, попросил своего импрессарио: «Принесите мне бутылку пива „Лёвенброй“», выпив каковую, позвонил жене Бетти: «Прекрасно себя чувствую, сыт по горло докторами и завтра же буду на съёмках». И на радостях запел, запел свои любимые оперные арии. Лежал Ланца в палате № 404 на четвёртом этаже, но слышно его было даже в подвале и в больничном парке, и все пациенты и врачи клиники говорили друг другу: «Это поёт Марио». Его голос и внутренняя страсть покоряли и завораживали. А вечером того же дня голос «поющего богам» певца оборвался на полуноте. Грузный человек, он решительно поднялся с постели и вдруг, пошатнувшись, схватился за край прикроватного столика. В палату на шум вбежала Бетти и нашла мужа на полу, беспомощно повторявшего: «Мне плохо… Наверное, это из-за жары. Нужно показаться врачу… Ничего страшного, всё хорошо». Через час стало известно, что знаменитый на весь мир актёр и певец, «американский Карузо», которого Артуро Тосканини прилюдно назвал «лучшим голосом XX века», внезапно скончался – тромб из ноги добрался до сердца, и смерть наступила мгновенно. Марио Ланца был избыточен во всём. Даже в похоронных процессиях. Их было три: в Риме, где он умер; в Филадельфии, где родился; и в Голливуде, в фильмах которого он играл оперных певцов и где миллионами записывал граммофонные пластинки.
И французский писатель МАРСЕЛЬ ПРУСТ пожелал перед смертью свежего ледяного пива, единственное, что в него ещё можно было влить. И когда муж его экономки, горничной, сиделки и кухарки Селесты Альбаре сгонял за ним в ресторан отеля «Риц», что на Вандомской площади, сказал ему: «Спасибо, мой дорогой Одилон, что съездили за этим пивом». Но тотчас же прошептал Селесте: «Принёс слишком поздно». Умирая от воспаления лёгких в «убогой и гнусной меблированной квартирке» на улице Амлен, 44, близ Булонского леса в Париже, отказываясь от помощи врачей, Пруст со стоическим упорством, ночи напролёт, спешил закончить свой огромный цикл романов «В поисках утраченного времени». Оставаясь в постели, склонив голову, сцепив руки и удерживая карандаш двумя указательными пальцами, он правил гранки последних глав «самой великой французской книги XX века» перед отправкой их издателю Гастону Галимару. Вносил в текст исправления, вставлял новые куски в корректурные листы и диктовал племяннице Селесты сделанные им дополнения и поправки к тому месту своей книги, где описана смерть Бергота. Вдруг он упал на подушки, задыхаясь: «Хватит, я больше не могу! Этот Бергот!» Его преследовало видение сотворённого им героя. Теперь все сгрудились вокруг него. Испробовали всё, но, увы! – было слишком поздно. Банки больше не держались. С бесконечными предосторожностями брат Марселя, профессор Робер Пруст, приподнял его на подушках, чтобы сделать укол, а Селеста помогла отвернуть простыни. «Ах! Селеста, зачем?» – услышала она и почувствовала, как пальцы Марселя легли ей на руку и, силясь помешать, ущипнули её. «Я тебя совсем затормошил, дорогой малыш, я делаю тебе больно?» – спросил Робер. И на едином выдохе Марсель произнёс свои последние слова: «О! Да, дорогой Робер, больно!» Он угас около четырёх часов, тихо, без единого движения, с широко раскрытыми глазами, обведёнными глубокими чёрными кругами. Подле него остался лежать закапанный отваром конверт с последними написанными им неразборчивыми словами, где можно было прочитать лишь «Форшвиль», имя ещё одного из созданных им героев, которые «до самого конца питались его существом и поглотили последние крохи его жизни».
Вот и ФРАНЦ-ИОСИФ, император Австрии и король Венгрии, тоже работал до последнего часа. «Оставьте бумаги, я сам их почитаю и поработаю над ними», – сказал монарх своему адъютанту Альберту Маргутти, когда тот принёс ему свежую почту и документы. Через полчаса дочь императора Валерия заглянула к нему в кабинет в Шёнбруннском дворце и нашла отца сидящим в кресле, с воспалённым лицом и в расстёгнутом мундире. Как-то так случилось, что он простудился, простудился единственный раз в жизни. Взор выжившего из ума старика, ставшего уже просто символом, был бессмыслен, и он мало что понимал в происходящем вокруг него. Однако камердинер всё же задал ему ритуальный вопрос: «Ваше Величество, какие будут распоряжения на завтра?» – «Разбудите меня в половине четвертого утра», – последовал ответ. Короля священного города Иерусалим, каковым считался Франц-Иосиф, уложили в постель, и он попросил: «Дайте мне чего-нибудь попить». Ему дали несколько глотков некрепкого чая, и едва слышным голосом он прошептал: «Замечательно…» И это было его последнее слово. Пришла августейшая любовница императора, неудачливая актриса, но искусная акушерка Катарина Шратт, и положила на их былое любовное ложе, а теперь смертный одр императора, две белые розы.
Король Сербии АЛЕКСАНДР ОБРЕНОВИЧ читал перед смертью исследование Стендаля «О любви». Читал вслух, читал королеве Драге, в королевской спальне, на ночь глядя. Драга была когда-то фрейлиной его матери и любовницей его отца, и Александру ещё в детстве нравилось сидеть на её красивых коленях. Вульгарная женщина не обделила Александра вниманием и ласками после его восхождения на престол и со временем была объявлена королевой. Когда сербские патриоты ворвались в опочивальню к чете, полураздетая королева Драга бесстрашно встала на их пути, заслонив Александра своим красивым телом, и первый удар саблей приняла на себя. Король же, с револьвером в руке, внешне ко всему безучастный, даже не шелохнулся и вдруг сказал: «Я хотел только любви». И был застрелен. Династия Обреновичей перестала существовать.
И русский поэт-символист КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ попросил жену: «Почитай мне, Элена, стихи Бальмонта». И Елена Константиновна раскрыла томик «Сонеты солнца, мёда и луны» и читала, читала, читала… Лицо умирающего поэта просветлело, оживилось, он весь пребывал в звуках, в воспоминаниях о звуках… Константин Дмитриевич лежал в маленькой, заставленной книжными полками комнате съёмного домика в городе Нуази-ле-Гран, недалеко от Парижа. Франция была оккупирована нацистами, и Бальмонты жили в бедности и заброшенности. Их поддерживали лишь грошовые пожертвования почитателей, почему-то больше иностранцев, и скромная «сербская пенсия». Беспомощного, больного и полуживого русского поэта, недавно вышедшего из нищей психиатрической клиники, немцы не трогали, относясь к нему с оскорбительным безразличием. В Рождественскую ночь 1942 года Константин Дмитриевич, откинув назад голову с длинными седыми волосами, несвязно шептал что-то, напевал отрывки из своих стихотворений. Потом замолк, мучительно вспоминая что-то, зажмурился и попросил жену: «А теперь, Элена, прочитай мне рассказ Ивана Шмелёва „Богомолье“». Это было как бы последнее паломничество поэта в Россию. Похоронили Бальмонта в могиле полной воды, гроб с телом «поэта утра и ночи» всё время всплывал, и его пришлось придавить гнётом.
Генерал-фельдмаршал, третий по счёту российский генералиссимус, князь АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИТАЛИЙСКИЙ, граф СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ и на смертном одре был полон огня, бредил войной и последней своей кампанией: «Генуя!.. Сражение!.. Вперед!..» – рвался он в бой, отчаянно сражаясь со смертью или с её авангардом. Потом добавил: «Долго гонялся я за славою – всё мечта. Покой души – у престола Всевышнего». «Меч русских, бич турок и ужас шляхты», как звали Суворова, умирал в доме своего племянника, графа Дмитрия Хвостова, известного поэта. Придворный врач Гриф тёр больному виски спиртом. Преклонный летами, истомлённый пятьюдесятью годами, проведёнными в битвах и военных лагерях, генералиссимус угасал. Он лежал, закрыв глаза, почти не дыша, – не легко брала его смерть. Наконец он словно бы окончательно подвёл итоги своих ратных трудов: «Как раб умираю – за отечество». И спросил призванного поэта Державина: «Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию?» – «По-моему, слов много не нужно: „Тут лежит Суворов!“» – «Помилуй Бог, как хорошо!» – умилился полководец. После чего у него вновь начался боевой бред, военные грёзы: «За мной, вперёд!.. Бей!.. Коли!.. Ура!.. Победа!.. Жаль, что я не умер на поле боя в Италии…» Все гвардейские полки были выстроены шпалерами на пути похоронной процессии от дома, где умер Суворов, до ворот Александре-Невской лавры. Павел Первый с небольшой свитой встречал её на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы. По приближении гроба с телом опального полководца император прослезился и снял треуголку. Весь тот день он был невесел, не спал всю ночь и только повторял одно лишь слово: «Жаль, жаль, жаль…»
И барон ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ ВРАНГЕЛЬ, генерал царской армии, главком Вооружёнными Силами Юга России во время Гражданской войны, тоже всё воевал. «У меня, доктор, в голове идут бесконечные боевые действия, – жаловался он профессору Алексинскому. – Передо мной непрерывно развёртываются картины Крыма, боёв, эвакуации… Голова всё время занята расчётами, вычислениями, составлением диспозиций… Картины войны всё время передо мной – атаки, перестроения, и я пишу всё время приказы… приказы… приказы…» Всё ещё не навоевался генерал Врангель! После чего минут сорок кричал он не своим голосом. Потом успокоился, тихо сказал: «Я слышу благовест… Боже, спаси армию…». И тихо скончался в 9 часов утра в доме № 17 по улице Белль-Эйр в Брюсселе. Скончался, как тогда говорили, от «неизвестной болезни», которую лечащие его врачи определить так и не смогли. В роковой его день ему не было и пятидесяти лет. В этот день в Брюссель вошли войска германского вермахта…
И тридцатисемилетний генерал-лейтенант ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ КАППЕЛЬ, не приходя в сознание, в бреду и горячке всё повторял: «Армии… Армии…» и после небольшой паузы: «Я беспокоюсь за фланги… Пусть войска знают…» Главком Восточного фронта адмирала Колчака, Каппель после неудачной попытки овладеть Красноярском уводил 3-ю армию в Монголию. На бурном порожистом притоке Енисея, реке Кан, раненный в руку Каппель, в 35-градусный мороз провалился в полынью и слёг с двусторонним крупозным воспалением лёгких и отмороженными ногами. У него были ампутированы пальцы и пятки на обеих ногах. Так называемый Сибирский Ледяной поход закончился для российского генерала на койке лазарета-теплушки румынской батареи имени Марашети. Эта батарейная теплушка входила в состав чешского санитарного поезда № 3, который шёл во Владивосток. «Как же я попался!.. Как же я попался!.. Конец!.. Конец!..» – тяжело дыша, произнёс Каппель, на минуту придя в сознание, и умер в 11 часов 55 минут утра 26 января 1920 года, когда поезд подходил к маленькому «номерному» разъезду в 17 верстах от станции Тулун, что под Иркутском. Большинству россиян имя Каппеля знакомо по фильму «Чапаев», где превосходно обмундированные офицеры Каппелевского полка идут в «психическую» атаку на красные позиции[2]2
Недостоверный факт: противостояния чапаевцев и каппелевцев никогда не было; к тому же в фильме братьев Васильевых каппелевцы почему-то маршируют в форме офицеров генерала Маркова, но под знамёнами генерала Корнилова.
[Закрыть]. Каппеля похоронили сначала в Чите, а потом перезахоронили в китайском Харбине. Говорят, что, когда в августе 1945 года Красная Армия освободила этот город, маршалы Василевский, Малиновский и Мерецков побывали на могиле «маленького Наполеона». Кто-то из них будто бы обронил: «Так вот он где, Каппель…»
И другой царский военачальник, генерал-майор от кавалерии АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИГНАТЬЕВ, всё никак не мог вложить шашку в ножны. Российский военный атташе и представитель Генштаба во Франции в годы Первой мировой войны и уже позднее, в советское время, известный дипломат и генерал-лейтенант Красной Армии, он, умирая на госпитальной койке, всё командовал в бреду: «Третий эскадрон, за мной!» И во главе призрачного эскадрона седой кавалергард, прозванный недоброжелателями «красным графом», умчался в Вечность.
И главнокомандующий войсками южан в Гражданской войне США РОБЕРТ ЭДВАРД ЛИ, впав в бессознательное состояние, всё отдавал беспрерывные приказы своим давным-давно почившим собратьям по оружию: «Не останавливаться… Атланта сейчас важнее Ричмонда… Занять всю долину Миссисипи!.. Передайте генералу Хиллу подниматься в атаку!» Затем словесная канонада прекратилась – генерал впал в кому и лишь безучастно смотрел на коленопреклонённых перед его постелью домочадцев. А ведь ничего не предвещало такого исхода. Накануне Ли спокойно сидел в своём кресле возле окна и всматривался в зелёные холмы Вирджинии, затянутые пеленой октябрьского дождя. Временами он клевал носом под звуки «Песни без слов» Мендельсона, наигрываемой его дочерью Милдред. Когда же она заиграла «Похоронный марш», генерал порывисто поднялся, надел свою пропахшую порохом фуражку, походя пожурил дочь за странный выбор музыкальной темы, поцеловал её и поковылял к двери. Он вернулся из церкви поздно вечером, когда семья уже сидела за ужином, привычно склонил голову в молитве, но не смог уже вымолвить и слова – лишь невнятное бормотание слетало с его губ. Дом сотрясали порывы штормового ветра и ливневого дождя. Генерала положили на кровать, миссис Ли, сидя в кресле-качалке, держала его влажную от холодного пота руку. Настенные часы отбивали последние часы жизни генерала. И в какой-то момент он твёрдым и ясным голосом отдал последнюю свою команду: «Сворачиваем лагерь! Снимаемся! В поход!» Глубокий вздох, и всё было кончено. Часы отбили 9.30 утра 12 октября 1870 года.
Тот, кто победил генерала Роберта Ли в Гражданской войне, генерал УЛИСС СИМПСОН ГРАНТ, неожиданно приподнялся в кресле, блуждающим взглядом осмотрел комнату в своём доме на вершине горы МакГрегор, под Саратогой, и прошептал: «Пушки сделали своё дело» и схватился за горло – у него был рак языка. Потом вновь обратился к перепуганной семье со словами «Пушки сделали своё дело», после чего опять опустился в кресло. Потом взял лист бумаги и корявым почерком нацарапал: «Я хочу лечь в постель». Собравшиеся подле него врачи многозначительно переглянулись – это были слова, исполненные для них большого значения: до этого генерал, он же в прошлом и дважды президент США, всегда спал в кресле. «Ну что, удобно вам лежать в кровати?» – спросил его один из врачей. «Да, – прошептал Грант. – Очень удобно». К нему подошёл сын, полковник Улисс Грант младший, и спросил: «Отец, ты чего-нибудь хочешь?» – «Воды», – прошептал тот, и к его губам поднесли влажную губку. Но горло Гранта вновь перехватило болезненным спазмом, и он жестом попросил бумагу и карандаш. «Конечно, моя жизнь дорога моей семье; была бы дорога она и мне, если бы я мог полностью поправиться… Никогда не было никого, кто бы так хотел умереть, как я», – написал Грант свои последние слова. И это были слова «человека, умевшего и могущего драться, драться, драться» и лозунгом которого было «Вперёд!»
Но то были всё генералы – им такие слова на смертном одре простительны. А вот мирный-то писатель НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ чего? «Если послать в Шлезвиг-Гольштейн тысяч тридцать шведского войска, оно легко разобьёт все силы датчан и овладеет Ютландией и всеми островами, кроме разве Копенгагена, который будет защищаться упорно…» Доктор Кротков с удивлением слушал, как отставной титулярный советник в бреду по памяти читал отрывки из только что переведённой им «Всеобщей истории» Вебера. Накануне никогда серьёзно не болевший Чернышевский сильно простудился, поехав со своими статьями на железную дорогу и попав там под сильный осенний ливень в одном люстриновом пиджачке. «Покажите мне язык», – попросил его доктор, подозревая в больном приступ болотной лихорадки, которая была в Саратове нередка. «Язык мой… толст… его высунуть нельзя… если… его… высунуть… то… его… отрежут…» – ответил Чернышевский. Он лежал в одной из комнат съёмного дома на Соборной улице родного Саратова, куда незадолго до этого его вернули из астраханской ссылки – туда его, безвредного автора, упекли за роман «Что делать?», в общем-то, полезную для юношества книгу. И продолжал в бреду: «Да-с, да-с, так где же это, да-c… когда мы приехали в Белград по смерти князя Никиты… этого … человека… дни… сочтены… осталось ему… жить… не более полторы… недели… бессилие врача – оскорбительно…» Он стал заговариваться, и его последними словами были: «Странное дело – в этой книге ни разу не упоминается о Боге…» О какой книге говорил Чернышевский, неизвестно.
«Ах, с какой прекрасной свитой предстоит мне войти в Вечность!..» – воскликнул со смертного одра в Турнельском дворце ГЕНРИХ ВТОРОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ. Он имел в виду тех своих кавалеров, которых сам же и отправил на плаху. Короля поразил «в честном придворном поединке, не на жизнь, а на смерть, при свете дня, на глазах у всего Парижа», капитан шотландской гвардии сеньор Габриэль Монтгомери. Обломок его копья угодил в левый глаз Генриха и вышел через висок, «потому что опустилось забрало». Король оставался верхом на своём восхитительном турецком скакуне по кличке Беда, пока его, падающего, не подхватили оруженосцы. «Я умираю в отчаянии, это правда, но умираю отомщённым, – шептал смертельно раненный Генрих. – Моего убийцу приговорили к смерти, и я надеюсь дожить до минуты, когда мне сообщат, что ему отрубили голову». Король упал на подушки, нос его заострился, лицо застыло навсегда. Говорили, якобы жена «угрюмого красавца», Екатерина Медичи, замеченная в адюльтере с Монтгомери, подговорила своего возлюбленного подменить копьё для куртуазного поединка на боевое копьё со стальным наконечником. Говорили, якобы в доспехах Монтгомери и на его коне выступал внебрачный сын Генриха Руаяль де Боревар, отомстивший отцу за свои унижения. Говорили, что якобы смерть королю предсказал его целитель, великий Нострадамус, над невестой которого тот надругался. Говорили, что и дворцовый астролог Лука Горико предупреждал: «…королю нужно избегать одиночных боёв… примерно на сорок первом году жизни». Всякое говорили… «Сын мой, ты теряешь своего отца, но не его благословение. Я молю бога, чтобы тебе посчастливилось больше, чем мне», – было прощальное слово Генриха сыну Франсуа. Хроникёр написал: «10 июля 1559 года Божья воля свершилась. Через час после полудня король почил». Вопреки легенде, «флорентийская торговка» Екатерина Медичи, низкорослая толстушка с нескладными руками и ногами, утратив мужа, испытала бесконечную скорбь и так и не утешилась в своём вдовстве. Она надела чёрный траур, а не белый, как было принято тогда при дворе, и снимала его лишь дважды за последующие тридцать лет, оба раза появившись на свадьбах своих сыновей в «мирском шелку».
Как только герцогине ДИАНЕ де ПУАТЬЕ, «амазонке с именем богини», блистательной и «законной» фаворитке Генриха Второго, со злорадством сообщили, что король умер, она, странно улыбнувшись, присела в низком реверансе перед королевой-вдовой Екатериной Медичи и вышла, бросив на ходу: «Что ж, значит, и я умерла тоже!» Перед смертью Диану, дважды вдову (в пятнадцать лет её выдали замуж за пятидесятипятилетнего сенешаля Людовика де Брезе), навестил знаменитый писатель-мемуарист Пьер Брантом и воскликнул: «Вы прекрасны! Откройте же секрет вашей молодости!» Действительно, в свои 66 лет Диана, которую при дворе звали «Нимфа Фонтенбло», сохранила по-девичьи гибкое и стройное тело, а лицу её завидовали все юные фрейлины королевского двора. «Когда-то о том же спрашивала меня и королева, – ответила кавалеру Диана. – Я честно сказала Её Величеству, что каждый день надо рано вставать, заниматься чем-нибудь приятным и соблюдать умеренность в еде. Ещё сказала, что нужно избегать косметики, однако Екатерина мне не поверила. Но, дорогой Брантом, я не открыла ей самого главного – нужно засыпать радостно, не держа в голове тяжёлых мыслей». И заснула Диана в эту ночь, на 25 апреля 1566 года, как всегда, с радостью и без тяжёлых мыслей. И ночь эта стала последней в её жизни. Перед самой кончиной она приказала своему управляющему в замке Анэ: «Молитесь за Диану де Пуатье! За мой счёт оденьте в траурные одежды сто самых бедных инвалидов из военного госпиталя и приюта, и пусть они со свечами и цветами в руках стоят на всём пути моего погребального кортежа». Через 250 без малого лет группа патриотов вскрыла склеп бывшей фаворитки короля, выбросила её прах в яму, а чернь разделила между собой хорошо сохранившиеся локоны и косы «самой красивой из красавиц», которыми некогда восхищался Генрих Второй.
«Когда я умру и тело моё вскроют, то увидят на сердце моём цветы каллы», – сказала ошеломлённым царедворцам, собравшимся возле её смертного одра, английская королева МАРИЯ ТЮДОР, она же МАРИЯ КАТОЛИЧКА, она же МАРИЯ УРОДЛИВАЯ, она же МАРИЯ КРОВАВАЯ. Находясь на пороге смерти, ревностная католичка отдавала сестре Елизавете последние наставления: «Сохрани католическую веру, позаботься о моих верных слугах и оплати мои долги». Помолчала и добавила с тяжёлым вздохом: «Верни кольцо Филиппу как знак моей неумирающей к нему любви». Она ещё не знала, что Филипп, король Испании, сделал предложение Елизавете, и, судя по бесконечным вздохам, умирала скорее от скорби и горестных мыслей, чем от какой-то там болезни. Напоследок Мария заказала мессу прямо у себя в спальне, с величайшим вниманием слушала священника и где-то повторяла за ним: «Miserere nobis, Miserere nobis, Dona nobis pacem. Даруй мне, о, милостивый Отец, благодать, чтобы, когда смерть закроет мои глаза, глаза моей души могли по-прежнему видеть Тебя, чтобы, когда смерть отнимет у меня речь, моё сердце могло по-прежнему радоваться и говорить Тебе: „In manus tuas Domine, commendo spiritum meam“» – «Господь, в твои руки я отдаю душу свою». Ничего подобного! – говорили другие очевидцы: Мария ушла из жизни столь тихо и спокойно, что все присутствующие, кроме доктора Цезаря, думали, что «королева погрузилась в сладкий сон». И лишь он один заметил, что «она отошла в мир иной» и первым засвидетельствовал переход от «короткого, слабого и презренного» периода царствования Марии к долгому и славному периоду царствования Елизаветы. Оплакивали её только преданные шут и шутиха. В памяти многих имя Марии Тюдор сохранилось по ассоциации с повсеместно известным и популярным ныне коктейлем «Кровавая Мэри». Рецепт коктейля крайне прост и незатейлив: водка с томатным соком, соль, перец и лимон добавляются по вкусу. Историки считают, что кличка «Кровавая Мэри» прицепилась к Марии Тюдор по недомыслию: хотя её правление и было омрачено бесконечными пытками и казнями протестантов, но сама королева отличалась нравом добрым, спокойным и незлобивым, была искренне набожна, великодушна, щедра и не мстительна.








