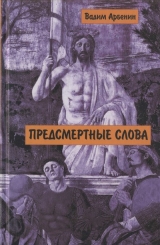
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Американский полярник ФРЕДЕРИК АЛЬБЕРТ КУК, который якобы достиг Северного полюса чуть ли не за год до Роберта Пири, официального его первооткрывателя, умирал в госпитале Нью-Рошеля. Врач, поставивший больному диагноз «безнадёжный», вдруг услышал, что тот что-то бормочет. Прислушавшись, он услышал: «Ну же, парни, ещё совсем немного – и мы на Полюсе! Вставайте же – и вперёд!» Преуспевающий бруклинский хирург, исследователь Арктики, путешественник и учёный, Кук на смертном одре вновь переживал события далекого 1909 года, когда поднимал каюров собачьих упряжек, валившихся с ног от усталости, холода и голода и засыпавших на ходу.
А вот другому путешественнику, американскому романисту и дипломату ВАШИНГТОНУ ИРВИНГУ всё не спалось: «Ну вот ещё одна кошмарная ночь, и знай поправляй себе подушки! Когда же всё это только кончится!» – жаловался он сиделке. Этой ночью всё, собственно, и кончилось – автор «Рассказов путешественника» и «Поездки в прерию» почил вечным сном.
А вот великий немецкий гуманист и драматург ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ, наоборот, испытывал непреодолимое желание спать и засыпал даже в самом весёлом обществе, среди самой оживлённой беседы. Вечером 15 февраля он дремал в доме купца Анготта в Брауншвейге, куда приехал, по обыкновению, рассеяться. Его падчерица Мальхен склонилась над ним: «Отец, пришли аббат Иерузалим и профессор Шмид». – «Теология в полном составе? – очень медленно спросил Лессинг. Ему было трудно говорить из-за стеснения в груди. – А почему так поздно? Сколько на часах?» – «Около девяти, дорогой отец». – «Однако друзей спроваживать не годится. Я выйду к ним». И, мертвенно бледный, покрытый холодным потом, он переступил порог спальни, с трудом поклонился пришедшим к нему друзьям и в изнеможении прислонился к дверному косяку. Мальхен тихо заплакала, но Лессинг ласково сказал ей: «Успокойся, не тревожься». Он дал уложить себя в постель. Его приятель по «Большому клубу» Дейвсон начал было читать ему вслух «Геттингенский журнал», но Лессинг прервал его: «Ах, милый друг, занавес опускается!». И это были последние слова великого гуманиста.
И второй после Шекспира драматург Англии, БЕРНАРД ШОУ, весельчак и юморист (он был женат, но так ни разу и не переспал со своей женой!), обратил свои последние слова к сиделке: «Сестра, вот вы всё стараетесь спасти меня, как какую-то старинную диковинку, а я уже кончен, кончен, я умираю. Моя песенка спета. Да и какая вам польза, если я поправлюсь? Ведь чем больше знаменитостей умрёт у вас с врачом на руках, тем больше славы вам перепадёт. Все задают мне вопрос: „Как живёшь?“ Наконец, это глупо – ведь я хочу умереть. Я очень старый человек и устал от всего. Живучий какой!.. Помереть не могу… Один перевод времени, пищи и внимания. Пожалуйста, не пытайтесь продлить мою жизнь. Не стоит этого делать. Что пользы реставрировать эту древнюю рухлядь. Я хочу умереть. По крайней мере, это будет что-то новенькое». И попросил поставить граммофонную пластинку с ирландской народной песенкой «Умирает старая корова». А после произнёс свои последние слова, произнёс с убеждённостью человека, знающего, что его ждёт: «Смерть пришла…» И умер спокойно, без сожаления. Когда маска страданий последних дней оставила его, лицо приобрело спокойное и даже немного лукавое выражение, как будто он улыбнулся напоследок.
«Как же хорошо вы за мной ухаживаете, – сказал знаменитый французский писатель АНРИ БАРБЮС молоденькой медицинской сестре, которая пользовала его в палате Кремлёвской больницы в Москве. И нежно провёл своей длинной ладонью по её щеке. – А мне уж осталось немного. Впрочем, я хочу знать, что меня ждёт». Потом довольно невнятно сказал что-то про «стол, который надо включить». Ему делали уколы, он забывался. И напоследок, совсем изнемогший, почти сражённый, Барбюс потребовал от врачебного персонала: «Телеграфируйте в Париж: „Надо спасать мир“». И с этим ушёл в мир иной.
Великий русский живописец ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ, задыхаясь от чахоточного кашля и неимоверно страдая, молил жену Елизавету Егоровну, которая не отходила от его постели, молил как о милости: «Лиши меня жизни». Она не отходила от его постели – утешала, ободряла и читала вслух, чтобы не давать ему говорить. За несколько мгновений до смерти он выслал её из комнаты и попросил уже своего брата доктора: «Сократи мою агонию, насколько возможно». Но умер тихо, точно заснул.
Первая леди английской литературы ДЖЕЙН ОСТИН на вопрос сестры Кассандры «Чего бы ты хотела, моя дорогая?» ответила: «Ничего, кроме смерти». И её желание сбылось.
«Возьмёт ли меня, наконец, Бог к себе из этого безумного мира?» – сорвался с губ писателя ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО потрясающий молящий призыв. Великий гуманист и миротворец устал от когда-то так любимой им жизни. Измученный страданиями, умирающий метр, лёжа в постели в доме своего базельского друга, день и ночь писал трясущейся рукой комментарии к Оригену – и не ради славы, и не из-за денег. «Ах, но для кого же мне теперь писать?» – вырывалось у него время от времени. До последней минуты прощания Эразм беседовал с друзьями, окружившими его ложе. Но в самый последний миг, когда удушье схватило его за горло, он, всю жизнь думавший и говоривший на пластичной и одухотворённой латыни, внезапно забыл этот язык. И коченеющими губами пробормотал едва ли не первые слова, выученные им в далёком детстве на материнском родном языке, нижненемецком диалекте: «Lieve God!» («Милый Боже!»). Ещё один вздох, и Эразм получил то, чего он так страстно желал для всего человечества – покой.
И английский романист ГРЭМ ГРИН, путешественник, тайный агент и искатель приключений, с детства одержимый жаждой смерти, но доживший до 87 лет («какая удручающая и бессмысленная цифра!»), умирая в госпитале Провидения в Веве, на Женевском озере, тоже жаловался: «Ох, ну почему же это тянется так долго…» Днём ранее он просил доктора: «Только, ради бога, не пытайтесь продлить мне жизнь. Я готов к смерти, сделал куда больше, чем собирался, и жутко, жутко устал… Я не хочу больше жить». А за неделю до этого он записал в своем знаменитом фолианте «Сны Грэма Грина, том шестой, 1979 – …» ключевые слова своего сна за номером 517: «Церковь, королева, Кэтрин». Чуть помедлил и добавил еще одно – «смерть». В этом сне его давнишняя подруга Кэтрин, разводя руками, обиженно говорила: «Ну что же ты так долго? Я уже заждалась тебя!» Записывать свои сны Грин приучил себя с 16 лет, и как минимум два его романа основаны на сюжетных ходах, которые ему просто приснились. Нет, Грин никогда не опускался так низко, чтобы их толковать – он их распутывал и разгадывал, следя за хаотичной работой подсознания. В день смерти он спросил свою любовницу Ивон Клоэт, полуграмотную француженку, на двадцать лет моложе его, которая сопровождала писателя последнюю треть его жизни, но которая не могла разделять его литературных пристрастий: «Будет ли это интересным познанием? Узнаю ли я, что лежит за гранью? Почему так долго длится этот путь?»
Граф и барон Российской Империи АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ АРАКЧЕЕВ, похожий «то ли на сторожа, то ли на дядьку, то ли на денщика, идущего из бани», умирал отшельником в своём уединённом новгородском имении Грузино на берегах Волхова, «среди жалких останков бесполезной деятельности». Император Николай Первый прислал к нему своего личного врача, старшего лейб-медика Якова Васильевича Виллие, но тот уже ничем не мог помочь некогда всесильному «железному графу» и «гатчинскому капралу» и лишь слушал его жалобы: «Я одной смерти себе желаю и ищу». И ведь было от чего её желать и искать! «Свирепую любовницу» Аракчеева, его домоправительницу, простую мещанку Настасью Фёдоровну Шумскую, «вечно пьяную, толстую, рябую, необразованную, дурного поведения, прескверную и злую женщину из крепостных», зарезали дворовые люди. А сына, поручика гвардейской конной артиллерии Михаила Андреевича Шуйского, то ли родного, то ли прижитого от «великой блудницы, ворожеи и обворожительницы», лишили флигель-адъютантского звания и сослали за «неприличные поступки» (беспробудное пьянство и буйство) в линейный полк на Кавказ, а позднее и на Соловецкие острова. Вот как тогда боролись с алкоголизмом! Даже какая-то Танюша, назначенная заменить «зарезанного милого друга» Минкину, сбежала от Аракчеева с доктором. В утренний час страстной субботы, 21 апреля 1834 года, накануне праздника Святой Пасхи, Аракчеев, сын небогатого сельского дворянина, «скудно одарённый разумом и щедро самомнением», упрямый и норовистый служака, дослужившийся до чина генерала от кавалерии и артиллерии и поста военного министра, тихо скончался, «не спуская полузрячих глаз с портрета Александра Первого в его комнате». Скончался граф, «обвязанный платком, омоченным в крови своей любовницы», на том самом диване, на котором когда-то, во время своего посещения Грузино, почивал сам самодержец Всероссийский, «освободитель Европы». До этого Аракчеев едва слышно произнёс своим гнусливым голосом: «Простите меня, кого я обидел». Однако последними словами пожелавшего смерти графа были: «О, проклятая смерть!», которые он прокричал, взмахнув руками и запихнув одну из них себе в рот, на глазах поражённых лейб-медика Виллие и камердинера Анисимова. В Грузинском соборе в это время шло утреннее богослужение и уже выносили плащаницу… По народному сказанию, Аракчееву, «отечественному самодуру, вышколенному немецкими унтер-офицерами, нежному сыну, дамскому кавалеру, шутнику и защитнику артиллерии, зелья в кушанье подсыпали».
Но не все так легко соглашались на встречу со смертью.
Например, богемный драматический артист ДЖОН БАРРИМОР из англо-американской семьи актёров. «Умереть? – вскричал он, с трудом приподнимаясь на постели. – Ну, уж нет, мой дорогой приятель. Ни за что. Никогда не позволит Барримор, чтобы с ним случилась такая обыденная и пошлая вещь, как смерть». И он противился курносой старушке с ржавой косой за плечами, подобно Григорию Распутину, роль которого сыграл в кино в 1932 году. Даже в свой смертный час он был пьян. Кто-то не поленился подсчитать, что Барримор за 40 лет своей жизни потребил 640 галлонов крепких спиртных напитков.
«Наихристианнейший» французский король ЛЮДОВИК ОДИННАДЦАТЫЙ, тот самый, которому на улице подавали милостыню, принимая его в сером рубище за нищего, боролся за жизнь, как только мог. Наконец лейб-медик осмелился предупредить его: «Сир, никакой больше надежды, ваше время приспело, вы должны умереть. Думайте о спасении души. Другого лекарства я не знаю». – «Согласен, – ответил на это собиратель французских земель, прозванный за это „королём-пауком“. – Но как можно позже. Я надеюсь, что Бог мне поможет. Гоните гонцов в Париж, привезите из Нотр-Дама священную склянку с миром и вновь коронуйте меня». Людовик верил, что миро и коронация даруют ему новую жизнь. Из своей угрюмой крепостной башни в Плесси-ле-Тур он уже не выходил, боясь, что его убьют, и запретил всем, даже исповеднику, произносить при нём слово «смерть». Ничто не помогало. В ночь на воскресенье, 29 августа 1483 года, Людовик спросил королеву Шарлотту: «Дорогая, не идёт ли дождь?» – «Нет, мой король, дождя нет». – «Чёрт возьми, но я же слышу шум ливня. Даю руку на отсечение, что он идёт». – «Да нет же, мой господин». – «Все меня обманывают, тогда я посмотрю сам». Но не смог подняться и, откинувшись на подушки, прохрипел: «Это ливень, это наводнение! Спасайте пушки!» Семья, врачи, церковники и астрологи собрались у его постели. Король прохрипел: «Но ведь это ещё не… не обманывайте меня! Это же не конец…» Его губы больше не двигались, но уголок рта приподнялся в улыбке.
«Я выкарабкаюсь, – уверял доктора и последний король Франции, „похититель престола“ ЛУИ-ФИЛИПП ПЕРВЫЙ. – Я ем хорошо, желудок варит великолепно, я везучий, я поправлюсь…» Переживший восемь покушений, правда, для него вполне удачных, сбежавший в Англию после февральской революции 1848 года, «славный малый» Луи-Филипп заметно опустился и страдал теперь от неизлечимой болезни печени, о чём он ещё не догадывался. «Может быть, взять отпуск по болезни?» – спросил он доктора. Известный своим безразличием к религии, он всё же не захотел огорчать свою жёнушку-королеву и битый час читал ей страницы из Евангелия. И даже пригласил аббата Гелла и спросил его: «Ну, теперь ты доволен, не так ли? Король вертится вокруг королевы. Ах, как хорошо! А как насчёт обряда таинств?» Потом вызвал генерала Дюма, чтобы продиктовать ему ещё одну страницу своих «Мемуаров» – на этот раз о маршале Макдональде. И напоследок, призвав к своему ложу всех своих детей, пожелал им доброй ночи: «До завтра». Но завтра уже не состоялось.
Когда семейный врач попробовал успокоить разметавшегося на постели американского революционного генерала ЭТАНА АЛЛЕНА словами «Генерал, я боюсь, что ангелы заждались вас», тот неожиданно вскричал: «Заждались они? Они заждались? Ну-ну, вот пусть и подождут».
«Я слишком устала, чтоб так уж беспокоиться о нём сейчас, – говорила умирающая при родах первенца английская писательница ШАРЛОТТА БРОНТЕ своему убитому горем мужу, преподобному Артуру Николсу. – Но, возможно, потом… когда он родится…» За минуту до этого он склонился над её ложем и в порыве дикой безрассудной страсти, смешанной с неизбывной тоской, горячо припал к её губам. Этот неистовый первозданный поцелуй, овеянный духом Смерти, обратил её в беспамятство. Она очнулась всего лишь на миг от монотонного голоса своего отца, Патрика Бронте, читавшего молитву: «Боже, прошу тебя, спаси её». Она с трудом открыла свои прекрасные зеленовато-карие с восхитительным разрезом степной газели глаза и тихо спросила не то отца, не то Николса, не то самого Господа Бога: «О, ведь я не умру, нет? Смерть ведь не разлучит нас, мы же так счастливы…» Но смерть их разлучила! Ранним субботним утром 31 марта 1845 года церковные колокола известили о смерти великой писательницы Англии жителей деревушки Хоуорт, которые знали её сызмальства. В браке Шарлотте Бронте посчастливилось пробыть всего девять месяцев.
Её младшая сестра, романистка и поэтесса ЭМИЛИ БРОНТЕ, к полудню 19 декабря 1848 года (это был вторник) спустилась в гостиную с шитьём в руках, но сёстры уговорили её вернуться в спальню – ей стало совсем уж плохо. Её лихорадило, колотил кашель, она жаловалась на боль в боку и в горле. Эмили уступила им, но не легла в кровать, а лишь прилегла на софу. Её последними, едва различимыми словами, сказанными в утешение сёстрам, были: «Уж если посылать за доктором, то прямо сейчас». До этого она наотрез отказывалась видеть врачей. За семейным доктором Уиллхаузом тотчас же послали, но он приехал слишком поздно и успел лишь засвидетельствовать причину смерти писательницы – скоротечная чахотка. Эмили умерла, и её любимый пёс Кипер выл под дверью спальной комнаты не день и не два, а несколько недель.
Выдающийся математик России СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ, первая женщина член-корреспондент Петербургской академии наук и профессор математики Стокгольмского университета, сильно простудилась, заблудившись как-то в промёрзшей столице Швеции. Перед смертью она впала в беспамятство и лишь в минуту просветления сказала напоследок сиделке, на руках которой и скончалась: «Я уж ни за что не выкарабкаюсь из этой болезни». И несколько минутами позже: «Мне кажется, со мной должна произойти какая-то перемена». По другим же источникам, Софья Васильевна призналась в канун смерти своему жениху и однофамильцу Максиму Ковалевскому: «Слишком много счастья!..» А утром её нашли мёртвой в меблированных номерах Стокгольма. Вот, оказывается, умирают и от переполняющего душу счастья. Однако ж, опять же по другим источникам, Ковалевская пообещала Максиму, и это на ночь-то глядя: «Ты знаешь, чем я скоро займусь? Я обязательно напишу философскую повесть „Когда не будет больше смерти“. Как ты думаешь, у меня получится?» Но смерть, которой она всегда так страшилась, пришла за ней той же ночью. Во сне. Нет, со смертью шутить нельзя. Смерть бессмертна.
И ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС, английский романист, второй по известности после Чарльза Диккенса, пообещал перед смертью своей снохе Марджори: «Однажды я напишу настоящую книгу». И это сказал мастер, который оставил после себя более ста томов настоящих книг! Почувствовав приближение смерти, «писатель-пророк» перестал подходить к телефону и велел домашним отвечать на звонки: «Уэллс подойти не может. Он очень занят. Он умирает». А 13 августа 1946 года, перед самой кончиной посетовал: «Обыватели скажут, что я прожил жизнь как лавочник. Но я-то знаю, что прожил её как джентльмен». Да, такого волокиты, как Уэллс, пуританская Англия ещё не видела! «Последний в роду потомков Казановы». Ни одной юбки не пропустил! Среди них была и наша Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг, литературный секретарь Максима Горького. Сидя на краю постели у себя дома, в шикарном особняке на Ганновер-Террас, № 13, Уэллс позвонил в колокольчик и попросил сиделку: «Снимите с меня пижамную куртку. Мне тяжело дышать». Через минуту опять позвонил ей: «Мне холодно. Наденьте на меня куртку. И уходите. Со мной всё в полном порядке». И лёг в постель, завернувшись в одеяло. Сиделка вышла ровно на десять минут. В эти десять минут Герберт Джордж Уэллс, «утомлённый исполин», и умер в полном одиночестве, не дожив каких-то пяти недель до своего восьмидесятилетия. Его прах сыновья развеяли с острова Уайт над Северным морем, о чём и просил их знаменитый отец.
Вот и великий русский писатель-сатирик МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН велел домашним отвечать всем посетителям: «Занят… скажите, умираю…» Исключение сделал лишь князю Владимиру Оболенскому и на его слова утешения нервно задёргался и перебил: «Не говорите мне вздора! Я знаю, что умираю… Вот сижу за письменным столом, а писать больше не могу… Конец…» Сидел «русский Свифт», укутанный пледом, бессильно положив на стол жёлтые исхудавшие руки. Из гостиной в полуоткрытую дверь доносились обрывки весёлой болтовни – там жена Елизавета Аполлоновна с дочерью Лизой «принимали визиты» каких-то молодых людей. «У-у-у! – взвыл Салтыков. – Я умираю, а они…» И вдруг со страшной ненавистью в голосе закричал: «Гони их в шею, шаркунов проклятых! Ведь я у-мираю!» И упал со стула. Умер он, полулёжа в своём любимом кресле-качалке, посреди кабинета, никого уже не узнавая, и в какой-то момент, видимо, вообразив себя седоком удалой кибитки, приоткрыл на миг глаза и крикнул воображаемому ямщику: «Пошёл!» Потом уж он ещё долго безучастно сидел, откинув голову на спинку кресла. Исхудавшие руки лежали на коленях и по временам вздрагивали, и было только слышно его необыкновенно чистое дыхание. Но не было уже никаких признаков сознания.
Некто аббат ВУАЗЕНОН, ученик Вольтера и поэт маркизы Помпадур, впавши в немилость, удалился из Парижа в замок предков. Там он заказал себе свинцовый гроб и, показывая на него своей челяди, сказал: «Вот мой последний сюртук» и, обернувшись к слуге, добавил: «Надеюсь, его-то ты не захочешь украсть у меня». Лёг в гроб и на вопрос пришедшего соседа «Что вы там поделываете?» ответил: «Я собираюсь умирать». И, надо же, действительно умер.
Когда Фридрих Вильгельм Третий, муж ЛУИЗЫ, королевы Прусской, разрыдался подле её смертного одра, она обняла его и поцеловала в губы: «Не устраивай мне здесь подобных сцен, – упрекнула она его, – а то я и на самом деле умру. Нет, нет, не бойся, – спохватилась она, – я не собираюсь умирать». Однако несколькими минутами позже Луиза пожаловалась мужу и детям: «У меня холодеют руки. Я – королева, а не могу даже рукой пошевелить!..»
«Умирающему человеку ничего не даётся с легкостью», – объяснил своему внуку Темплу БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН, великий американец. Это когда тот попросил деда повернуться в постели на другой бок, чтобы ему легче дышалось. И, с трудом повернувшись на другой бок, Франклин сказал: «Скоро боль оставит меня навсегда». Он чувствовал приближение смерти и ждал её как избавление от страданий. «И это к лучшему: что такое боль в сравнении с радостями вечности?» Потом попросил дочь: «Застели мне свежие простыни, я хочу почить достойно». Дочь запротестовала: «Ты проживёшь ещё немало лет, отец». – «Надеюсь, что нет», – просто ответил ей Франклин и закрыл глаза. Рука, так много лет не знавшая отдыха, упала на свежие, только что застланные простыни.
«Тяжело умирать, легко умереть», – признался жене Екатерине Петровне интереснейший русский живописец и замечательный мастер портрета МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕСТЕРОВ, который всю жизнь боялся «жизни во что бы то ни стало». Ещё раз попробовал он приподняться на постели в палате Боткинской больницы и добавил: «Заживаться нам, старикам, не следует. Умирать пора, а вот с природой жалко расставаться».
«Не хочу умирать в постели, – заартачился сэр АРТУР КОНАН ДОЙЛ, „король детектива“, „крёстный отец“ знаменитого сыщика Шерлока Холмса с Бейкер-стрит и „усмиритель“ собаки Баскервилей. – Может быть, ещё успею напоследок полюбоваться пейзажем». Ему помогли надеть халат, и он уселся в плетёное кресло-корзинку лицом к окнам. Он мало говорил, потому что это было трудно. Но всё же, указывая пальцем на тонувшие в голубой дымке Сассекские холмы, у подножия которых стоял их дом «Уиндлшем», сказал: «Посмотрите вон туда. Это место называется Долина убийств…» А потом, повернувшись к жене Джин, вымолвил: «Тебе нужно отчеканить медаль с надписью: „Лучшей из всех сиделок“». Джин сидела слева от него, держа мужа за руку. По другую сторону – дети: Адриан, Деннис и Лена. Ровно в половине восьмого, когда солнце уже встало, Джин почувствовала, что сэр Артур сжал её руку, потом немного приподнялся и, хотя уже не мог говорить, по очереди посмотрел на каждого из них. Неожиданно откинулся на спинку кресла и тихо и незаметно пересёк границу, как он сам любил выражаться, между «проявленным и не проявленным бытием». День своей смерти – 7 июля 1930 года – он предсказал ещё весной, сказав Джин: «Мне стало известно, что я покину этот мир 7 июля. Пожалуйста, сделай все необходимые приготовления».
И самому могущественному человеку своего времени, крупнейшему финансисту, банковскому гению и промышленнику ДЖОНУ ПИРПОНТУ МОРГАНУ старшему тоже не лежалось: «Поднимите меня из постели», – просил он среди ночи окружавших его врачей и сиделок, хотя никого уже не узнавал в лицо. «Поднимите меня и отведите в школу», – настаивал Старик, как звали его за глаза. Он лежал в шикарном, излюбленном им номере «Гранд Отеля» в Риме, своём любимом городе. Доктор прописал ему строгую диету – овсяный суп и рубленое мясо, – но он уже не мог проглотить и кусочка и просто уморил себя голодом. Около полудня Пасхального Воскресенья Морган открыл свои сорочьи глаза, посмотрел на дочь Луизу ясным взглядом, в котором не было и следа боли, немощи или старческого маразма, и произнёс: «Моя дорогая Салли Вест…» И вслед за этим впал в кому. Конец наступил в понедельник, 31 марта 1913 года, ровно в полдень. Раз или два Морган улыбнулся, попробовал было поднять правую руку на грудь, но она беспомощно падала на простыни. Сообщение о смерти попридержали от журналистов на несколько часов, пока не закрылись фондовые биржи. На следующий день, 1 апреля, курс акций в Нью-Йорке резко пошел вверх, а флаги на здании биржи на Уолл-Стрит, наоборот, опустились. (Никакой Салли Вест в жизни Джона Моргана никогда не было. Вернее сказать, была. В семейном архиве Морганов сохранилось письмо, которое маленький Джонни написал с Азорских островов своему дедушке. В письмо был вложен маленький листок бумаги с нарисованной на нём толстой жёлтой канарейкой. А внизу подпись, сделанная нетвёрдой детской рукой: «Вот это – моя дорогая Салли Вест. Благодаря ей, мне здесь не так одиноко»).
И немецкий философ ФРИДРИХ ШЕЛЛИНГ тоже захотел взглянуть на горный альпийский ландшафт в окрестностях швейцарского курортного городка Рагац: «Подвиньте кровать к окну». Лежал он безмолвно и смотрел в окно. Затем поправил подушку и закрыл глаза. «Смотри, как он спокойно спит», – сказала жена Паулина, обращаясь к своей сестре. Та ответила: «Это уже вечный сон».
И писатель АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН (ГРИНЕВСКИЙ), умирая от скоротечного рака в маленьком саманном домике с земляным полом на окраине Старого Крыма, тоже попросил жену, Нину Николаевну: «Подвинь меня поближе к окну». Из распахнутого настежь окна, куда заглядывала зелёная ветвь сливы, «полезный, но вечно голодный сказочник» смотрел на далёкие Крымские горы, вдыхая последние глотки воздуха. Потом два раза коснеющим языком попросил: «Курить… Курить…» Затянулся раз-другой и сказал: «Теперь всё хорошо… Только вот не люблю я его. – И пальцем ткнул в старый будильник. – Он не возвращает нам прожитых мгновений… и приближает конец…» Нина Николаевна плакала и гладила его пальцы, а Грин улыбался и перед концом успел сказать: «Спасибо, милая…» Его последняя книга «Автобиографическая повесть», только что доставленная почтой от издателя, выпала у него из рук. Грин приподнял голову, затем вновь уронил её на подушку и уже затуманенным взором уставился на сливовую ветвь в окне. Последним его словом был не то стон, не то тяжёлый шёпот: «Помираю…» Говорили и другое, будто бы последним его словом было «Зурбаган» – имя вымышленного Грином города, в котором герой рассказа «Зурбаганский стрелок» хотел окончить свою жизнь, где он её и начал.
И «красный генерал» Италии и генерал-аншеф Парижской Коммуны ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ, урождённый ЖОЗЕФ-МАРИЯ, попросил жену Франческу Армозино: «Подвинь меня поближе к окну, хочу посмотреть на вечернее небо и море». И долго смотрел на силуэты военных кораблей, стоявших на якоре в водах голого скалистого островка-рифа Капрера, у побережья Сардинии. Сюда старый солдат и моряк спокойно, после одержанных побед, удалился с одним мешком бобов, отказавшись от мешков с золотом, и доживал последние дни свои в маленькой усадьбе, в сложенном из простого бута доме в три комнаты, разбивал гряды и сажал картофель. Но вот две черноголовые птички-славки, севшие на подоконник спальни, отвлекли его. «Не гони их. Пусть сидят, – сказал Франческе „старый лев Капреры“. – Может быть, это души умерших дочерей моих прилетели забрать и меня». Потом произнёс названия двух итальянских городов, по-прежнему оторванных от Италии: «Тренто… Триест…» И с этими словами освободитель и создатель единой современной Италии испустил дух. На могилу его возложили трёхтонный кусок скалы необработанного гранита с изображением пятиконечной звезды и одним словом «Гарибальди». Ни даты, ни фразы.
И нелюдимый нищий французский философ, «савойский викарий», «человек правды и природы» и «самый независимый гражданин Женевы» ЖАН-ЖАК РУССО, заканчивая свои дни гостем доброго и богатого маркиза Жирардена в его поместье Эрменонвиль, в девяти милях от столицы, не мог обойтись перед смертью без пейзажа. «Распахни пошире окна, чтобы я мог видеть деревья», – попросил он жену Терезу Левассер. Хорошо откушав (бульон, свежая клубника с молоком и сахаром, чашка чёрного кофе), Руссо уж собрался было прогуляться: «Пойду погляжу на солнце в последний раз». Но не успел дойти и до двери, как почувствовал себя настолько плохо, что с трудом, с помощью жены, добрался до постели. Он жаловался на страшную головную боль, боль в груди и в позвоночнике, колотьё в подошвах ног; всё тело его покрылось испариной, а «по спине словно бы пробегала ледяная волна». «Да что ты ревёшь? – спросил он расплакавшуюся Терезу. – Ты же не думаешь, что пришёл мой черёд? Мало я натерпелся от людей! Боже! А правда, ворота уже распахнуты, и Бог ожидает меня на крыльце. Ты только посмотри, какое сегодня ясное небо. Ни одного облачка». С этими словами Руссо попытался подняться из постели, неловко оступился, запутался в полах шлафрока и упал, разбив голову о каменные плиты пола (другие уверяют, что о каминную решётку). И был он мёртв, прости Господи! Правда, гораздо позднее Тереза созналась, что никаких патетических последних слов она от мужа и не слышала: «Он умер, держа мои руки в своих руках и не вымолвив при этом ни единого слова». Пришёл скульптор Гудон и снял посмертную маску с «наставника человечества». Через пару дней, в полночь 4 июля 1778 года, Руссо захоронили на Острове Тополей посреди озера в Эрменонвиле. А через шестнадцать лет состоялось торжественное перенесение его праха в Парижский Пантеон. Постояв над его могилой, будущий император Наполеон воскликнул с какой-то горькой экзальтацией: «Злой человек, дурной человек! Без него не было бы Французской революции… Правда, и меня бы не было, но, может быть, Франция была бы тем счастливее».
Вот и ЭРНЕСТ БЕВИН, бывший министр иностранных дел Великобритании и лорд хранитель печати, неизлечимо больной сердечным недугом, сказал: «Хочу выйти погреться на солнышке. Возможно, на солнце мне станет лучше. А через пару недель махну на Канарские острова». На улице было холодно и ветрено, и личный секретарь Бевина попробовал отговорить шефа: «Вам бы вернуться в спальню, выпить чашку горячего чаю и прилечь». – «Ну, уж нет, – отмахнулся тот. – Лучше загляну-ка я в последний раз в курительную комнату. А завтра пойду на футбол – на Уэмбли играют сборные Англии и Шотландии». Позже он всё же послушался секретаря, уединился в спальне своей резиденции Карлтон Гарденс, где работал в постели с официальными бумагами, и умер ещё до того, как доктор и жена смогли помочь ему. В стиснутом кулаке его зажат был ключ от красного ящичка с секретными документами.
И великий артист немого кино РУДОЛЬФО ВАЛЕНТИНО тоже. «Не задёргивайте шторы на окнах, – попросил он, лёжа на койке нью-йоркского госпиталя. – Хочу видеть солнце». Но неожиданно заключил довольно бессвязно: «Не беспокойтесь, шеф, всё будет в порядке». И умер от разрыва аппендикса. Толпы женщин в трауре тотчас же осадили госпиталь. В ужасной давке ежеминутно кто-нибудь из поклонниц Валентино падал в обморок. Многие были затоптаны конной полицией. Одна девушка наложила на себя руки. За гробом Валентино шла стотысячная толпа. Итальянские фашисты прислали было почетный караул своему земляку, но антифашисты его разогнали. Уборщики подбирали с мостовой потерянные туфли, шляпки, зонты и оторванные рукава. Не успели предать прах артиста земле, как сразу же объявились десятки женщин, наперебой примерявших на себя титул его вдовы. Оставаясь одиноким при жизни, Рудольфо, «лёгкий поцелуй, вздох флейты», после смерти стал предметом их торга.








