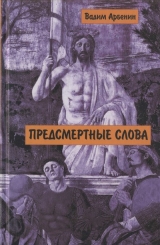
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Памяти Мусоргского, автора «Гопака», посвятил своё последнее и незаконченное произведение «Гопак» ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН. Художник работал над этим полотном, которое сам оценил в один миллион финских марок, до последнего своего часа. Работал до конца, хотя пальцы отсохшей правой руки уже не сгибались, метровой длины кисти приходилось держать в кулаке, и потому на картине не выходило то, что он хотел. Холодным сентябрьским днём он переписывал её на веранде своего удивительного дома «Пенаты», во всеми забытом финском дачном местечке Куоккала, на берегу безлюдного залива. На нём был старый халат с накинутой поверх него шалью, из-под ночного колпака выбивались седые волосы, ноги согревали тёплые домашние туфли. По настоянию старшей и любимой дочери Веры Репин в эти тяжёлые предсмертные дни всё ещё подписывал давнишние свои наброски – на продажу. Холст или лист бумаги без его подписи не был полновесной валютой, нужной наследникам, и ему пришлось изрядно помучиться над этой нудной и утомительной процедурой – набросков и эскизов были рулоны! Подписывая очередной: «1930. Ил. Репин», немощный, подслеповатый 86-летний художник всё бубнил себе под нос: «Пора, пора отдохнуть! Ах, смерть! Это хороший конец! Нет-нет, я махнул на жизнь рукой» и неожиданно повалился на диван. Он умер на руках другой дочери, Татьяны, продолжая всё водить рукой по воздуху, словно бы писал картину. Его положили на обеденный стол, за которым семья обычно пила чай. И сын Юрий, только что вернувшийся с охоты, гвоздями прибил к этому столу, в ногах покойного отца, убитого им зайца – в распятом виде. Десятью годами ранее один немецкий биографический журнал сообщал: «Репин умер с голоду во время красного террора в Финляндии».
«Кто это, кто это играет? Я слышу музыку, – ревниво спросил жену великий композитор и исполнитель СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ. – Почему они не перестанут?» – «Бог с тобою, Сережа, – отвечала Наталья Александровна, – никто здесь не играет». И он проговорил со слабой улыбкой: «Ах, да!.. Правда, ведь это у меня в голове…» И в беспамятстве двигал руками и шевелил пальцами, словно бы по клавиатуре рояля. Рахманинов умирал от меланомы, редкой и молниеносной формы рака. Умирал на чужбине, в Беверли Хиллс, на окраине Лос-Анджелеса. Наконец, подняв руку над головой, он сказал: «Странно, я чувствую, точно моя аура отделяется от головы». Взгляд его обошёл комнату, замер мимолётно на букете красных роз в майоликовой вазе, преподнесённом ему на днях незнакомкой. Потом ресницы медленно опустились. У него было замечательно покойное и хорошее выражение лица.
И у американского балетмейстера ДЖОРДЖА БАЛАНЧИНА (ГЕОРГИЯ БАЛАНЧИВАДЗЕ), умирающего в госпитале имени Рузвельта в Нью-Йорке, пальцы тоже двигались поверх больничного одеяла. «Я разучиваю новые па», – объяснял он навестившим его танцорам Жаку д’Амбуазу и Карин фон Арольдинген. – «Я собираюсь поставить „Хорал“ Вивальди специально для вас. И всё время думаю об этом. Вы согласны станцевать?» – «Конечно же!» – ответила Карин, «больше Валькирия, чем балерина». «Прямо сейчас?» – настаивал великий хореограф, поставивший 465 балетов. И тогда танцоры прямо в маленькой палате, возле кровати Баланчина, исполнили несколько балетных па импровизированного вальса на глазах изумленной медицинской сестры и растроганного МИСТЕРА Б., как звали его американцы. «Карин!» – только и мог вымолвить он, откидываясь на подушки. Она прижала его голову к своей груди. «Карин!» – вновь едва выдохнул он и вскоре после её ухода скончался. Верующие американцы в этот день отмечали воскресение Лазаря. «Нет нужды говорить вам, что мистер Баланчин уже пребывает сейчас в компании с Моцартом, Чайковским и Стравинским», – обратился Линкольн Кирстайн, друг и патрон балетмейстера, к публике, пришедшей на дневное выступление труппы «Нью-Йорк сити балет», создателем и руководителем которой был Баланчин.
И немецкий композитор РОБЕРТ ШУМАН тоже играл перед смертью. Вернее, пытался сыграть, в состоянии глубокой меланхолии, свой любимый «Марш Давидсбюндлеров» – и это в больничной палате! После неудачной попытки самоубийства два с половиной года назад (в Дюссельдорфе он бросился с моста в Рейн, но его выловили оттуда рыбаки) Шумана поместили в частное заведение для умалишённых близ Бонна. По просьбе композитора в его палату вкатили рояль, и «благородный, великий человек в полном упадке душевных и физических сил» (Шуман отказывался от пищи) играл свои музыкальные композиции. Игра его на рояле производила ужасное впечатление, он едва двигал дрожащими пальцами, издавая бессвязные звуки. «Игра его была безотрадна, – свидетельствовал один из друзей Шумана, некто Василевский, подглядывавший за ним в замочную скважину палаты. – Она не доставляла ему удовольствия». Жена Шумана, Клара, которая ждала восьмого ребёнка и которой запрещали находиться рядом с мужем, увидала его лишь в последнюю минуту жизни, когда он, «страшно худой и очень, очень жалкий», практически умирал за роялем. Она уговорила его поесть, и он принял из её рук фруктовое желе и немного вина, «отличного маркобруннера». Шуман что-то много говорил ей, но разобрать смысл его речи было почти невозможно. «Это неправда, это неверно… Творить нужно, пока – день…» Но вдруг, за несколько мгновений до смерти, полное сознание вернулось к нему, и Клара услышала последние слова одного из «созвездия безумных гениев»: «Как же беспредельно сильно ты была мною любима!..» После обеда Шуман «тихо уснул».
Премьер-министр Великобритании УИЛЬЯМ ГЛАДСТОН тоже попросил перед смертью вкатить в его спальню пианино, на котором дочь Мэри играла для него любимые пьесы Генделя и Арна, а внучка исполняла церковные хоралы. Их слушала вся многочисленная семья «народного Вилли», как его звали в Англии, – возле его постели в небольшой простой комнате любимого им поместья Хаварден разыгрывались настоящие концерты. Однажды за столом он пустился в воспоминания о лодочных гонках команд Оксфордского и Кембриджского университетов на Темзе, и вдруг ему стало плохо. Последние осмысленные слова Гладстона были обращены к дочери Элен: «Благослови тебя Господь… Благослови тебя Господь… Пусть добрый и ясный свет озаряет твой путь. А я – в полном порядке, в полном порядке… И только жду, только жду… Но это такое долгое ожидание… Доброта, доброта, ничего, кроме доброты, везде…» «Это был момент, исполненный чуда, тайны и благоговения, глубокий и полный покой после долгих дней и часов сердечной боли, – заметил очевидец. – Приятие им смерти было без страха и сомнения». На дворе разгорался День Вознесения, было 5 часов 19 мая 1898 года. Гладстону минуло 88 лет, 4 месяца и 20 дней.
И великий американский юморист МАРК ТВЕН, он же СЭМЮЭЛ КЛЕМЕНС, попросил дочь Клару спеть ему, и она нашла в себе силы исполнить несколько шотландских песен, которые отец так любил. Это было в четверг утром 21 апреля 1910 года. Рассудок писателя был абсолютно ясен и, по словам служанки Кэти Лири, жившей у него 30 лет, он читал в постели «Французскую революцию» Карлейля. Ещё до полудня Твен попросил своего близкого друга и секретаря Альберта Пейна: «Выброси их», имея в виду две незаконченные рукописи новых романов. Слов для изъяснения у него осталось уже немного. Поэтому раз или два за утро он попытался написать какую-то просьбу, которую не мог выразить словами: «Дайте мне очки, бумагу и карандаш». Но всё выпало из его рук. Потом он попросил у зятя, русского пианиста Осипа Габриловича: «Воды. Ты единственный, кто меня понимает». Чуть позже полудня, когда у него была Клара, он приподнялся и взял её за руку. «До свидания, родная», – прошептал он. Доктор Куинтард, который стоял рядом, слышал, как Твен ещё добавил: «Если мы увидимся». Кларе даже показалось, что в последнюю минуту отец подмигнул ей – весело и беспечно. Затем погрузился в дремоту, а в 5 вечера его не стало. Предыдущей ночью на небосклоне появилась знаменитая комета Галлея, которую Твен с нетерпением ждал. Ведь Сэмюэл Клеменс явился в мир с кометой Галлея. Родиться под такой звездой! С кометой Галлея покинул бренный мир Марк Твен.
Король ЛЮДОВИК ТРИНАДЦАТЫЙ СПРАВЕДЛИВЫЙ, чувствуя близкую кончину, призвал в свои покои в Сен-Жермен музыкантов и певчих и, лёжа на смертном одре, сам взял в руки любимую лютню. Напустив на себя важный вид и в самом приподнятом настроении, он вместе с ними грянул псалмы, написанные в его честь. А потом шутливо обратился к лейб-лекарю Шарлю Бувару: «Если бы не вы, доктор, я бы прожил намного дольше». Но, увидев расстроенное лицо того, извинился: «Ну-ну, не обижайтесь. Я пошутил». И с этими словами почил.
Князь ПЁТР ИВАНОВИЧ ТЮФЯКИН, бывший некогда действительным камергером и директором Императорских театров, умирал в своей гостеприимной парижской квартире. Сам император Николай Первый разрешил ему оставаться бессрочно в Париже, когда началась Крымская кампания и всем русским было приказано выехать оттуда! Французский писатель и содержатель Парижской оперы Верон навестил князя в день его смерти: Тюфякин очень страдал и страданиями был ослаблен. Но, завидя Верона, с трудом приподнялся на постели и едва выговорил: «А что, чаровница Плонкет танцует ли сегодня?» С его смертью пресёкся род князей Тюфякиных, потомков Рюрика.
Жена крестьянского вождя Украины батьки МАХНО навестила его в последние минуты жизни. Уставший, измученный, ослабевший НЕСТОР ИВАНОВИЧ МИХНЕНКО (настоящая фамилия Махно) умирал в бедняцком госпитале Тэнон в парижском предместье Венсенн от гриппа, общего истощения и застарелого туберкулёза, нажитого «королём каторги» в Бутырской тюрьме в Москве. Бедность, плохое питание, курение, отверженность и одиночество добили его. Больница была переполнена бедняками, но Нестор чаще всего лежал в палате один. Никто не хотел соседствовать с этим сморщенным, заживо разлагающимся стариком. «Муж лежал в постели бледный, с полузакрытыми глазами, с распухшими руками, отгороженный от других большой ширмой. У него было несколько товарищей, которым, несмотря на поздний час, разрешили здесь присутствовать. Я поцеловала Нестора в щёку». На вопрос жены Галины Андреевны «Ну, как?» Махно ответил: «Как, как? Да никак» и беззвучно заплакал. Потом открыл глаза и, обращаясь к дочери Елене, слабым голосом произнёс: «Оставайся, доченька, здоровой и счастливой». Опять закрыл глаза и сказал: «Извините меня, друзья, я очень устал, хочу уснуть». Подошла дежурная сестра: «Как вы себя чувствуете?» – «Плохо… Принесите кислородную подушку». Это были последние слова, услышанные от сторонника «безвластного государства», руководителя народной республики и народной армии, кстати сказать, кавалера ордена Боевого Красного Знамени № 4. С трудом, дрожащими руками Махно вставил себе в рот наконечник кислородной подушки. Утром его не стало. Это случилось 6 июля 1934 года. Нестору Махно было неполных 46 лет. Русская община, составленная главным образом из бывших офицеров, не позволила похоронить его на недавно возникшем неподалёку от Парижа русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Небогатое французское анархическое общество не смогло купить клочок земли для его могилы, и тело Махно, сына крепостного крестьянина, бывшего пастушка, бывшего маляра, бывшего каторжанина, бывшего красного комбрига и знаменитого анархиста, кремировали, а пепел замуровали в стене на кладбище Пер-Лашез. Номер его урны 6685, это рядом с могилами восемнадцати парижских коммунаров. И это не случайно: ведь коммунары были первыми, попытавшимися воплотить на практике анархические идеи Прудона и Бакунина.
Князь ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН, теоретик анархизма, добровольный изгнанник в провинциальном Дмитрове, умирал в небольшом деревянном домике, при огороде и саде, на бывшей Дворянской улице, в маленькой комнате, служившей ему и кабинетом, и спальней. Ни на что не жаловался, лежал, молчал, ничего не просил. На вопрос, как он себя чувствует, отвечал: «Полное ко всему равнодушие. Я не понимаю, от чего меня лечат». Сестра милосердия Екатерина Линд спросила его: «Посидеть с вами или вам тоже всё равно?» Он взял её руку, поцеловал и сказал: «Нет, совсем не всё равно, а очень даже приятно». А когда она приготовилась сделать ему укол, Кропоткин чуть не заплакал: «И вы тоже хулиганкой стали – опять меня мучаете». При его нежной княжеской коже уколы давались ему болезненно. А потом шутя прибавил: «А впрочем, женские уколы никого не ранят». И после этого уже всё время молчал. Гражданская панихида прошла в Колонном зале Дома Союзов, в том самом зале бывшего Дворянского собрания, где семьюдесятью годами ранее, на балу, княжеский отпрыск, мальчик Петя Кропоткин, заснул на коленях российской императрицы Александры Фёдоровны. Говорят, похороны Кропоткина 11 февраля 1921 года не уступили по размаху даже похоронам Ленина тремя годами позже. Его пришли проводить люди, забывшие, что он князь и «Рюрикович в тридцатом колене», и называвшие его «товарищ Кропоткин». Гроб с телом «отца анархизма» несли на руках до самого Новодевичьего кладбища, а это без малого семь километров. Попрощаться с ним отпустили из внутренней тюрьмы ВЧК, под честное слово, даже семерых анархистов во главе с организаторами анархической конфедерации «Набат» Ароном Бароном и Ольгой Таратутой, и все они, как один, сдержали слово и вернулись в тюрьму в урочное время. По сути, похороны Петра Кропоткина стали последней массовой демонстрацией анархистов в России.
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ, унтер-офицер Тарутинского егерского полка, он же известный поэт-страдалец, автор «площадной, непристойной и крамольной» поэмы «Сашка», полусидел на лазаретной койке в Лефортовском госпитале. За побег из полка он был наказан розгами. Розги оказались скверные, пересохшие, всю спину и бока ему занозило. «Братец, поищи в спине, – просил он санитара, отрываясь от подушки и сбрасывая с плеч шинель. – Колется, стерва. Секли истово, сам генерал надзирал. Видишь, кожу-то как продубило. Теперь износу не будет». По случаю Рождества старослужащий солдат Корнеев, приписанный к госпиталю, поднёс ему чарку мадеры, после которой поэт хорошо поел и затянулся, вопреки запретам, из раскуренной стариком трубки. «Как много надо написать, а времени мало, – говорил он ему, еле шевеля сизыми, искусанными губами. – Если умру, так всё равно не рано, не рано… Уже три жизни прожито… От смерти не уйдёшь, да я её и не боюсь, пусть приходит… Причаститься… желаю…» Умирал Полежаев от чахотки, смиренной, доброй и тихой на Руси смерти. И в самый её канун Николай Первый, который разжаловал Полежаева в солдаты и сослал на Кавказ, под чеченские пули, теперь пожаловал непокорному поэту чин прапорщика – он был произведён в офицеры здесь же, на госпитальной койке. Нашёлся к случаю и офицерский мундир с эполетами, правда, с чужого плеча, великоватый, широкий в груди, но всё же… Тотчас же заявились санитары с носилками, чтобы перенести новоявленного прапорщика Полежаева в офицерскую палату. «Нет! Нет! Нет! – отбивался он от них. – Не трогайте меня! Я яко пёс… смердящий…» А когда они всё же понесли его, вдруг откинул голову и сомкнул веки, сомкнул их так горько, что слеза скатилась на висок.
«Только не допускай к моему гробу Коровина и Шаляпина», – в ясном уме и твёрдой памяти заповедовал своей дочери, Александре, покровитель изящных искусств, опекавший богему, САВВА ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ, потомственный купец первой гильдии, промышленник и денежный воротила. Он не хотел у своего одра того самого Фёдора Шаляпина, певческий талант которого был открыт им на сцене его Московской Частной русской оперы, и того самого Константина Коровина, полотна которого, тогда ещё никому неизвестного живописца, скупал сам Савва Иванович. Каково! Однако Коровин самовольно пришёл к Мамонтову, умирающему в маленьком деревенском домике за Бутырской заставой в Москве, и выслушал последние слова мецената, которого прозвали «русским Лоренцо Медичи»: «Ну что ж, Костенька, скоро умирать. Я помню, умирал мой отец, ИВАН МАМОНТОВ, так последние слова его были: „Иван с печки упал“. Мы ведь русские».
«Сейчас иду писать сумерки, – говорил академик живописи КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН. – Окно, цветы, фигуры и соловья в саду…» Никуда великий художник уже не шёл. Одинокий, обнищавший, в полном бездействии и почти всеми забытый, он умирал от грудной жабы, лёжа у себя на простой кровати, в углу нищенской сырой комнаты на улице Риволи, 21, в Париже, куда занесла его нелёгкая судьба изгнанника. «И так может жить один из лучших наших художников!» – ужаснулась Ирина Шаляпина, дочь знаменитого баса, заглянув в его логово перед смертью. И сошли на него вечные сумерки.
Весёлый русский писатель-сатирик и надворный советник МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ ЧУЛКОВ пожаловался перед смертью: «Эх, судьба! Для чего ты определила быть мне сочинителем, лучше быть бы мне подьячим».
«Дочь мою к гробу ни под каким видом не подпускать», – наставляла своего камердинера Венедикта Малашева княгиня ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА, сподвижница Екатерины Великой, штатс-дама и президент двух Российских академий – наук и словесности. «И пригласи только двух священников с духовником. Дать им по усмотрению, но не более 200 рублей всем». И через несколько минут отдала богу душу. И не было возле одра Екатерины Малой (так Дашкову называла Екатерина Великая) в старом и любимом её особняке на Никитской улице в Москве ни одного родного человечка. Завещание откровенно объясняло: «А как по запальчивости нрава дочери моей Настасьи Михайловны Щербининой, изъявлявшей противу меня не только непочтение, но и позволявшей себе наносить в течение нескольких месяцев огорчения и досады, – то от всего движимого и недвижимого имения моего её отрешаю!»
Вынужденный слечь в постель АНАТОЛЬ ФРАНС, «самый французский» (Франс по-французски Франция), «самый парижский, самый изысканный писатель», знал, что его ждёт конец. Последняя стадия склероза вовсе не шутка! Доктор Кашу срочно вызвал на виллу в Бешельри внука Франса Люсьена Псикари и его ближайшего друга Мишеля Корде. Их предупредили: часы Франса сочтены. Но «эта собачья жизнь» всё никак не отпускала «крепкого седобородого старца с глазами газели», удивлявшего всех своей духовной энергией. Он даже просил прекратить его мучения. И всё же однажды, это было утром 12 октября 1924 года, Франс сказал с улыбкой на устах удивлённому доктору: «Это мой последний день…» А потом позвал: «Мама… мама… мама…» и умолк. Он не ошибся: умер той же ночью. Мишель Корде не разрешил написать на медной дощечке, прибитой к гробу Франса, слова: «Член Французской Академии». «Ширина извилин мозга Франса… уникальная… свидетельствует о его гениальности».
Скрученный подагрой французский композитор ЖАК ОФФЕНБАХ, лёжа в постели, лихорадочно работал над партитурой оперы «Сказки Гофмана». На минуту оторвавшись от нотных листов, он показал их жене Герминии и сказал: «Наши внуки будут богаты». Герминия умоляла мужа поесть, но он, не вылезая из постели, выпил немного бренди, выкурил неизменную любимую сигару и вновь вернулся к партитуре, почему-то сказав при этом: «Наверное, ночью наступит конец». Оффенбах не ошибся – было три часа ночи, когда он потрогал себе голову и грудь около сердца, глубоко вздохнул и испустил дух. Герминия отрезала прядь его волос и запаяла её в своё обручальное кольцо. Премьеры «Сказок Гофмана» в парижской «Опера-Комик» и в венском «Ринг театре» были триумфом, но второе представление оперы в Вене закончилось гигантским пожаром – театр сгорел дотла, после чего другие сцены, из-за суеверных предрассудков, долго не желали её ставить.
Художник ГЮСТАВ КУРБЕ к ночи ближе послал за доктором Коллином, попросил его сделать ему обезболивающий укол и сказал: «Мне кажется, эту ночь я не переживу». Курбе умирал в изгнании, в маленьком швейцарском городке Ла-Тур-де-Пейльц, на восточном берегу Женевского озера, куда бежал от преследования французских властей после падения Парижской Коммуны. Отец и сестра Жюльетта приехали к нему за день до смерти и застали его в рыбачьем шале, бывшей таверне «Бон Порт», которое художник снял и превратил в свою резиденцию, мастерскую и салон. Курбе сидел на кровати, но был очень слаб. К тому же на него напала неодолимая икота. Цирроз печени и водянка буквально доконали его. Ещё бы! Каждый день выпивать до десяти кварт местного белого вина, да ещё немало абсента и в придачу без конца курить! «Гюстав, я привёз тебе новогодний подарок – пачку французского табаку и фонарь от нашего дома», – порадовал его отец. Курбе слабо улыбнулся ему – икота не прекращалась ни на миг – и лишь вновь и вновь с трудом повторял: «Мне кажется, эту ночь я не переживу… Мне кажется, эту ночь я не переживу…» И, действительно, он умер в новогоднюю ночь, 31 декабря 1877 года.
И госсекретарь США ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР, один из умнейших мужей Америки, предупредил доктора Уоррена и своих домочадцев: «Я умру этой ночью… Поэтому выпустите моих бычков пастись на лужайку под моими окнами – я хочу их видеть… Поднимите флаг на мачте моей лодки в запруде и зажгите на ней фонарь – я хочу видеть его свет в последней ночи своей жизни». А пастора ошеломил просьбой: «Я хочу дожить до самой своей смерти и присутствовать при ней». А когда тот читал над ним 23-й псалом, пробормотал невнятно: «Да, Твоего колена я, Твоего столпа я, но хочу знать правду». И умер, как и обещал, в половине третьего ночи.
Основатель Ордена иезуитов, потомственный испанский дворянин ИГНАТИЙ де ЛОЙОЛА принял смерть в Риме. Застарелые боевые раны, застенки инквизиции, долгие изнурительные посты и жестокие епитимьи окончательно подорвали здоровье первого генерала Ордена, и смерть, заглянувшая в его каморку на La Strada 29 июля 1556 года, стала для него желанной гостьей. «Кажется, самое время отправляться мне в Ватикан и уведомить Его Святейшество, что я кончаюсь», – с трудом выговаривая слова, сказал он секретарю Ордена Хуану де Поланко. «Вам действительно так плохо? – усомнился тот. – Ведь доктор Балтазар Торрес ничего серьёзного у вас не нашёл». – «Мне так плохо, что ничего другого не остаётся, как умереть», – ответил ему Лойола. «А вы не могли бы отложить свою смерть, ну, скажем, до завтра?» – «Я всё же предпочёл бы сегодня, и чем скорее, тем лучше. Но поступайте, как находите лучшим. Я полностью отдаю себя в ваши руки». На рассвете следующего дня врачи нашли шестидесятипятилетнего Лойолу в постели без признаков жизни. Генерал умер без святого причастия и папского благословения, которое значило бы для него очень много, но которое пришло слишком поздно.
Утомлённый работой над корректурами первого тома своих сочинений, поэт и драматург ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕЙ заснул в кабинете на диване «близ дурно прикрытого окна». После жаркого майского дня ночь выдалась сырой и холодной, и назавтра Мей проснулся с воспалением лёгких. В этот час из печатни графа Кушелева принесли ещё несколько листов корректуры, и Мей, невзирая на наставления врача Вио и просьбы жены, Софьи Григорьевны, лечь в постель, продолжал их читать и подписывать: он очень торопился с выпуском книги. Последний лист был подписан им 15 мая. «Слава тебе Господи», – сказал Лев Александрович и набожно перекрестился. В этот же день он обнаружил пропажу волос своей умершей матери, с которыми никогда не расставался. Перерыли весь дом (поэт жил тогда в доме Баженова на углу Николаевской и Колокольной улиц), но локон так и не нашёлся. «Теперь я умру», – сказал поэт жене, после чего слёг окончательно. На следующее утро он всё же встал рано, часов в 10, оделся, немного походил, что-то читал, потом вновь вернулся в постель и закрыл глаза. Когда же она вернулась в спальню, то нашла его спящим, но очень бледным. Она потрогала его руку, холодную, как лёд. «Что с ним?» – спросила она доктора. «Ничего, он очень ослаб, прикажите сварить ему куриный бульон». Но когда она вышла, он пощупал пульс поэта, тронул его лоб, приложил ухо к сердцу и просто сказал: «Он умер».
«Только бы дожить до утра. Только бы дожить до весны…» – повторял почти беззвучно МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗМИН, литератор, поэт и композитор. Его, «апостола эстетов», которого давно уже грызла грудная жаба, увезли умирать из дома на Спасской улице в Мариинскую больницу на Литейном проспекте. В больничном коридоре, куда его положили врачи, он подхватил ещё и воспаление лёгких. И каждую ночь его сосед по госпитальной койке слышал, как мучимый бессонницей Кузмин всё повторял: «Только бы дожить до утра. Только бы дожить до весны…» Он таки дожил до весны и скончался в полночь 1 марта, как и приличествует «князю тьмы» (так называла поэта Анна Ахматова). Последним, кто навестил умирающего Кузмина, был Юрий Юркун, которого «падший ангел» любил страстно, кого воспитал, кого ввёл в литературу и от кого больше всего страдал в течение 23 лет. И поэт прочитал ему с кровати строку из Лермонтова: «Любить?.. Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно…» И умер «легко, изящно, весело». В 1933 году нацисты жгли на кострах в Берлине и Франкфурте-на-Майне книги Кузмина, как и многих других писателей-гомосексуалистов.
Императрица МАРИЯ-ТЕРЕЗИЯ, жестоко простудившаяся на конной прогулке под проливным дождём, буквально приказала детям: «Не давайте мне засыпать! Я хочу дождаться прихода смерти и собственными глазами взглянуть ей в глаза. Я нисколько её не боюсь». А когда те разрыдались возле её смертного одра, она прикрикнула на них: «Уходите в соседнюю комнату и там успокойтесь! А когда наревётесь вдоволь, возвращайтесь». В конце концов, она была, по её же словам, «генералом и хозяйкой в своей стране». Великая императрица умирала без страха и была невозмутимо спокойна. «Пересади меня к окну, – попросила она сына Франца-Иосифа, будущего императора. К концу жизни императрица так располнела, что не могла сама двигаться. А всё бобы, проклятые бобы, к которым она питала неслыханную страсть! – Я хочу напоследок подышать свежим воздухом». День 29 ноября 1780 года был пасмурный. «Не лучшая ведь погода для такого продолжительного путешествия», – посетовала императрица. А почувствовав первые признаки приближающейся смерти, спросила доктора: «Что, это и есть последние проявления жизни?» – «Да нет, пожалуй, ещё не последние», – ответил ей ошеломлённый эскулап. «А, значит, последние будут и того страшнее», – вздохнула Мария Терезия, и это была единственная жалоба, услышанная от неё за всё время болезни. Она с трудом поднялась из кресел, сделала несколько шагов и пала на кушетку. «Вам неудобно там лежать, Ваше Величество», – сказал сын. «Да, лежать неудобно, – согласилась Терезия. – Но вполне удобно умирать». – «Куда бы Вы, Ваше Величество, хотели отправиться?» – спросил её Франц-Иосиф. Императрица подняла уже подёрнутые дымкой глаза горе: «К тебе, на небеса иду я…» И это были её последние слова.
«Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно, и равнодушно смотрю на смерть…» – сказал профессор химии, статский советник и замечательный поэт МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ своему приятелю, академику Якобу Штелину, случившемуся на ту пору рядом с ним. Сын холмогорского рыбака, черносошный мужик, затем крестьянин в бегах, за которого отец вносил подушную подать (1 рубль 20 копеек в год), а теперь владелец огромного поместья с 211 душами, Ломоносов умирал в своём собственном каменном доме с химической лабораторией при нём. В этом доме, в Адмиралтейской части Петербурга, на правом берегу Мойки, академик частенько угощал своих земляков-поморов, приходивших на кораблях из Архангельска, что и дало его недоброжелателям обвинять поэта в «невоздержанности и некотором тяготении к буфету». В пятом часу пополудни 4 апреля 1765 года он попрощался с женой, Елизаветой Генриховной Цильх, и дочерью Еленой: «Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». А в пять часов его уже не стало.
«Уже скоро, друзья мои, скоро», – сказала маркиза де ПОМПАДУР, блистательная фаворитка Людовика Пятнадцатого. Даже женщины признавали в ней сходство с нимфой. «Теперь мне лучше остаться наедине с моей душой, с исповедником и горничными». Несколько ослабленная опалой короля, она сидела в кресле в окружении нескольких своих самых близких и верных друзей и тихо угасала от «слабости в груди, бледной немочи и гнилой лихорадки». Суровое правило не позволяло умирать в Версальском дворце никому, кроме королей и принцев крови, но Людовик сделал для пригожей дочери мясника исключение. Горничные хотели её переодеть; она отказалась, покачав головой: «Зачем, теперь уже не стоит». Священник из церкви святой Магдалины причастил её и исповедал, забыв, что она была атеисткой. А когда поднялся, чтобы уйти, его остановил переливчатый неповторимый голос: «Подождите, святой отец, сейчас мы уйдём вместе». Это была последняя острота умнейшей и красивейшей женщины своего времени, покровительницы литературы и искусств, повелительницы и жертвы французского двора. Её полное имя было ЖАННА АНТУАНЕТТА ПУАССОН, герцогиня-маркиза де ПОМПАДУР и де МЕНАР, и было ей от роду всего лишь 42 с половиной года. На дворе стояла ненастная погода, шёл дождь, никто из старожилов не помнил такого холодного, пасмурного и сырого вербного воскресенья. «Ах, мадам, ну и погодку же вы выбрали для вашей последней прогулки», – сказал Людовик, обращаясь к траурной колеснице, которая везла покойницу по Парижскому проспекту к месту упокоения в монастыре капуцинов. Король вышел на балкон дворца, чтобы проститься с ней, и стоял на колючем ветру без плаща и шляпы, пока похоронная процессия не скрылась из глаз. «Вот и все почести, какие я мог ей воздать, – сказал он слуге, тоже вышедшему на балкон. – А ведь двадцать лет она была моим другом!» И две крупные слезы скатились по его щекам, смешавшись с дождевыми каплями. При жизни злые языки в Версале звали мадам де Помпадур «рыбёшкой», после смерти она стала для них «рыбьими костями». «Сановные покойники весьма удивятся, учуяв рядом с собой запах рыбьих костей», – съязвила одна из статс-дам королевы, когда прах маркизы поместили в склеп монастыря. (Здесь игра слов: «пуассон» по-французски «мелкая рыба».) Вскоре после смерти Помпадур явилась мода на стиль помпадур.
Известный английский писатель и поэт ДЖОЗЕФ АДДИСОН призвал к смертному одру своего неблагодарного приёмного сына, юного графа Уорвика, и сказал ему: «Смотри, как мирно может почить христианин». Ветреный и взбалмошный граф Уорвик посмотрел, и точно – его отчим, приняв яд, умер очень спокойно и мирно, как и подобает добропорядочному христианину.








