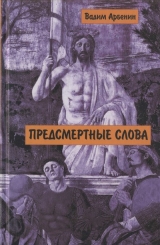
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Вадим Арбенин
Предсмертные слова
Смерть, похоже, лучшее, на что сподобилась Жизнь.
Стив Джобс
Американский поэт УОЛТ УИТМЕН заметил как-то: «Последние слова, конечно же, не лучшие образчики сказанного нами в жизни – нет в них былого блеска, лёгкости, страсти; жизни, наконец… Но они безмерно ценны, поскольку как бы подводят итог всей нашей болтовне во всей нашей предыдущей жизни».
КАРЛ МАРКС – его представлять не надо – придерживался иного мнения. В романе Майкла Хастингса «Тусси – это я» приводится диалог – то ли истинный, то ли вымышленный – умирающего Маркса и его экономки Елены Демут:
«– Скажи мне твои последние слова, Карл. Я запишу их.
– Куда тебе, Елена! Ты имя-то своё едва можешь нацарапать.
– Произнеси последние слова, обращенные к человечеству, Мавр.
– У меня их нет…
– Мавр, твоё последнее издыхание я внесу во все толстенные учёные книги как „Слово великого мужа, сказанное им на смертном одре“. Давай же, Карл, придумай что-нибудь!
– Отстань, уходи… Последние слова приличествуют лишь глупцам, которым нечего было сказать при жизни…»
Однако ж от последних слов не отвертеться никому. Рано или поздно наступает черёд сказать их каждому из нас – умному и глупому, правому и виноватому, сытому и голодному, благородному и простолюдину, аристократу и плебею, таланту и бездари, златоусту и косноязычному невежде. Какие же мысли тревожат их на полпути между землёй и вечностью? Покидая мир, подводят ли они черту и оценивают ли прожитую жизнь?
Вон даже неграмотный мексиканский пеон ПАНЧО ВИЛЬЯ, ставший революционером, борцом за свободу Мексики, а заодно и грабителем с большой дороги, сказал своим убийцам: «Но нельзя же допустить, чтобы всё это кончилось просто так… Скажите им, что я всё-таки сказал что-то напоследок…» Ещё одна пуля, тринадцатая по счету, оборвала его последнее слово.
Последние слова одних хорошо известны. Такие, например:
«Tu quoque, Brute!» – «И ты, Брут!» – с укором воскликнул римский император ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ, смертельно раненный в римском Сенате заговорщиками и увидевший среди них своего друга, любимца и наперсника Марка Брута. Закутавшись с головой в тогу, самоуверенный диктатор сделал несколько шагов и упал у подножия статуи Помпея, а заговорщики наносили ему удар за ударом мечами и копьями – всего 23 удара за то, что он упразднил Республику.
«Не смей трогать кругов моих, мужлан!» – не поднимая головы от своих чертежей, раздражённо кричал греческий геометр АРХИМЕД римскому солдату, который пришёл в Сиракузы убить его.
«Ave Caesar imperator, morituri te salutant!» – «Здравствуй, Цезарь император! – горланили ГЛАДИАТОРЫ, вступая на арену Колизея в древнем Риме. – Идущие на смерть приветствуют тебя!»
«Радуйтесь, мы победили!» – успел только прокричать ФИДИППИД, скороход из Марафона, и упал замертво. Он пробежал без остановки 36 километров до Афин, чтобы сообщить согражданам о победе греков над персами на Марафонской долине. Об этом рассказал греческий писатель Лукиан. Правда, по словам историка Плутарха, гонцом был ЕВКЛ, который, «рухнув у ворот дома архонта, прокричал: „Радуйтесь, и мы радуемся!“ и умер на месте». Так или иначе, это случилось в 490 году до н. э., а в 1896 году марафонский бег (42 км 195 м) был включён в программу Афинской олимпиады, I-ой Олимпиады Нового времени.
«Какого великого артиста теряет в моём лице мир!» – театрально, чтобы его услышал весь мир, закричал римский император НЕРОН, мнивший себя великим актёром и поэтом. Узнавший о решении Сената подвергнуть его публичной порке («Тебя разденут догола, голову зажмут колодкой и будут сечь, пока ты не умрёшь»), тиран бежал из Рима. На императора шла охота. Он укрылся в загородном доме своего преданного вольноотпущенника Фаона, но по его следу уже шли солдаты. «Я сожалею, что стал императором. Дальше жить нельзя, будь разумен, дальше жить нельзя», – бормотал «рыжебородый малыш», как велел называть себя Нерон, и уже приказал: «Снимите с меня мерку и тут же, возле дома, на моих глазах выройте по ней могилу». А потом схватил Фаона за грудь и взмолился: «Помогите мне, помогите! Я не могу умирать один. Подайте мне пример. Вот кинжал. Или лучше – убейте меня!» Однако тот наотрез отказался. «Увы! – воскликнул оперный император. – До чего дожил! Вокруг уже не осталось никого, даже врагов, которые бы согласились убить меня!» На улице послышался стук копыт. Нерон продекламировал: «Коней, стремительно скачущих, топот мне слух поражает». Солдаты уже ломились в дверь, и тогда один из писцов по имени Эпафродит уступил настояниям опального императора и ударил его мечом в горло. Ворвавшийся в комнату центурион склонился над ним и приказал солдатам зажать рану, но Нерон, с такой ненавистью и злобой посмотрел на них, что они отшатнулись, но услышали: «Поздно!» И потом: «И вот она, верность!» И ещё через минуту, вслипывая, Нерон пробормотал свои знаменитые слова: «Какая потеря для Национального театра!» И испустил дух.
«Merde!» – этим солдатским бранным, грубейшим и презираемым словом ответил неприятелю генерал Наполеона ПЬЕР КАМБРОНН, командовавший при Ватерлоо одним из уцелевших тогда каре императорской гвардии. Только что английский генерал Колвилл, по словам одних, или генерал Метленд, по словам других, приказал своей артиллерии прекратить обстрел героической горсточки оставшихся в живых гвардейских егерей и взволнованно крикнул им: «Сдавайтесь, храбрецы!» – «Merde!» – не вынимая изо рта глиняной трубки-носогрейки, ответил ему на это Камбронн. – «Дерьмо!» И все французские солдаты эти его слова повторили: «Дерьмо!» После чего последовала команда английским канонирам: «Огонь!» И «медные пасти пушек изрыгнули последний залп». Камбронн и старая гвардия, построившаяся в каре, разорванные губительной картечью, умерли. Осталась легенда. Крикнуть это непроизносимое вслух слово и затем умереть, что может быть величественнее?! Правда, некоторые историки-пуритане утверждают, что Камбронн ответил англичанам иначе: «Гвардия умирает, но не сдаётся!» Ну, что ж, тоже ведь неплохо. Но всё-таки Камбронн остался в памяти народной как Камбронн-Дерьмо.
«Подойди ко мне, маленькая моя, и подай мне руку», – попросил свою дочь Оттилию ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ. Речь его становилась все менее и менее ясной. Но очень внятно и громко он потребовал у окружавших его кресло родных, близких, врачей и слуг: «Прибавьте свету!.. Света, больше света!..» Ну, он мог себе такое позволить: был ведь он не только величайшим поэтом Германии, автором «Фауста», но ещё и тайным советником. Свету прибавили, и в половине двенадцатого дня Гёте забился в угол своего любимого вольтеровского кресла и безмятежно «смежил орлиные очи».
Русский бас и командор Почётного легиона ФЁДОР ИВАНОВИЧ ШАЛЯПИН тоже не хотел умирать в потёмках, тем более в весёлом Париже: «Где я?.. – бредил он. – В русском театре?.. Почему в этом театре так темно?.. Скажите им зажечь свет! Чтобы петь, нужно дышать, а нет дыхания…» Ему уже сделали два переливания крови, от третьего он отказался. «Фамилия человека, от которого мне хотели перелить кровь, Шьен (по-французски „пёс“ – В.А.), – объяснил он чешской певице Брожовой, навестившей его перед смертью в доме № 22 по авеню дʼЭйло. – Этак я бы в опере не пел, а лаял». По другим же источникам, последними словами Шаляпина были: «Дайте мне воды – горло пересохло. Мне надо петь, публика ждёт…» Потом «иль бассо» взял за руку жену, стоявшую у изголовья его кровати, и сказал: «За что я должен так страдать?.. Маша, я пропадаю…» Правда, по словам его сына, Фёдора, последнее, что Марья Валентиновна услышала от мужа, было доверительное: «Кушайте меньше». Похоронили Шаляпина, первого народного артиста Республики, на парижском кладбище Батиньоль, где он присмотрел и купил участок для всей своей семьи: «Пока нельзя лечь в родную землю, будем лежать здесь все вместе». На отпевании в храме Александра Невского были артисты, художники, министры и даже президент Французской Республики. Любимица парижской публики Эдит Пиаф возложила на гроб венок из белых роз со словами: «Соловью России от Воробушка Франции».
И великий юморист Америки О. ГЕНРИ, он же УИЛЬЯМ СИДНЕЙ ПОРТЕР, умирающий от тяжелейшего цирроза печени в нью-йоркском отеле «Каледония», попросил сиделку Энни Партлан: «Не гасите свет. Я не хочу возвращаться домой в темноте». И добавил: «Только не впускайте ко мне жену…» Ещё бы! «Великий утешитель», как его окрестила Америка, побаивался жены, а под кроватью у него были спрятаны девять пустых квартовых бутылок из-под виски. Это засвидетельствовал вызванный сиделкой доктор Чарльз Хэнкок. О. Генри уже позабыл, что его жена, Сэлли Колман, давным-давно ушла от него.
И певцу «Отверженных», великому французскому романисту ВИКТОРУ ГЮГО, умирающему от воспаления лёгких, было темно. «Я вижу чёрный свет…», – уверял он детей, Жоржа и Жанну, стоявших возле его смертного ложа. Незадолго до кончины он сказал другу по-испански: «Скажу смерти: „… добро пожаловать“». В день смерти Гюго, в полдень 22 мая 1885 года, над Парижем разразилась страшная буря с громом и градом. Наутро убогие дроги, запряжённые парой одров, как и просил писатель в завещании, провезли гроб с телом Гюго по улице Эйлау, в этот день уже переименованной в улицу Гюго, к Триумфальной арке, где он и был установлен на громадном катафалке. Несмотря на протест архиепископа парижского, Гюго погребли в Пантеоне, которому по этому случаю был возвращён статус «государственной усыпальницы великих людей Франции». Гроб провожало два миллиона человек.
«Тьма, ах, какая тьма», – шептал в полусознательном состоянии ГИ де МОПАССАН, умирающий от паралича мозга в лечебнице для душевнобольных доктора Бланша в парижском пригороде Пасси. Его упрятали туда, когда у него развились мания величия и мания преследования, а его ум, «чуждый страданию», погрузился в беспросветный мрак. Однажды он приставил дуло револьвера к виску и нажал курок. Но выстрела не последовало – барабан был пуст, и тогда Ги полоснул себя бритвой по горлу. Когда его слуга вбежал в комнату, он спокойно сказал ему: «Видишь, Франсуа, что я наделал. Я порезал себя. Это же истинное сумасшествие». В лечебнице он колотил в двери и кричал: «Бог, вы самый ничтожный из всех богов! Я убью вас! Я заражу вас чёрной оспой!» Доктор Бланш рассказывал в парижских салонах: «Господин Мопассан превратился в животное». Мопассан выводил на бумаге бессмысленные каракули: «Это самый великий мой роман!» Эти слова остались последними в скорбном листе французского романиста, снедаемого дурной болезнью. И вот – помрачение рассудка, припадки буйства, сумасшествие, попытки самоубийства и смерть в смирительной рубашке на железной койке посреди лечебницы в Пасси. Его слуга Франсуа уговорил врачей дать возможность хозяину попрощаться с его любимой яхтой «Bel Ami» («Милый друг»). При виде её взгляд Мопассана сделался осмысленным. Он долго не мог оторвать глаз от лодки, которую называл своей «главной возлюбленной», шевелил губами и что-то долго-долго говорил, обращаясь к ней. Потом погрозил ей кулаком, послал воздушный поцелуй и, в конце концов, взяв горсть песку, швырнул в её сторону.
Темнота подкрадывалась к Нобелевскому лауреату 1932 года ДЖОНУ ГОЛСУОРСИ в буквальном смысле этого слова. На лице писателя, автора знаменитой «Саги о Форсайтах», перед смертью вдруг явилось злосчастное чёрное пятно. Речь блестящего новеллиста, драматурга, поэта была бессвязна, что-то о том, что он «наслаждался слишком благоприятными обстоятельствами» и «что делать… но не здесь… с нашим домом». Племянник Рудольф всё переспрашивал его, чтобы выяснить причину беспокойства: «Вы хотите мне помочь?» – «Да» – «Речь идёт о деньгах?» – «Нет». – «Что-нибудь деловое?» – «Нет». – «Вы беспокоитесь о тётушке Энн?» – «Да». После чего Голсуорси поднялся с постели и в сильном возбуждении стал ходить по комнате, бормоча какие-то слова, из коих понятными были: «Прыжок!.. Весна!..» И, в конце концов, он подошёл к Рудольфу, крепко пожал ему руку и трижды повторил: «Прощай!.. Прощай!.. Прощай!..» И совсем перестал говорить, но попытался на страничке маленького карманного блокнота что-то написать. С огромным трудом, зачёркивая больше слов, чем оставляя их, он нацарапал, наконец: «Мне слишком хорошо жилось…» После чего наступило почти полное беспамятство. И жена Ада молила небеса, чтобы, если смерть неизбежна, наступила она днём, когда светит солнце. Так оно и случилось.
«Я вижу свет!» – насмерть перепугал своих чад и домочадцев отчаянным криком лейпцигский кантор, композитор и органист ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. Ведь несколько лет великий музыкант был полностью слеп и, окружённый вечной тьмой, сидел в креслах, сложив руки, опустив голову – без любви, без воспоминаний. И неожиданно прозрел уже на смертной постели. «Отдёрните оконные занавески! Я вижу», – попросил он и долго вглядывался в пейзаж за окном. Потом подозвал зятя и нота за нотой продиктовал ему хоральную обработку пьесы «Перед троном твоим предстаю». Баха лихорадило, веки его смыкались, потом поднимались снова. «Я вижу свет, – повторял он любящей и заботливой жене своей Анне-Магдалине. – Твои прекрасные руки закроют мои верные глаза». После чего «кротко и спокойно почил в 9 часов с четвертью вечера». В городе было объявлено: «Бах покинул живой мир».
«Свет!» – едва проронил КЛОД ДЕБЮССИ и в полузабытьи взглянул на жену. Певица Эмма Бардак, сидевшая в изголовье кровати и державшая руку композитора в своих руках, поднялась и откинула тяжёлые шторы. За окном гремели взрывы – немцы обстреливали Париж из ужасной крупповской пушки «Большая Берта», сыпали гранаты с цеппелинов, и улица озарялась огненными всполохами разрывов. Был вечер 25 марта 1918 года, последний вечер в жизни гениального композитора. Пальцы его барабанили по одеялу в такт взрывам: «Любопытный ритм… Любопытная задача… Если написать сюиту на музыку этой бомбардировки, то это будет… будет… может быть очень любопытно… Аккорд, пауза, триоль, два аккорда подряд…» И вдруг артиллерийская канонада смолкла, и в комнату заглянула луна. Клод прошептал: «Лунный свет!..» Это было название его фортепианной пьесы, которая наделала столько шума в Париже. «Его музыка исполнена похоти», – кричали тогда газеты. «Такую развратную музыку мог написать только Князь Тьмы!» – «Можно подумать, что, сыграв „Лунный свет“, девушки лишатся невинности», – отвечал Клод критикам. И вот теперь его музыку играют не только продажные профессионалы, но и наивные девушки из хороших домов!.. «Лунный свет»… Он лежал тогда, много лет назад, на широкой постели с одной из самых дорогих наложниц Парижа, содержанкой богатых покровителей Габриэлой Дюпон. Окна спальни не были задёрнуты шторами, в них смотрелась полная яркая луна, и тут… И тут он услышал потрясающей красоты звуки. Такт, еще один, еще. Он вскочил с постели и подбежал к окну. «Что случилось?» – удивилась Габриэла. «Я слушаю лунный свет», – ответил он. Когда его хоронили, лавочники, мельком взглянув на траурные ленты, говорили: «Кажется, он был музыкантом».
«Огня! Огня!» – громко потребовал военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ МИЛОРАДОВИЧ, смертельно раненный на Сенатской площади в Санкт-Петербурге во время выступления декабристов. Он просил огня, чтобы как следует рассмотреть пулю, которую военный хирург вырезал из-под левой лопатки героя Швейцарского похода и всех наполеоновских войн. Бережно взяв из его рук окровавленную «злую пулю малого калибра, но с хвостиком», Милорадович внимательно осмотрел её и воскликнул: «О, слава Богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив! В меня выстрелил не старый солдат…» Да, в него стрелял не старый солдат, а статский, смоленский помещик Пётр Каховский. Высокий, ловкий, в одном фраке, он подошёл со спины к Милорадовичу, который прискакал на Сенатскую площадь, только что от завтрака у танцорки Телешовой, и уговаривал взбунтовавшихся солдат Московского полка вернуться в казармы: («Налево кругом! Марш во дворец! С повинной!»), Каховский выхватил карманный пистолет и выстрелил градоначальнику «в бок спины, над самым крестом Андреевской ленты, пуля вошла под девятым ребром и вышла меж пятым и шестым с другой стороны». Испуганная лошадь под генералом от инфантерии шарахнулась, и губернатор тяжело упал на снег, к ногам своих солдат. «Куда вы меня несёте? – очнувшись, слабым голосом спросил он адъютанта. – Нет, нет, я ещё жив, сударь… исполняйте моё приказание… несите в казармы, сударь…» На солдатской койке, в конногвардейском лазарете, «русский Баярд», как звали Милорадовича французы, спросил доктора Арндта: «Что, Николай Фёдорович, есть надежда? Мне вы должны сказать правду. Уж, конечно, я не боюсь смерти». – «Жизнь ваша в руках Божьих, а не моих. Вы, верно, завтракали?» – «Очень мало. А где мои часы? Отыщите… вы знаете, как я люблю этот брегет… кажется, они упали тут, когда раздевали меня». Милорадович умер «в три четверти 3-его часа ночи с 14 на 15 декабря 1825 года», сказав напоследок лейб-медику Крейтону: «Горько мне, я в стольких сражениях был, и пули миновали меня, а тут должен умереть от руки изменника! Но судьба справедлива ко всем: дарю тебе эту пулю… Возьми её… И до свидания в лучшем мире!.. Нашлись ли часы?» Нет, ни золотой брегет, ни золотой перстень с медальоном так и не нашлись. Их украли «люди во фризовых шинелях», которые помогали переносить графа с Сенатской площади в конногвардейский манеж. Они же содрали с его мундира две дюжины звёзд и крестов, которыми награждён он был за участие в пятидесяти пяти сражениях.
ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ КАХОВСКИЙ, отставной поручик Астраханского кирасирского полка, из мелкой шляхты, перед повешением 13 июля 1826 года не захотел раскаяться, как ни увещевал его протоирей Казанского собора, отец Пётр Мысловский. А поднявшись на эшафот и встав под виселицей, с трудом срубленной на кронверке Петропавловской крепости, заметно побледнел и так вцепился в рясу священника, что его едва оторвали от того. Но потом произнёс сакральное: «Молюсь за императора Николая Павловича». За императора, который и приговорил его к смертной казни. Правда, напоследок промолвил: «Щуку поймали, а зубы-то остались…»
А вот святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила, видимо, голос совести у старого вольтерьянца и ловкого дипломата ШАРЛЯ МОРИСА де ТАЛЕЙРАНА-ПЕРИГОРА, хромоногого, как бес: «Слишком много света», – заскромничал насмешливый циник, великий честолюбец и остроумнейший из политиков и попросил свою племянницу, герцогиню Дино, интимного и самого близкого ему человека: «Притушите огни». В роскошном дворце Валансэ его навестили король Луи-Филипп и его сестра Аделаида и поразились совершеннейшему спокойствию умирающего князя. Он даже отпустил Луи-Филиппу царственный комплимент: «Прекрасный день для этого дома, когда король вступил в него». А принцессе Аделаиде он ещё крепко пожал руку и произнёс: «Я вас очень люблю». Вскоре после королевского визита Талейран испустил дух. Пришли медики забальзамировать его труп, вынули из живота внутренности, а из черепа – мозг. Превратив князя, епископа, царедворца и дипломата в мумию и положив её в гроб, обитый внутри белым атласом, они ушли, оставив на столе мозг, вдохновивший столь многих людей, руководивший двумя реставрациями и обманувший двадцать королей. После их ухода в комнату вошёл лакей: «Вот тебе раз! А это они забыли. Что же с этим делать?» Он вспомнил, что на улице Сен-Флорентенн есть помойная яма, вышел из дворца и швырнул мозг великого камергера, служившего трём императорам и мечтавшего о бессмертии, в эту самую яму. Finis rerum. От великого до смешного, как хорошо известно, только рукой подать. Талейран, которого Наполеон Бонапарт называл «дерьмом в шёлковом чулке», прожил 84 года 3 месяца и 15 дней – редкое, особенно по тем временам, долголетие. Когда траурный кортеж с его телом готов был тронуться в путь, возница спросил: «Какой дорогой ехать?» – «Через Заставу ада!» – последовал ответ. Стояла, оказывается, тогда такая застава в Париже на дороге, ведущей в направлении Орлеана, к фамильному склепу Талейранов.
«Унесите лампу, – попросил и РУЖЕ де ЛИЛЬ, автор знаменитой „Марсельезы“, ставшей гимном Франции. – Свет причиняет мне страдание». С 23 на 24 июня 1836 года он, бывший военный капитан-инженер, засиделся допоздна в саду у Войару, своего друга и собрата по оружию. К вечеру у него сделалась лихорадка, и старика уложили в постель. Увидев висевшие на стене шпагу и орден Почётного легиона, он прошептал: «Я заставлял петь других, а теперь я умру… Это правда, моя смерть будет слаще, чем моя жизнь… Я был так беден, что хотел умереть… но вот… мне не на что было купить пистолет… Ах! Моя родина…» У дома Войару, где умирал семидесятишестилетний поэт и композитор (у него не было своего жилья), собрались чуть ли не все жители Шуази-ле-Руа, и у дверей пришлось выставить двух солдат, чтобы охранять его покой. В 11 часов вечера доктор подошёл к постели больного, прислушался к его тяжёлому дыханию и велел открыть окна, чтобы облегчить его страдания. И тут послышалось отдалённое пение множества голосов – пели «Марсельезу»:
Liberté, Liberté cherie!
Combats avec tes défenseurs.
Все переглянулись, умирающий сделал лёгкое, слабое движение. Голоса приблизились и хором пели:
Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!
Глаза Руже открылись, зрачки приняли какое-то странное, пристальное выражение, с губ его слетали бессвязные слова: «Родина… Страсбург… Революция…» В его смертный час «Марсельеза», которую он написал, будучи узником Робеспьера в марсельской крепости святого Иоанна, звучала для него убаюкивающе, и она действительно убаюкала его. В день похорон «поэта революции» Национальная гвардия стояла шпалерами. Барабаны, обёрнутые траурным крепом, били поход. День смерти Лиля стал днём его славы. Вся Франция была извещена об этом. Когда опустили гроб в могилу и бросили первую горсть земли, весь народ запел:
Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé!
Правда, бытует мнение, что де Лиль взял для «Марсельезы» мотив старинной мессы «Credo», написанной неким швабским регентом Гольцманом, и присвоил себе, переменив лишь слова и придав ей более живой темп и весёлый тон.
Вот и двадцать шестой президент США ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ не захотел умирать на свету. «Джеймс, не выключишь ли ты свет, – попросил он своего чернокожего слугу, когда из спальни вышла его жена, Эдит, и отложил книгу, которую они читали вместе. – Пожалуйста». Джеймс Амос послушно выключил маленькую лампочку на туалетном столике и присел на стул возле постели больного. Весь день до этого – а это было воскресенье, 5 января 1919 года, – Рузвельт провёл в спальне, окна которой выходили на залив. Он вычитывал гранки статьи для газеты «Metropolitan», диктовал письмо и читал вслух. Несколько ранее обычного его потянуло в сон, и он сказал слуге: «Я мог бы и прилечь теперь, пожалуй». Джеймс с трудом довёл его до постели. Около четырёх часов утра ему показалось, что дыхание Рузвельта сбилось, и он разбудил Эдит. Та склонилась над больным: «Теодор, дорогой!» – «Приподними меня, – едва слышно ответил он ей. – Иначе остановится или сердце, или дыхание». И после паузы добавил: «Это такое странное чувство… Знала бы ты, как я люблю Сагамор Хилл!» Он говорил о доме, в котором жил и в котором теперь умирал. В четыре часа утра 6 января семейный доктор Фоллер констатировал, что остановилось и дыхание, и сердце «президента-интеллектуала», пионера политики «большой дубинки». Бесстрашный, беззаботный и по-мальчишески задорный Полковник, как его звали, пошёл в вечность за своими солдатами.
Зато соотечественник Рузвельта, нью-йоркский театральный продюсер и режиссёр ФЛОРЕНЦ ЗИГФИЛД, известный своим сценическим безрассудством, потребовал, как водится, не только света: «Свет! Занавес! Музыка! Сыграем же последнюю сцену!» – кричал «отец американского мюзикла» со смертного ложа. Он словно бы вновь представлял родственникам и друзьям, собравшимся в его спальне, своё популярное музыкальное шоу «Безумства Зигфилда», шедшее на Бродвее. – «Замечательно!.. Великолепный спектакль! Просто великолепный!»
А прославленная наша балерина АННА ПАВЛОВНА ПАВЛОВА, которая «способна была пройти по полю, не примяв ни колоска», так та просто рвалась на сцену из промёрзшего гостиничного номера в Гааге, где умирала от жестокого воспаления лёгких и острого заражения крови. «Приготовь, приготовь мне мой костюм Лебедя!» – призвала она, «русская лебедь», свою служанку Маргерит Летьенн. И это-то в половине первого ночи! Потом взглянула на дорогой парижский костюм и сказала: «Лучше бы я потратила эти деньги на своих детей…» Она имела в виду воспитанниц созданного ею сиротского приюта. У неё начался бред, пред ней чередой проходили её близкие и друзья – Михаил Фокин, Сергей Дягилев, Мариус Петипа, Вацлав Нижинский, Камиль Сен-Санс, Виктор Дандре. Она в последний раз открыла глаза, с усилием подняла руку, как будто хотела привычно перекреститься, и затем грудь её больше не поднималась. Впервые за тридцать лет своей карьеры прима-балерина Мариинского театра и участница «Русских сезонов» в Париже, танец которой император Николай Второй приказал «изваять в скульптуре», не смогла выйти на сцену. Священник Розанов в порядке исключения дал согласие на «огненное погребение» Павловой. Но прах её по-прежнему содержится в нише 5791 крематория «Гоулдерс Грин» в Англии. Гостиница «Отель дез Энд» в Гааге, где скончалась Анна Павлова, сохранилась до сих пор. Только её номер «Японский салон» больше уже не сдаётся. Никому.
«Принесите моё платье, моё платье, – повторял уже без памяти больной, осунувшийся, исхудавший и уставший от разочарований венгерский композитор и музыкант ФЕРЕНЦ ЛИСТ, неожиданно постригшийся в монахи. – Сегодня вечером на Вагнеровском представлении дают „Тристана!“ Мне нужно там быть…» Служанка удерживала его силой в постели. «Да поймите же вы, – упорствовал Лист. – „Тристан“! Моя дочь Бландина ждёт меня. Я должен быть там… Они аплодируют, аплодируют… Надо бы сказать дирижёру… Нет, нет, не надо… Я сам выйду и раскланяюсь перед публикой… Так ведь полагается». Лист хотел сказать ещё что-то, но всё время сбивался и вдруг неожиданно чётко и ясно произнёс: «Тристан», «Тристан»… Служанка принесла ему горячего чаю и заметила, что хозяин, едва шевеля губами, опять пытается ей что-то сказать. Она наклонилась к самому его лицу и услышала: «Я не хочу умирать один, ты слышишь? Не оставляй меня, не оставляй…» Он принял служанку за свою возлюбленную и музу, смуглую амазонку польских кровей княгиню Каролину Сайн-Витгенштейн. Незадолго до кончины Лист сказал про неё: «Если я умру первым, то она вскоре последует за мной». Он умер первым, княгиня пережила его на семь месяцев.
Рухнула на сцене великая актриса Италии ЭЛЕОНОРА ДУЗЕ. Она гастролировала по Америке, и её последней пьесой в Питсбурге стала, по иронии судьбы, драма «Закрытые ворота». Заключительное слово своей роли «sola» («одинокая») она произнесла с таким пронзительным чувством, страстью и силой, что, когда упал занавес, упала на подмостки и сама она. Зато вскочила на ноги публика – она вызывала актрису десять раз, и каждый раз Дузе, превозмогая себя, выходила на поклон к зрителям. Актриса с величайшим трудом добралась до гостиницы «Шенли», где вызванный доктор засвидетельствовал у неё крупозное воспаление лёгких. На следующий день – это было пасхальное воскресенье – она, очнувшись, окинула взглядом артистов, собравшихся подле её постели, и поинтересовалась: «Почему это вы бездельничаете? Нам нужно собираться. Давайте двигаться! Мы должны выезжать! Да делайте же что-нибудь! Да делайте же что-нибудь!» Голос актрисы был по-прежнему несравненно красив. Она была неспокойна, но, кажется, не страдала. Неожиданно по телу её прошла волна смертельного озноба, она прошептала: «Укройте меня», и через десять минут Дузе не стало. Под ногами на полу валялся кем-то оброненный пиковый туз. По толкованию знаменитейшей французской ворожеи Ленорман, эта карта означает разлуку.
Божественная САРА БЕРНАР, великая актриса с «золотым» голосом, который вызывал слёзы у любой аудитории, мечтала о смерти на сцене. «Мадам, я умру на сцене, – признавалась она в Лондоне королеве-матери. – Ведь сцена – это моё поле боя!» И такое почти случилось. На генеральной репетиции пьесы Саша Гитри «Римский сюжет», где актриса играла сразу три роли, она неожиданно провалилась в глубочайший обморок. Несколько дней пребывала Бернар в полусознательном состоянии, и по Парижу разнеслось: «Великая Сара умирает». Десятки поклонников часами молча стояли возле её дома на бульваре Перейре в ожидании новостей. В Париже бушевал март, и Бернар, порой приходя в себя, бормотала из постели: «Прекрасная весна. Будет полным-полно цветов». И просила сына Мориса: «Позаботься, чтобы меня осыпали сиренью». По квартире Бернар, забитой коврами, подушками и пуфами, ползали змеи, скакала обезьянка Жаклин и бродили приблудные псы, которых добросердечная Сара подбирала на улицах Парижа. В углу спальни стоял гробик, хорошенький гробик из розового дерева, с серебряными ручками, обитый внутри белым стёганым атласом, – много лет назад Саре Бернар пришла мрачная фантазия купить его, и она нередко в нём репетировала роли, а то и спала, иногда даже и с любовниками, которых, правда, на многое там не хватало! Потом она спросила Мориса: «А что, толкутся ли ещё репортёры у нас в прихожей?» И на утвердительный его ответ сказала с улыбкой, в которой мелькнуло застаревшее ожесточение: «Всю жизнь репортеры изводили меня; так что, и я могу подразнить их теперь немного напоследок – пусть поторчат там без толку…» И это были последние слова «царицы салонов». В 8 часов вечера 25 марта 1922 года доктор Маро вышел на балкон и произнёс: «Господа, Мадам Сара умерла». Мимо её гроба, того самого, из спальни, прошли за сутки более тридцати тысяч французов и француженок. Бернар просила найти шестерых самых красивых актёров, которые бы его несли, и пожелала, чтобы на её похоронах обязательно были камелии.
Перед отъездом в Брюссель, в клинику известного онколога Леду, композитор ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ встретился с Артуро Тосканини и говорил о постановке своей последней оперы «Турандот». Показывая дирижёру неоконченную партитуру, Пуччини произнёс пророческие слова: «Ну, а здесь кто-то выйдет на сцену и скажет: „В этот момент смерть прервала работу композитора“». Операция на горле не оправдала надежд профессора Леду. Говорить автор «Богемы», «Тоски», «Мадам Баттерфлай» и «Манон Леско» уже больше не мог. Силы быстро оставляли Пуччини. Знаком окоченевшей руки он попросил бумагу и карандаш и написал свои последние слова: «Мне хуже, чем вчера, – адская боль в горле – холодной воды. Эльвира – бедная женщина!» Наступила агония. В клинику прибыли посол Италии и папский нунций. В субботу, 29 ноября 1924, в миланском «Ла Скала» Артуро Тосканини в середине третьего действия «Турандот» отложил дирижёрскую палочку, остановил оркестр и сказал в публику: «В этот момент, на этой ноте смерть прервала работу Пуччини. На сей раз смерть оказалась сильнее его пера». Впервые в истории «Ла Скала» публика покидала театр без аплодисментов.








