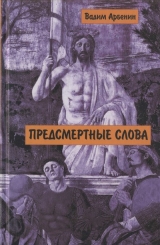
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Субботним утром 2 июля 1881 года 20-й президент США ДЖЕЙМС ГАРФИЛД прогуливался по почти пустынному перрону железнодорожной станции Вашингтон-Балтимор в ожидании нью-йоркского экспресса. Неожиданно бородатый, невысокого роста мужчина в потрёпанной одежде подошёл к президенту сзади, выхватил револьвер и дважды выстрелил ему в спину. «Он, должно быть, сумасшедший, – простонал упавший на платформу Гарфилд. – Никому, кроме сумасшедшего, не пришла бы в голову такая странная мысль. Чего же он, собственно, хотел-то, стреляя в меня?» Убийца, некий Чарльз Гито, на самом деле, оказался психически нездоровым, но он знал, зачем стрелял в Гарфилда. Он хотел, чтобы кресло в Белом доме занял вице-президент Честер Артур. Умирая, Гарфилд попросил: «Перевезите меня из Вашингтона в какой-нибудь городок на берегу океана. Хочу напоследок надышаться свежим морским воздухом». Нет, надышаться уже не успел.
В 9 часов утра 7 июня 1927 года полномочный представитель СССР в Польше ПЁТР ЛАЗАРЕВИЧ ВОЙКОВ приехал на Главный вокзал Варшавы проводить в Москву Аркадия Розенгольца, посла СССР, выставленного властями из Лондона. В привокзальном буфете дипломаты выкушали по чашечке кофе «по-варшавски» с эклерами и вышли на перрон к стоящему под парами скорому поезду Берлин-Варшава-Москва. «Чтобы узнать страну, надо прожить в ней несколько лет, Аркадий…» – говорил Войков коллеге, когда они подходили к спальному вагону экспресса. И в этот самый миг раздался револьверный выстрел, а за ним ещё пять. В спину Войкова стрелял из револьвера системы «маузер» девятнадцатилетний эмигрант из Вильны, крестьянский сын, гимназист и корректор газеты «Белорусское слово» Борис Коверда. Посол успел достать из кармана свой личный «браунинг» за № 80 481, обернулся и начал отстреливаться, но очередная пуля в левый бок свалила его, и он упал на руки подбежавшего полицейского околоточного. Склонившемуся над ним Розенгольцу он пожаловался: «Тяжело лежать на спине… Посадите меня… Вызовите двух профессоров…» Но имена профессоров произнёс уже неразборчиво. В карете «скорой помощи» Войкова доставили в госпиталь Младенца Иисуса, где он, придя на короткое время в сознание, отдал приказание сотруднику посольства: «Спаси бумаги… и ключи полпредства… они при мне…» И скончался в 10.40 того же дня в присутствии министра иностранных дел Речи Посполитой Залесского.
Ближе к вечеру 15 октября 1959 года в подъезд пятиэтажного дома № 7 по Крейтмайрштрассе в Мюнхене вошёл некто Стефан Попель, один из двух жильцов, живущих на площадке второго этажа. С пакетом помидоров в руках он поднялся по каменным ступенькам к своей квартире и вставил ключ в замочную скважину. Но, странное дело, замок и не думал поддаваться. «Смотрите-ка, никак у вас замок сломался!» – окликнул Попеля незнакомец со свёрнутой газетой в руках, неизвестно откуда появившийся за его спиной. Попель повернулся: «Да нет, всё нормально. Но кто вы?..» И незнакомец (а это был офицер КГБ Богдан Сташевский) выстрелил ему в лицо капсулой с зарядом цианистого калия. Попель пошатнулся и ухватился за перила лестницы, ноги его подкосились, и он упал на пол лестничной клетки. Врачи вскоре прибывшей кареты «скорой помощи» хотели было признать смерть Стефана Попеля от сердечной недостаточности, если бы настоящее имя его не было СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ БАНДЕРА, а он сам не был бы руководителем «Украинской повстанческой армии», воевавшей во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии.
«Ну, что там нового про осаду Севастополя? – спросил племянника очнувшийся от тифозной горячки КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ. – Прочти мне, Григорий, все политические новости. И собери поболе карт той местности». Но вдруг пульс лирического поэта, мучимого неизлечимой психической болезнью, упал, он замолк, и приходскому вологодскому священнику, пришедшему с напутственными дарами, уже не отвечал, а только показывал рукою знак отрицательный. Но умер Батюшков в совершенной памяти и перед смертью даже приказал: «Подайте мне побриться». Однако побриться уже не успел.
«Ну, как там наши?» – спросил врача знаменитый русский танцор и балетмейстер МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ФОКИН, умирающий в нью-йоркском госпитале. На календаре был день 22 августа 1942 года, один из самых ожесточённых и кровопролитных дней боёв на подступах к Сталинграду, и руководитель балетной труппы «Русские сезоны», более двадцати лет назад покинувший «наших», очень «нашими» теперь интересовался. Врач-американец понятия не имел, что происходит на Сталинградском фронте, и Фокин умер в счастливом неведении.
«Какие новости с фронта?» – заинтересованно спросил князь КЛЕМЕНС фон МЕТТЕРНИХ своего министра иностранных дел, который пришёл навестить больного канцлера Австрии в его летней вилле Реннвег в Вене. «Последняя сводка из Ломбардии неутешительна, – ответил ему граф Решберг. – Наши войска разбиты там наголову под Сольферино и Маджентой». – «Как!» – воскликнул обычно внутренне невозмутимо спокойный Меттерних и свалился в глубочайший обморок. И было отчего! Его сын Пауль служил младшим офицером в Италии, в одном из пяти корпусов Второй армии генерала Франца Гьюлаи, разбитых теперь французами и пьемонтцами. После этого удара Меттерних, в жизни бесконечно болтливый, почти полностью потерял дар речи, который так и не вернулся к нему полностью. Лишь однажды он, с трудом выговаривая слова, попросил внучку Паулину: «Вынесите меня на стуле в сад». Июньский день оказался жарким и удушливым, Меттерних задыхался от нехватки воздуха и всё повторял: «Я исполнил свой долг… Я был монолитом общественного порядка… Я был монолитом порядка…» Да, был. Этот мастер тончайшего искусства тайной дипломатии, более чем кто-либо другой, умел держать в руках судьбы Европы. Правда, порядок, охраняемый им в империи, рухнул ещё при его жизни.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИТЕНКО, известный писатель, академик российской словесности и Великий Цензор, сам немало натерпевшийся от царской цензуры, не закончил запись в своём дневнике: «Июль, 20. – Проиграно сражение при Плевне, и какое-то мрачное молчание, лишающее нас сведений о…». На следующий день, 21 июля 1877 года, Никитенко скончался.
«Какие последние политические известия?» – поинтересовался из постели чуть слышным голосом умирающий поэт и тоже цензор в камергерском звании, Председатель цензуры иностранной, ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ, в котором вдруг проснулся бывший дипломат. Духовник, вызванный по телеграфу из Петербурга к нему на дачу в Царском Селе, подошёл, чтобы напутствовать поэта к смерти, но Тютчев предварил его вопросом: «А какие получены подробности о марше на Хиву?» Хивинский поход занимал его сильно. «Марш закончен», – ответил ему духовник. «Теперь я умру спокойно…» – прошептал Тютчев, «жадный читатель политических новостей», и погрузился в мысли о будущем России. И всё же добавил: «Ах, какая это мука, когда не можешь найти слово, чтобы выразить мысль…» Хотя именно ему принадлежат слова: «Мысль изречённая есть ложь». Потом сказал дочери по-французски: «Faîtes un peu de vie autour de moi» («Пусть будет несколько жизни вокруг меня»). А последним его восклицанием было: «Я исчезаю, исчезаю!..» Он просиял – и погас.
И последними словами великого русского художника ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА СУРИКОВА, умирающего от склероза сердца в номере московской гостиницы «Дрезден», тоже были: «Я исчезаю…»
А тётка Тютчева и близкий друг Гоголя НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ШЕРЕМЕТЕВА приехала к великому писателю в гости, но, не застав его дома, велела людям: «Скажите Николаю Васильевичу, что я приходила с ним проститься». После чего поехала домой, слегла в постель и отдала богу душу.
«А чего вы ожидали! – сказал умирающий генерал ЖИЛЬБЕР дю МОТЬЕ, маркиз де ЛАФАЙЕТ своему доктору Клоке. – Жизнь ведь, как пламя в лампе: когда кончается масло в ней – бац! она затухает, и всё кончено». И то верно. Накануне рано утром генерал, «герой двух миров», как обычно, запряг в русскую коляску своего борзого конька и поехал в Буа. В пути попал под проливной холодный дождь, а свежий майский ветерок хорошенько его продул, и, пожалуйста, «отец всех французов» уже в койке с высокой температурой. А толпы «его детей» и почитателей собираются под окнами его дома на улице Анжу Сент-Оноре в Париже, суетятся приглашённые медсёстры и раздаются бюллетени о состоянии его здоровья. Тут же продирается сквозь толпу и почтальон со свежим номером газеты «La Gazette de Suisse», из которой «милый маркиз» узнаёт о своей кончине и, смеясь, протягивает её доктору: «Вот я уже мёртв, а вы даже не знаете об этом. Eh bien! И верь после этого газетам!» Пока кюре из церкви Успения читал над умирающим молитвы, сын Жорж увидел, что отец неверной рукой ищет что-то под рубахой на груди и помог ему достать и переложить в ладонь медальон. В нём был миниатюрный портрет жены Лафайета, АДРИЕННЫ де НОАЙ, бесстрашной хрупкой женщины из высшего света, которая добровольно разделила с мужем тюремную камеру и испила до дна горькую чашу нищеты и бесправия. Умирая, она изо всех сил сжимала руку мужа и спрашивала, когда он говорил ей о своей любви: «Это правда? Как вы добры! Повторите мне это ещё раз…» Лафайет заговорил о её выздоровлении. «О нет! – возразила она. – Я умру. Вы сердитесь на меня за что-нибудь, друг мой?» – «Боже, конечно же, нет! Вы всегда были так добры и нежны ко мне!» – «Значит, я была вам хорошей спутницей?» – «О да, дорогая!» – «Ну, что же, благословите меня. Je suis toute a vous. Я вся твоя». Адриенна скончалась в рождественскую ночь 1807 года. После её смерти Лафайет всегда носил в бумажнике сложенный вчетверо листок с её последними словами и локон её волос.
«Хочу клюквы с патокой», – признался барон ПЁТР КАРЛОВИЧ КЛОДТ и с удовольствием её откушал. Первый скульптор России, создатель знаменитых «Укрощённых коней» на Аничковом мосту и грандиозной квадриги на Нарвских триумфальных воротах в Петербурге, он гостил у дочери на мызе Халола в Куусикиркко, был весел и вырезал внучке бумажных лошадок и коровок. «Деточка, и мой старый батюшка тоже, бывало, вырезывал мне лошадок из бумаги, когда я был маленьким», – рассказывал отставной поручик, юнкер-лошадник и барон-мастеровой девочке. В семь часов вечера он заторопил с чаем: «Хорошо бы выпить чайку, да поскорей лечь спать, чтобы завтра пораньше встать и вернуться в город». – «Дедушка, вырежи ещё одну лошадку», – попросила его внучка, и он опять взялся за ножницы, вынул из подвернувшейся под руку колоды игральных карт пиковую даму и принялся вырезать из неё коняшку. «Смотри, как она сейчас запрыгает у нас, как живая». Когда его старый слуга вносил в комнату самовар, он повернулся с неожиданно перекошенным, словно бы от боли, лицом. «Дедушка, не пугай! – закричала внучка. – Не надо меня смешить такими гримасами». Но дедушка, не переставая гримасничать, сдвинул на лоб очки и рухнул на пол, не выпустив из рук бумажного коня. Он всю жизнь любил ваять коней и отлил их из бронзы только для Северной столицы ни много ни мало одиннадцать штук. «Нет Петербурга без Клодтовых коней», – говорили его современники. Император Николай Первый, большой знаток и любитель лошадей и покровитель Клодта, первым оценил это его искусство. «Да ты делаешь коней лучше, чем их делают мои жеребцы», – похвалил он как-то скульптора. И после смерти Николая тот отблагодарил его, посадив бронзового императора на изящно вздыбленного бронзового коня, стоящего лишь на двух задних ногах! Но денег Клодту это не прибавило. После смерти у него в секретере нашли только 60 рублей ассигнациями и два выигрышных лотерейных билета, чего даже на похороны не хватило. По «Новейшей гадательной книге» тех лет, пиковая дама означала тайную недоброжелательность, а по системе мадемуазель Марии Анны Аделаиды Ленорман – и вовсе гроб.
«Джим, мне тут привезли из питомника новые розы, несколько свежих кустов, нужно бы их посадить, – позвонил по телефону своему садовнику ЭДГАР ГУВЕР, директор Федерального Бюро Расследований. – Приезжай завтра пораньше, часам к восьми». И поднялся к себе в спальню, как всегда энергичной, пружинистой походкой. Заканчивался Первомайский день 1972 года. Обещанная Гувером много лет назад революция в Америке опять не свершилась. На следующее утро его домоправительница Анни Филдс приготовила ему неизменный завтрак – кофе, горячие тосты и яйца всмятку, которые он всегда по-братски делил с парой своих терьеров. В половине восьмого завтрак уже дымился на столе, но Гувер ещё не спустился. Несколькими минутами позже шофёр Гувера подогнал к дому его лимузин, но самого Гувера по-прежнему ещё не было. Около восьми приехал садовник Джеймс Кроуфорд повозиться с розами и только ждал указаний от хозяина. Трое слуг-негров заметно нервничали, и Анни поднялась наверх, но на её стук в дверь спальни Гувер не отозвался. Она вошла. Гувер лежал на полу в ночной пижаме. Он был мёртв.
В полдень 2 декабря 1723 года герцог ФИЛИПП ОРЛЕАНСКИЙ, племянник Людовика Четырнадцатого и регент Людовика Пятнадцатого в годы его несовершеннолетия, спустился к жене и выпил с ней чашку горячего шоколаду. Потом, с трудом поднявшись из кресел, сказал ей: «Надо идти, меня ждут неотложные дела». Герцог работал в розовой гостиной Пале-Рояля до шести часов вечера, когда от бумаг его оторвал приход мадам де Фалари, изящной блондинки с голубыми глазами, пышными формами и «необъятным лоном». Они уселись в кресла перед жарко натопленным камином, и Филипп задумчиво гладил красивые руки своей возлюбленной. «Ты веришь, что Бог существует?» – неожиданно спросил он, безбожие которого было широко известно. «Да, мой принц, в этом я совершенно уверена». – «Но если это так, то ты обречена, раз ведёшь ту жизнь, которую ведёшь». – «Я надеюсь на милосердие Божие», – ответила она, положив свою белокурую головку на колени принцу. Филипп, отяжелевший, с побагровевшим лицом, пребывал в подавленном настроении, он едва пригубил вино и тихо сказал: «Друг мой, я немного устал, и в голове у меня тяжесть. Почитай мне какую-нибудь волшебную сказку или рыцарский роман, у тебя это так хорошо получается. У меня страшно ломит затылок». Герцогиня тогда подсела поближе к своему любовнику в кресло, а он подался вперёд, заключая её в объятия. Она молчала, ожидая, что он расскажет ей, как всегда, что-нибудь забавное, но вдруг Филипп согнулся и замертво повалился на паркет.
«Ах, как бы я желал умереть так же!» – воскликнул АВГУСТ ВТОРОЙ СИЛЬНЫЙ, курфюрст Саксонский и король Польский, узнав о смерти герцога Филиппа Орлеанского, умершего в объятиях мадам де Валори. Но смерть, увы, не постигла его так неожиданно, как он того желал. Одарённый поистине богатырской силой, необыкновенной жизнерадостностью и ненасытной чувственностью (700 жён и любовниц и 354 ребёнка!), однажды, на рыцарском турнире, гарцуя на коне перед княжной Любомирской, король-волокита упал наземь и повредил левую ногу. Этим падением «саксонский Геркулес и Самсон» приобрёл расположение прекрасной графини Тешен, но оно же стало и причиной его смерти – у него открылась гангрена. Лейб-хирург Вейс отхватил ему большой палец ноги, после чего король уже не смог ни стоять, ни ходить. Даже с дамами он беседовал сидя! И всё же поехал на открытие Сейма в Варшаву, где, выходя из экипажа, вновь повредил больную ногу. Открылся «антонов огонь», и Августа не стало. Но, как говорят, жизнерадостный король умер всё-таки от смеха.
Первый президент Третьей Французской Республики и крупнейший историк Франции АДОЛЬФ ТЬЕР угощал обедом у себя дома, на площади Сен-Жорж, немецкого посланника князя Гогенлоэ. «Я не могу отказать стране в своих услугах, – объяснял он послу своё намерение вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. – Хотя это может стоить мне жизни…» И вдруг, подавившись кусочком тушёного мяса, Тьер зашёлся в сильнейшем приступе кашля. «Вынесите меня на свежий воздух… – с трудом прохрипел „сладострастный гном“. – На свежий воздух…» Его вынесли на террасу, где на него напал озноб, и его уложили в тёплую постель. Вскоре он, однако, впал в кому, и через несколько часов его не стало.
Американский генерал ДЖОН СЕДЖВИК, один из командующих федеральными войсками во время Гражданской войны между Севером и Югом, беззаботно осматривал в подзорную трубу поле боя, хотя его настойчиво просили сойти в укрытие. «Да эти конфедераты и в слона не попадут с этой дистанц…» – только и успел произнести он, когда пуля Минье ударила его в сердце. Эти генералы в цветных, расшитых золотом мундирах, с иконостасом наград, оказывались во время войны наиболее уязвимыми мишенями.
Начальник героической Севастопольской обороны, сорокавосьмилетний генерал-адъютант и вице-адмирал ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРНИЛОВ ранним утром 5 октября 1854 года поскакал из дома на позиции, чтобы поддержать дух защитников, – в половине седьмого началась первая бомбардировка города. Против Малахова кургана, куда поднялся Корнилов, действовали три английские пушечные батареи, и огонь их был просто губительный. Королевские канониры сразу же заметили высокую фигуру русского адмирала в парадном мундире, с белым султаном на фуражке, и, конечно же, усилили бомбардировку бастионов. «Вам решительно нечего тут делать, Владимир Алексеевич, – обратился к Корнилову начальник обороны кургана контр-адмирал Истомин. – Уезжайте с этих губительных мест». – «От ядра всё равно не уйдёшь, – ответил ему Корнилов, весь забрызганный глиной и кровью. – Постойте, мы поедем ещё на пятый бастион, где действует Нахимов, а потом уж и домой». И направился было к крепостному валу. Он не дошёл до бруствера всего каких-то трёх шагов, когда неприятельское ядро ударило его в левое бедро, в самый пах, раздробив всю ногу. Подбежавшие офицеры подняли адмирала на руки и положили за бруствером между орудий. «Ну, вот теперь и пойдём, – собрав последние силы, спокойно произнёс Корнилов. – Отстаивайте же Севастополь». И через некоторое время забылся. Он пришёл в сознание на перевязочном пункте: «Не плачьте… Смерть для меня не страшна… Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна». За минуту до смерти ему сказали, что английские орудия сбиты. «Ура!.. Ура!..» – прошептал Корнилов. И это были его последние слова.
Контр-адмирал ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ИСТОМИН, сменивший Корнилова, приказывал морским офицерам Камчатского оборонительного редута на Малаховом кургане: «Никого из армейских генералов на Курган не пускать! Гоните вон! А кто не послушается – тому пулю в лоб!» На свой бастион адмирал смотрел как на корабль, где он командир и где только он имел право командовать. Английские батареи тяжёлых мортир против Кургана гремели неистово. Истомина просили переждать канонаду в траншее. Он отмахнулся: «Э, батенька, всё равно: от ядра нигде не спрячешься!» И в тот же миг ядром ему снесло голову. Это случилось 7 марта 1855 года.
Адмирал ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ НАХИМОВ, который возглавил оборону осажденного Севастополя после гибели Истомина, во вторник, 28 июня 1855 года, с двумя адъютантами, верхами, приехал на Корниловский бастион на Малаховом кургане. «Как приятно ехать с такими молодцами, как мы с вами!» – похвалил он их, поднялся на сторожевую караулку у вершины бастиона, и в подзорную трубу стал осматривать ближайшую пушечную батарею французов на Камчатском редуте, откуда безостановочно сыпались бомбы, гранаты и ядра. Высокая сутулая фигура Нахимова в золотых адмиральских эполетах с чёрными орлами, да ещё с бронзовой зрительной трубой была хорошо видна с батареи и хорошо узнаваема. А французские стрелки очень метко выбивали российских офицеров. И тут же совсем рядом, едва не зацепив локоть адмирала, ударила в стенку траншеи прицельная пуля дальнобойного штуцера. Стрелял, несомненно, снайпер. «Они сегодня довольно метко стреляют, – обратился Нахимов к командиру 4-го бастиона, капитану Керну. – Надо бы взять и нам на нисходящий угол… Прощайте…» Раздался другой одиночный выстрел, и другая прицельная штуцерная пуля ударила Нахимова в лицо, «в левый бугор лобной кости, на один дюйм выше левого глазного края, пробила череп и вышла у затылка». Адмирал повалился на бруствер, повалился молча, не вскрикнув. Было шесть часов пополудни. Странная случайность! Обыкновенно уходя с батареи, адмирал протягивал руку её командиру, говоря: «До свидания». В этот роковой день, расставаясь с ним, он сказал ему: «Прощайте!..» Более суток Нахимов лежал в беспамятстве в бараке на Северной стороне, но за несколько минут до кончины он вдруг пришёл в себя, судорожно схватил себя за голову и, проговорив: «Ах, Боже мой!», скончался. Его гроб был покрыт простреленным кормовым флагом линейного корабля «Императрица Мария», на котором адмирал находился в Синопском сражении. Говорили потом, что Нахимов, герой Наварина, Синопа и Севастополя, «рыцарь без страха и укоризны», нарочито искал смерти, и это похоже на правду. Гибель его боевых товарищей, адмиралов Корнилова и Истомина, затопление Черноморского флота и предстоящая сдача Севастополя были для него трагедией столь тяжёлой, что его собственная жизнь больше уже не имела ни смысла, ни значения, ни цены.
РУССКИЙ СОЛДАТ, один из рядовых пехотного графа Дибича-Забалканского полка, страдая от смертельных ран, остановил верхового близ Малахова кургана, в осаждённом Севастополе: «Постойте, ваше благородие!.. Я не помощи хочу просить, а важное дело есть!..» Офицер склонился над умирающим. И услышал: «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» – «Нет, не убит», – взял грех на душу офицер. Солдат перекрестился: «Ну, слава Богу! Я могу теперь умереть спокойно». И умер. Как солдат.
«Да-с, дорогой Василий Васильевич, это и есть главные силы японского флота». – Командующий Тихоокеанским флотом адмирал СТЕПАН ОСИПОВИЧ МАКАРОВ широким жестом указал на горизонт, где вытянулась вражеская эскадра. «Вот полюбуйтесь кораблями микадо, пока они всё ещё целы! Вон броненосец „Микаса“, под вымпелом адмирала Того». Макаров и известный художник-баталист Верещагин стояли на капитанском мостике флагманского броненосца «Петропавловск», возвращавшегося из ночного похода под прикрытие береговых батарей Порт-Артура. «Всё пойдёт на лад, я в этом уверен, – говорил Макаров. – Знаете, русский человек медленно запрягает, да быстро скачет…» Потом, повернувшись к вахтенному офицеру, приказал: «Передайте на броненосец „Севастополь“ сигнал „Встать на якорь“!» И в этот самый момент чудовищной силы взрыв сотряс корпус «Петропавловска» – броненосец напоролся на японскую мину. Через две минуты – носом вниз – он ушёл под воду. Было спасено лишь 7 офицеров и 52 матроса из 650 членов экипажа. Макарова среди спасённых не оказалось. Удалось только выловить адмиральскую шинель. Было 9 часов 39 минут утра 31 марта 1904 года. «Да что там броненосец! – горевали матросы. – Хоть два, хоть три, да ещё пару крейсеров в придачу, голова ведь пропала!»
Поздним вечером 2 декабря 1904 года командующий сухопутной обороной Порт-Артура, генерал-лейтенант РОМАН ИСИДОРОВИЧ КОНДРАТЕНКО, проводил совещание в единственном не разрушенном в крепости каземате. После совещания он вручил знаки отличия военного ордена Святого Георгия двум рядовым защитникам форта № 2. Поздравив их, генерал выпил за их здоровье немного красного вина, которое из своих средств он присылал на этот форт. «Ваше превосходительство, разрешите и нам выпить за ваше здоровье», – обратился к нему штабс-капитан Берг. «Пейте за своё собственное», – ответил генерал, улыбнувшись. И в этот самый момент 12-дюймовый японский снаряд, пробив перекрытие каземата, разорвался посреди офицерской комнаты. Кондратенко и девять его офицеров погибли на месте, семеро были ранены. В день похорон Кондратенко японцы почти не предпринимали обстрел Порт-Артура.
«Я уеду отсюда в следующую пятницу», – сказал жене Чармиан ДЖЕК ЛОНДОН, укладываясь в постель на своём калифорнийском ранчо Глен Эллен. В постель он забрался с книгой «Путешествие, огибая мыс Горн, из Мэна в Калифорнию в 1852 году на корабле „Джеймс У. Пейдж“». Часов в десять Лондон задул лампу и заложил страницу в книге обгоревшей спичкой как закладкой. А в восемь часов утра пришедший будить его японский мальчик Секинэ с криком выбежал из спальной комнаты: «Джеку плохо!» Знаменитый писатель лежал, скорчившись на кровати, багровое лицо отекло неузнаваемо – симптомы отравления были очевидны. На ночном столике лежал листок с расчётами смертельной дозы морфия и стояли два пустых пузырька из-под сульфата морфия и сульфата атропина. Один из вызванных врачей не сомневался, что Джек покончил с собой. Другой счёл, что тот по ошибке принял чересчур большую дозу лекарства. Они влили ему в рот большую кружку крепкого горячего кофе, но реакция оказалась слабой. Тогда они попытались расшевелить Джека словами: «Вставайте, плотину прорвало! Вставайте же, вставайте!» Распростёртый на постели Лондон услышал эти слова, понял и тихо ответил: «Безносая с косой всегда под рукой…», а потом секунд тридцать слабо бил кулаком по матрацу. Более ничего не последовало. Его перенесли на веранду, положили на кушетку, и там он к вечеру скончался. Лондон оказался прав в одном: он покинул ранчо, как и замышлял, в пятницу. Именно в этот день тело его повезли в Окленд для кремирования.
Один из героев и в то же время самый гнусный предатель в истории Американской войны за независимость БЕНЕДИКТ АРНОЛЬД так расчувствовался на смертном одре, что попросил облачить себя в генеральский мундир с аксельбантом и эполетами, пожалованные ему президентом Джорджем Вашингтоном. «Дайте мне умереть в моём старом мундире, – с трудом прошептал измученный астмой, подагрой и водянкой Арнольд. – Да простит мне Господь, если я когда-либо надевал другой». Надевал, надевал. За сдачу англичанам главной военной базы Уэст-Пойнт и выдачу им своих однополчан изменник получил от них звание полковника королевской кавалерии и 6 тысяч фунтов. И всё же Америка не забыла Арнольда – в Саратоге поставлен памятник его левой ноги, в которую он был ранен англичанами, воюя против них за свободу.
Изумительной храбрости генерал, прославленный российский полководец и народный кумир МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ СКОБЕЛЕВ погиб не на поле боя, а бесславно умер на ложе продажной любви. «Второй Суворов», как звали его русские солдаты, и «враг Германии», как звал его кайзер Вильгельм Второй, рано утром откушал в ресторане сада «Эрмитаж» со своим адъютантом Баранком, и тот запомнил последние слова генерала: «А помнишь, Алексей Никитич, как на похоронах в Геок-Тепе поп сказал, что „слава человеческая, как дым преходящий“. Подгулял поп, а хорошо сказал…» Потом Скобелев посетил в Москве известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова, главного редактора журнала «Русь», и оставался у него до 11 часов вечера. А перед уходом передал тому связку каких-то бумаг и документов (план войны с немцами?) и попросил сохранить их для него. «Боюсь, что у меня их украдут. С некоторых пор я стал очень подозрительным. Пожалуй, моя песенка спета. Я всюду вижу грозу». И эти слова стали последними, услышанными Аксаковым от героя Шипки и Плевны. От него молодой и холостой генерал поехал в гостиницу «Англетер», что на углу Петровки и Столешникова переулка, чтобы «в роскошно омеблированных нумерах снять потрясение». Там он и «нашёл забвение в грубом чувственном кутеже» в компании немки Ванды (Шарлотты Альтенроз), красивой кокотки, известной тогда всей кутящей Москве. В три часа ночи «неряшливо одетая, испуганная и зарёванная» Ванда прибежала к дворнику и сказала, что у неё в номере скоропостижно умер офицер. Покойник был сразу же узнан, хотя и был без одежды, и переправлен в гостиницу «Дрезден», где он остановился по приезде в Москву. Образованный генерал, ветеран Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и Каспийского похода, где он, «белый генерал», неизменно появлялся на белоснежном жеребце и в белом кителе, заботливый отец солдат и рыцарски храбрый воин, которого не брали вражеские пули, Скобелев неожиданно стал жертвой неизвестной смертельной болезни. Правда, хозяин «Эрмитажа» был иного мнения: «Они изрядно тогда выпили, вот сердце и не выдержало». Скобелев шёл навстречу смерти с открытыми глазами. И она приняла его бесстыжая… Слава девицы Ванды после его смерти возросла неимоверно. На людях на неё указывали пальцем: «Смотрите, это вон та, которая…» Один англичанин приехал в Москву с единственной целью увидеть виновницу и свидетельницу смерти Скобелева. Легко добившись свидания с ней, он молча вошёл в её будуар, остановился возле ложа, на котором возлежала жрица любви, несколько минут молча смотрел на её обнажённое тело и, положив на стол деньги и не проронив ни слова, удалился. Удивлённая Ванда стала было его удерживать. «Не надо, – отрезал англичанин. – Я пришёл только посмотреть на могилу великого полководца».
Композитор и адъюнкт-профессор химии АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН весело отмечал широкую масленицу 1887 года, отмечал с коллегами, в складчину, на костюмированном балу в Медико-хирургической академии в Петербурге. Он много танцевал и смеялся, плотно ужинал, пел хором, кому-то подражал. Только что протанцевав тур вальса с юной девой в украинском народном костюме, он увидел входившего в аудиторию учёного секретаря Академии Пашутина, который был во фраке. «Ай-яй-яй, почему это мы такие парадные?» – поприветствовал он профессора. Сам Бородин был одет мужиком – в красную шерстяную русскую рубаху, синие шаровары и высокие мужицкие смазные сапоги. «Я только что с обеда», – развёл руками Виктор Васильевич. «Фрак вам идёт, не оправдывайтесь, – заступилась за Пашутина подошедшая их общая знакомая Мария Васильевна Доброславина. – Да он и всем к лицу. Для мужчин не знаю лучшей одежды: и строго, и празднично». – «Ага, значит, мой костюм вам не по душе? – со своей обычной шутливой галантностью обратился к ней Бородин. – Что ж, милая кума, если вы так любите фрак, отныне я всегда буду приходить к вам во фраке. – Последние слова он произносил, растягивая их и как бы закоснелым языком. – Чтобы уже наверняка и всегда вам нрав…» И, внезапно запнувшись на полуслове, автор оперы «Князь Игорь» и Богатырской симфонии рухнул во весь свой богатырский рост на пол. Пашутин стоял рядом, но не успел подхватить его. И умер Бородин в аудитории Сущинского, владении фармацевтов, рядом со своей казённой квартирой, среди бального веселья, среди ряженых в маскарадных костюмах, которые, хохоча, продолжали кадриль и не сразу остановили тапёра. Любимец богов при жизни, он и умер счастливой, мгновенной смертью. Это был разрыв сердца. «Словно страшное вражеское ядро ударило в него и смело из рядов живых».








