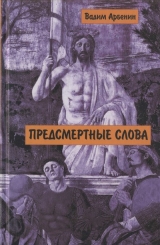
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ, не только энергичный вождь социал-демократов Германии и «мессия девятнадцатого века», но и избалованный женщинами дамский угодник, неожиданно воспылал страстью к кокетливой и легкомысленной «белокурой бестии» фрейлейн Елене фон Деннигес, дочери баварского посланника в Берне, и решил поволочиться за ней. И эта «русалочка с озера Тегернзее» тоже увлеклась «революционером в лайковых перчатках и норковой шубе», хотя и была уже обручена с чахоточным студентом Янко Раковицем, сыном богатого валашского помещика. Тот, понятно, вызвал Лассаля на дуэль на пистолетах. Стрелялись утром 28 августа 1864 года в Каружском лесу, под Женевой. Лассаль «дал изумительный промах», а Раковиц, никудышний стрелок, совершенно неожиданно смертельно ранил своего противника в подбрюшье. Друзья перенесли Фердинанда в пансион мадам Бове, где ветреная графиня Софья Гацфельд ждала его, своего возлюбленного. Чтобы не испугать ту, которая так его любила, Лассаль, через силу улыбаясь, сам вскарабкался вверх по лестнице и, как подкошенный, рухнул у ног любовницы. «Нет, не суждено мне стать мессией, – бормотал Фердинанд, уложенный в постель и опоённый опием. – Я не войду с моим народом в обетованную землю. Я лишь вывел их на дорогу и показал им страну, куда они должны устремиться. Мой жребий – участь Моисея. Другие, уже после меня, покажут то, что я посеял…» Кстати сказать, сострадательная пуля положила конец иным мукам Лассаля – несколько лет назад он «заразился известной болезнью от своего лакея Фридриха». Графиня Гацфельд хотела похоронить его на Рейне, но труп её «интимного друга» был арестован полицией, перевезён в Бреславль, на родину покойного, и захоронен там, на еврейском кладбище.
Великий князь КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ РОМАНОВ, генерал от инфантерии, командир лейб-гвардии Преображенского полка, а вместе с тем и посредственный поэт К.Р. («пиита малый»), лежал с альбомом стихов в руках на диване в своём уютном кабинете, в нижнем этаже Павловского дворца. Вошёл камердинер Фокин и доложил, что сестра князя, Ольга Константиновна, вдовствующая королева Греции, задерживается в госпитале и будет дежурить там ещё и 15 июня. «Значит, 15 числа в 15-м году я снова буду один…» – эти слова великого князя донеслись до слуха камердинера, когда он покидал кабинет. В тот день девятилетняя дочь князя Вера, услышав тяжёлое дыхание отца, вбежала в спальню к матери с криком: «Папа не может дышать!» Послали за доктором, и тот пришёл, но слишком уж поздно. К тому времени великий князь Константин Константинович и поэт К.Р. почил. Английские часы в этот миг пробили 15 часов пополудни 15 июня 1915 года.
«Я запрещаю вам плакать», – сказал жене Матильде и своим близким доктор ЖЕРАР ПАПЮС. Самый могущественный в Европе оккультных наук мастер, маг и целитель, он спокойно принял смерть во цвете лет, в возрасте 51 года, не в состоянии помочь даже самому себе. Задолго до этого, разложив карты таро, он с точностью до дня высчитал дату своей смерти – 25 октября 1916 года. Узнав о его смерти, российская императрица Александра Фёдоровна написала мужу, Николаю Второму, на фронт Первой мировой войны: «Папюс умер, а значит, мы обречены». Как же она оказалась права!
И семидесятидвухлетний американский генерал ЧАРЛЬЗ ЛИНДБЕРГ, «одинокий орёл», первым из авиаторов перелетевший Атлантический океан, из Нью-Йорка в Париж – на одноместном самолете «Дух Святого Людовика», рявкнул по-генеральски на жену Энн, которая не могла сдерживать рыданий: «Прекрати! Я ещё жив. Вытри же эту солёную жидкость и давай прощаться. Потом позовёшь детей…» И отправился в свой последний полёт… полёт в Неведение.
Вон и АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК туда же: «Почему ты вся в слезах?» – с удивлением и нежностью обратил он к жене свои последние слова. А потом закричал: «Близкие – самые страшные! Убежать от них некуда!..» И это о Прекрасной Даме, о своей Любочке Менделеевой! Блок знал, что умирает, и хотел умереть. Последняя строка его последнего стиха подтверждает это: «Мне пусто, мне постыдно жить!» Последней корректурой, которую он читал у себя в комнате на Офицерской улице, 57, в Петрограде, была «Последние дни императорской власти». Но умирал Блок тяжело, умирал от «воспаления сердца»: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди». И в чаду болезни, в ожесточении «хватал со стола и бросал на пол всё, что там было», швырял и разбивал о печку склянки с лекарством и запускал кочергой в зеркало, перед которым брился. Потом в бреду кричал: «Люба, все ли экземпляры „Двенадцати“ уничтожены? Хорошенько поищи и сожги, все сожги! Сжечь, сжечь!» Он совсем не мог лежать, а сидячая поза на постели в подушках страшно его утомляла. Уже после смерти поэта его мать получила в Луге и прочитала последнее письмо сына: «…Спасибо за хлеб и яйца. Хлеб настоящий, русский, почти без примеси, я очень давно не ел такого…» Но перед самой кончиной прошептал: «Свежих бы ягод…» Поэт Владислав Ходасевич считал, что «Блок умер от смерти, оттого, что хотел умереть».
Вот и жена венгерского поэта ШАНДОРА ПЕТЕФИ получила последнее письмо от него уже после его гибели в сражении при Шегешваре: «Милая, дорогая моя Юлишка!.. Неприятель (русские казаки, посланные Николаем Первым против взбунтовавшихся венгров. – В.А.) всего лишь в двух милях отсюда, и местные жители разбежались намедни… Целую, обнимаю вас миллион раз, бессчётно. Обожающий тебе муж Шандор». В 5 часов вечера 31 июля 1849 года он, адъютант генерала Йозефа Бема, стоял возле перевязочного пункта с пером в руке, погружённый в раздумье. Армейский врач, перевязывавший раненых, окликнул его: «Мы окружены, майор». – «Пустое», – отмахнулся Петефи. Однако, на самом деле, кольцо донских казаков смыкалось вокруг венгерских повстанцев. Мстя за смерть генерала Скарятина и семисот своих товарищей, они в плен не брали. У Петефи не было коня, и он вместе с другими побежал от них по деревенской улице, «безоружный, с непокрытой головой, в расстёгнутом штатском сюртуке и чёрных панталонах», крича: «Конец! Сраженье проиграно!» Когда конники дивизиона «Уланы Нассау» из одесского гарнизона, под командованием барона Бреверна, настигли его возле кукурузного поля на широкой дороге, он остановился и повернулся к ним лицом. И тогда донской казак, «приподнявшись на стременах, ударил его в живот пикой, укреплённой на плечевом ремне и удерживаемой рукой». Подоспевшие вслед за этим австрийские гусары заботливо добили раненых венгров и сбросили их в общую яму. Но добили далеко не всех. Очевидец свидетельствовал, что некоторых, в том числе и майора Петефи, сбросили в могилу ещё живыми. И он крикнул оттуда: «Не закапывайте!.. Не умер я!..» – «Так подыхай!» – ответил ему сверху австрийский ротмистр Штейнхюбель. И национальный герой Венгрии, поэт Шандор Петефи, был завален телами своих же собратьев по оружию.
И письмо юного камикадзе ХАРУКИ МИЯДЗАВА дошло до матери лишь после его гибели. Обессмертивший себя нападением на американский авианосец «Принстон» в Южно-Китайском море, он писал матери перед вылетом на Филиппины 14 октября 1944 года: «Я опережаю Вас на небесах, мама. Молитесь за меня… Меня призывает мой долг… Я прошу Вас радоваться». Каждый камикадзе, «рыцарь божественного ветра», обязан был оставить перед вылетом на боевое задание предсмертную записку, прядь своих волос и ногти – для погребения. Затем смертник принимался за свой последний ритуальный обед – тарелку красного риса или фасоли, варёного морского леща и чашку рисового вина саке. После чего поднимал свой истребитель «Зеро» в воздух, и всегда неизменно на восход солнца. И только на восход солнца. Но ещё до вылета в его личном досье делалась запись: «Погиб в бою».
Первый ас-истребитель Германских ВВС в годы Первой мировой войны, «Красный барон», или «Красный рыцарь», или «Красный дьявол» ротмистр МАНФРЕД фон РИХТХОФЕН перед вылетом в последний бой обнял своего пса Морица, прогнал лётчика, фотографировавшего его («Это – дурная примета»), и напустился на механика, который попросил у него автограф для своего сына: «Что такое? Уж не думаешь ли ты, что я не вернусь?» Нет, он не вернулся. Его ярко-красный триплан «Фоккер-Dl» (отсюда «Красный барон»), поднявшийся в небо Фландрии с аэродрома возле Каппи, в районе Амьенского выступа, попал под перекрёстный огонь самолётов Королевских ВВС Англии и зенитных пулемётов австралийцев и был сбит капитаном Артуром Брауном, канадцем из Торонто. «Фоккер» упал на свекольное поле, рядом с просёлочной дорогой, и набежавшие австралийские солдаты растащили его на сувениры. Разбитые наручные часы Рихтхофена показывали 11 часов 30 минут. Было воскресенье, 21 апреля 1918 года. «Надеюсь, он поджарился, пока падал», – процедил сквозь зубы капитан Браун, положив свой биплан «Sopwith Camel» на обратный курс. И всё же англичане погребли командира элитного авиаполка «Воздушная карусель» со всеми подобающими воинскими почестями, включая ружейный салют. И даже когда 11 ноября 1925 года, в седьмую годовщину перемирия в Великой войне, останки Рихтхофена были перенесены на военное кладбище «Инвалиденфридхоф» в центре Берлина, британцы возложили на могилу «аса из асов», сбившего 80 самолётов союзников, венок: «Нашему сильному и благородному противнику». А австралийские стрелки стояли тогда у гроба в почётном карауле. Военный оркестр исполнил траурный марш. Президент Веймарской Республики Пауль фон Гинденбург первым бросил в могилу горсть земли.
Вечером 3 июня 1937 года двухмоторный пассажирский самолёт «Локхид Электра» L-10 АМЕЛИИ ЭРХАРТ, одной из самых известных женщин-авиаторов Америки, пропал в южной части Тихого океана, в районе острова Новая Гвинея. Перед вылетом из Майами в последний «сногсшибательный полёт», кругосветку вдоль экватора она, «богиня авиации» и отчаянная сорвиголова, сказала мужу, другу, издателю и искателю приключений Джорджу Путнаму: «Знай, что я осознаю все лежащие передо мной опасности. Я поступаю так, потому что хочу этого. Женщины должны стараться совершать поступки, какие до них совершали только мужчины. Если это им не удаётся, то их неудачи должны послужить вызовом для других». А своей подруге Жаклин Кочран, тоже лётчице, отдала шёлковое полотнище американского флага, который всегда брала с собой в перелёты: «Возьми его. Я уверена в успехе». Её последними словами к мужу в радиограмме с борта самолёта были: «Все пространства мира остались за нами, кроме этого рубежа – океана». Эрхарт безуспешно вызывала судно береговой охраны «Итаска», ведшее радиоконтроль полёта: «Мы уже давно должны были быть над вами, но ещё не видим вас… Бензин на исходе… Мы летим по линии 157 градусов – 337 градусов… Курс на атолл Хоуленд потерян… Потерян!!! Мы заблудились! За-блу-ди-лись!!! Приём!..» А затем связь прервалась. Широкомасштабные поиски её ни к чему не привели. Эрхарт погибла, как и жила, – в самолёте, играя со смертью.
Амелия Эрхарт даже мужа, за которого вышла не по любви, называла другом. А вот последними словами известного французского писателя ЖЮЛЯ БАРБЕ д’ОРЕВИЛЬИ, написанными его рукой, были: «Друзей нет; существуют лишь люди, в которых я заблуждался».
Вот и король Речи Посполитой ЯН СОБЕСКИЙ, известный тем, что заключил «вечный мир» с Россией, был того же мнения. «Лучше уж общаться с книгами, нежели с этими мерзавцами», – шептал он, умирая на солдатской койке в библиотеке своего замка. Блестящий полководец, герой Вены, спасший её от турецкого нашествия, Собеский умирал, испытывая отвращение к людям, которые столько раз обманывали и оскорбляли его. Даже его юная жёнушка Марыська опротивела ему своими надоедливыми напоминаниями об её правах на трон. «Будет ли после моей смерти земля выжжена огнём или волы поедят с неё всю траву, мне какое дело?» – этими словами он отогнал её от себя, после чего почил.
А маршал Франции, герцог Монтебелло ЖАН ЛАНН, смертельно раненный в сражении у Асперна, даже упрекал склонившегося над ним Наполеона: «Ты повинен в моей смерти, но я не могу не любить тебя». Участник революционных войн и наполеоновских заграничных походов, командующий войсками Франции при Аустерлице, Йене и в Испании, Ланн закончил свою военную карьеру и жизнь словами, обращёнными к императору: «Прекрати войну…»
Тургенев едва узнал поэта НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА на его смертном одре: «Боже! Что с ним сделал недуг! Жёлтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе… Он не мог сносить давления самого лёгкого платья». Поэт лежал спиной к окнам, лицом к стене, с которой смотрел сосланный в деревню Пушкин, читающий Пущину стихи (картина Ге). Приподнятое острое колено торчало под простынёй. Речь Некрасова была неясна: «Право, я никогда не любил денег, а скорее боялся их… Потому и берёг…» Однако он явственно пожаловался: «Как болит голова!» Потом подозвал к себе поочередно жену, Зинаиду Николаевну, сестру и сиделку и голосом глухим и хриплым, почти беззвучным, через силу сказал каждой одно лишь слово: «Прощайте» и с этого времени уже ничего не говорил, лежал неподвижно, выражение его лица было покойно, левая рука находилась в беспрерывном движении, он то подносил её к голове, то клал на измождённую грудь. И из загоревшихся вдруг глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки. А ведь буквально накануне он доверительно говорил своему любимому егерю Степану Петрову: «Хочу застрелиться… Не вынести более боли… Что я могу сделать? Боль такая непереносимая. Я уж намеревался из револьвера, да побоялся – не убьёт сразу. Я хочу из штуцера…»
«Прощай, Варвара Алексеевна! – тоже сказал жене гениальный математик, создатель неевклидовой геометрии НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ. – Пришло время… В могилу надо, умирать пора… До кедровых шишек не дожил… Прощай!..» – «Что с тобой, Николай Иванович? – Вероятно, опять геморрой». – «Ах, матушка, геморрой-то геморроем, да нет, уж верно дело идёт к могиле. Умирать надо». Судьба сыпала на Лобачевского удар за ударом, которые он, однако, переносил стоически. Его лишили поста ректора Казанского университета. Он потерял любимого сына и в довершение всего почти совсем ослеп. Не видя вокруг себя людей, боялся, что его новаторские идеи будут окончательно забыты и похоронены вместе с ним: «Две параллели обязательно пересекутся или в центре Земли, или где-то в бесконечном пространстве». В минуту расставания с жизнью казанский геометр сказал жене совсем спокойно: «Человек родится для того, чтобы научиться умирать». Он тихо потянулся и, словно бы задремав, лежал, как живой. Доктор Скандовский беспрестанно щупал пульс и даже капал на его лицо горячим воском со свечки, стараясь уловить движение мускулов. Вотще…
«Дай мне слово, что когда похоронишь меня, то подожжёшь дом и не уйдёшь, пока он не сгорит дотла», – потребовал от своей четырнадцатилетней натурщицы и любовницы таитянки Мари Роз Ваеохо почти ослепший, зачумлённый и умирающий от дурной и позорной болезни художник ПОЛЬ ГОГЕН. Преуспевающий в прошлом биржевой маклер, оставивший благополучную семью и добровольно обрекший себя на забвение и прозябание, Гоген удалился из Парижа на один из крохотных атоллов Маркизских островов в Тихом океане, где, однако же, вёл жизнь настоящего буржуа – со своим поваром, садовником и двумя служанками. Однажды утром пастор Вернье нашёл художника в его «Доме наслаждений» в прострации, не осознающего даже, день или ночь на дворе. Служанок, как водится, поблизости не оказалось. Гоген пожаловался пастору на страшные головные боли: «Я дважды терял сознание сегодня». Но сохранил ясность и трезвость ума и даже заговорил с Вернье о романе «Саламбо». На следующий день плотник Тиока, подружившийся с Гогеном, навестил больного. Он окликнул его снизу, по маркизскому этикету извещая о своём прибытии: «Коке, Коке!» Не дождавшись ответа, Тиока взбежал по лестнице на второй этаж и нашёл Гогена лежащим на краю кровати, свесившим вниз ногу. Художник был мёртв. Его туземная пассия, Мари Роз Ваеохо, к счастью, ослушалась Гогена и не сожгла его дом, расписанный шедеврами настенной живописи. Со временем деревянные балки, покрытые непристойной резьбой, перекочевали с острова в Бостонское собрание. Порнографические эстампы, украшавшие спальню, разошлись по частным коллекциям. Костыли художника – один в форме фаллоса, другой в виде слившейся в любовной схватке пары – оказались в одном из нью-йоркских музеев. Враги говорили, что художник покончил жизнь самоубийством. Друзья были уверены, что его убили: шприц и пустой пузырёк из-под морфия, найденные в изголовье постели, говорили в пользу обеих версий.
«Я знаю, дорогая, мне не вернуться оттуда. Нас всех там перебьют», – крепко прижав к себе молодую жену, «муральёвскую пастушку», сказал ей АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ. Николай Первый ссылал известнейшего, но опального драматурга подальше от трона, в «гиблый Исфахан, в котором людей режут, как кур», ссылал полномочным послом дипломатической миссии. Ибо был Грибоедов не только известным литератором и пианистом, но ещё и статским советником по Коллегии иностранных дел России. «Не оставляй костей моих в Персии. Похорони меня на этом месте». Ещё не закончился его «медовый месяц», и он с женой, юной красавицей княжной Ниной Чавчавадзе, гулял в окрестностях Тифлиса, возле монастыря святого Давида, на склоне горы Мтацминда. Грибоедов оказался прав: 30 января 1829 года, в базарный день, «тысячи народа с обнажёнными кинжалами и камнями», подстрекаемые духовными лицами из Тегеранской соборной мечети, вторглись в русское посольство. В миссии Грибоедов укрывал евнуха и двух грузинских наложниц из ханского гарема. «Сашка! – крикнул он слуге. – Подай мой парадный мундир! Не умирать же в халате!» И, переодевшись в мундирный сюртук, вооружась ятаганом и пистолетом, призвал своих дипломатов и казаков охраны: «Занять круговую оборону!» Потом спустился к входной двери и почти целый час отбивался от наседавшей толпы остервенелой черни спина об спину с казачьим урядником, пока не был поражён брошенным с крыши камнем. «Все тридцать семь сотрудников миссии, кроме первого секретаря Мальцова, были убиты каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами. Дом был разграблен и разрушен. Никто не знал, откуда толпа взялась и куда скрылась». По дороге из Тифлиса в Карс Пушкин встретил двух волов, впряжённых в арбу. «Что вы везёте?» – спросил он грузин, сопровождавших её. «Грибоеда», – был их ответ. Нина Чавчавадзе, «вечная вдова» неполных шестнадцати лет, «чёрная роза Тифлиса», похоронила останки супруга там, где он и завещал. На его могиле она положила плиту: «Ум и дела твои бессмертны, но зачем пережила тебя любовь моя?» Шах Персии Аббас-мирза откупился, подарив Николаю Первому знаменитый алмаз «Шах», «сияющий, как тысяча и одно солнце».
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГРИБОЕДОВА, урождённая княжна Чавчавадзе, умерла от холеры, которая пришла в Тифлис летом 1857 из Персии. Надо же, опять Персия! Все, кто мог, уходили из города. Сестра Нины, Катерина, и её воспитанница умоляли её уехать с ними в дальнее поместье. «В городе всего два врача да община сестёр милосердия при русском госпитале, – отвечала она им. – Я лишней здесь не буду». И ухаживала за холерными больными, пока не заразилась сама. И просила врачей не слишком бороться за её жизнь. Четыре дня Нина пролежала в беспамятстве, бормоча что-то невнятное. Но незадолго до смерти пришла в себя и, подозвав сиделку, отчётливо, чётко и ясно произнесла: «Положите меня… рядом с ним».
«Сперва я немного вздремну, а распоряжения отдам потом, смотря по настроению, как буду себя чувствовать», – послышалось из постели ГЕНРИХА ВОСЬМОГО, короля Англии. Это так он ответил преданному камердинеру Денни, который набрался смелости и передал королю слова врачей, что, мол, они потеряли всякую надежду на его выздоровление, что Генрих уже не жилец на этом свете и не пора ли посылать за священником. Король-многожёнец, не только простофиля, но и рогоносец, вздремнул, а проснувшись, велел вызвать архиепископа Кентерберийского: «Только одного Томаса Крэнмера… Всё потеряно… Это знак свыше…» Когда же священник, загнав иноходца, прибыл к смертному одру Генриха, у того уже отнялся язык, и, хватая Крэнмера мёртвой хваткой за руку, король бубнил нечто похожее на: «Монахи, монахи, монахи…» И чего это дались ему монахи, если всю жизнь он только и думал о развлечениях? Гурман и жуир, неутомимый в пирах, танцах, турнирах и на любовном ложе, любитель и любимец женщин, неутомимый волокита, прозванный в миру «Синей Бородой» (одних только жён у него было шесть) и английским Нероном, обожатель псовой и соколиной охоты, «коронованный охотник и рыцарь», Большой Гарри неожиданно для всех угасал с постными словами «монахи» на устах. Может быть, в свой смертный час он, убеждённый и непреклонный протестант, подумывал о возвращении в лоно католической церкви? Последние, с трудом вырвавшиеся у короля слова были: «Что это за мир, в котором умирают те, которые осуждали на смерть других?» А когда благородный архиепископ Кранмер, тронутый страданиями и страхом короля, начал утешать его, Генрих, тяжело вздохнув, прошептал: «Нет, нет пощады тем, которые сами никого никогда не щадили!» Да, он не щадил никого, даже своих жён.
Проев приданое и насытясь объятиями своей первой жены, ЕКАТЕРИНЫ АРАГОНСКОЙ, которая была на пять лет старше его, он оставил её, уже постаревшую, потолстевшую и подурневшую, и безжалостно заточил в мрачный захолустный замок Кимболтон, где она некогда жила с первым своим мужем, принцем Артуром Валлийским. Здесь, вдали от королевского двора, Екатерина, с титулом вдовствующей принцессы, умирала от болезни, известной в народе как «рак сердца», а работники уже сбивали её гербы со стен королевских дворцов и даже с королевской баржи. Прощаясь с жизнью, эта умная женщина, «рождённая быть королевой», написала Генриху письмо, которое, говорят, даже из него выдавило слёзы: «Ныне в последний раз клянусь я, что очам моим Вы желаннее всего… Екатерина, королева Англии». А через день со смертного одра королева говорила уже своему давнишнему фавориту (especial amigo), довольно циничному послу испанской короны Эсташу Шапюи: «Теперь я, не брошенная тобою, как какая-нибудь скотина, смогу спокойно умереть в твоих объятиях». Посол скакал полдня по размытым зимними дождями дорогам Англии, чтобы застать Екатерину в живых, и, заляпанный грязью с головы до ног, ввалился в её спальные покои и грохнулся перед королевским ложем на колени, лобзая монаршьи ладони. «За эти последние шесть дней я и двух часов не сомкнула глаз, – только и вымолвила Екатерина. – Возможно, сосну теперь… Принесите мне кружку валлийского пива…» С удовольствием выпила его и действительно уснула. Уснула вечным сном. Потом говорили, что пиво было сдобрено ядом, «медленным и неуловимым». Говорили также, что довольный Генрих буркнул: «Наконец-то сдохла старая карга, хвала Богу!»
В тот же вечер он впервые вышел на придворный бал со своей новой пассией АННОЙ БОЛЕЙН, утончённой и начитанной молодой дамой, «излучающей секс и неподражаемо хорошенькой в жёлтом траурном платье, которое ей очень к лицу». «Теперь я – действительно королева», – сказала тогда она придворным, и это было сущей правдой. Но «счастливейшая из женщин» пробыла королевой Англии всего лишь три года: Генрих приговорил её к смертной казни за якобы супружескую измену («Эта старая костлявая девка, вероломная изменница и извергающая яд блудница переспала с добрым десятком… нет, с сотней мужчин!») и кровосмешение («Да она спала со своим братом Джорджем!»). Пока Анна читала «Отче наш» на чёрном эшафоте во дворе Тауэра, её терпеливо ожидал французский палач-меченосец, специально вызванный из Сент-Омера. Анна провела рукой по шее и сказала ему: «Я слышала, что вы больший искусник в этих делах, чем наши английские палачи, а шейка у меня такая нежная и тоненькая. Нанесите мне самый верный удар» и сердечно рассмеялась. Палач мягко объяснил королеве, что смерть от меча будет безболезненной, поскольку он быстрее тяжёлого топора сделает своё дело, и она уйдёт в мир иной с присущим ей изяществом. Одета Анна была в тёмное шёлковое платье с глубоким разрезом и оторочкой из королевского горностая; тёмные волосы, аккуратно расчёсанные и убранные жемчугом, укрыты простой сеткой, и её тонкая белая шея выглядела совсем беззащитной. Последние слова королевы, обращенные к отсутствующему на казни Генриху, были язвительны и точны: «Вы, Ваше Величество, подняли меня на недосягаемую высоту. Теперь вам угодно ещё более возвысить меня. Вы сделаете меня святой». А народу, осыпавшему «пучеглазую шлюху» и «чёрную ворону» проклятиями, она сказала: «Королевой жила, королевой и умру, хотя бы вы все лопнули с досады!» Потом попросила помощника палача завязать ей глаза. «В последний раз сыграю с вами в жмурки», – пошутила она. За это её беззаботное поведение на эшафоте зеваки в двухтысячной толпе уже называли Анну «безголовой нашей королевой». Французский палач мастерски справился со своей работой – как-никак из казны ему было выплачено 15 фунтов стерлингов. Такие огромные деньги, и всего-то за один удар мечом! Кто-то из слуг «английской Мессалины» поспешно завернул её голову в белую ткань и исчез с ней. В этот час Генрих был далеко от Тауэра, на большой королевской охоте, в окружении своих ловчих и гончих. Услышав сигнальный выстрел пушки с места первой в истории Англии казни королевы, он принял из рук слуги ружьё и сказал: «Свершилось! Дело кончено! Спускайте собак и обложите кабана!» А после охоты отправился на встречу со своей очередной любовницей.
А на следующий день повёл её, двадцатисемилетнюю красотку ДЖЕЙН СЕЙМУР, к алтарю, повёл в белых траурных одеждах. В положенное время третья жена Генриха Восьмого, супружеское лоно которой покоилось на гробнице Екатерины Арагонской и на плахе Анны Болейн, разродилась долгожданным наследником престола, Эдуардом. Причём разродилась только на третий день родовых мук и через кесарево сечение. Когда врачи спросили Генриха, кого спасать, жену или сына, он без колебаний ответил: «Спасите ребёнка! Женщин я могу достать столько, сколько мне будет нужно». В Лондоне свирепствовала чума. Джейн, «цветок старой Англии», «роза без шипов», как звали её при дворе, в беспамятстве сбрасывала с себя жаркие меховые одеяла и без конца всё просила из постели: «Да дайте же мне чего-нибудь поесть! Да накормите же меня, наконец! Подайте мне куропатку, да пожирнее!» и умерла через двенадцать дней после родов «от родильной горячки, жестокой простуды, заражения крови и переедания, по вине тех, кто обязан был следить за её здоровьем». Перед смертью, придя на короткое время в сознание, она заверила безутешного мужа: «Сын был зачат в законном браке, и он законнорожденный». Вот какие слова пришлось слышать королю от королевы. В этой семейке Тюдоров всякое бывало.
Ещё одну свою жену, пятую по счёту, бывшую придворную даму КАТЕРИНУ ХОВАРД, «хорошенькую маленькую развратницу двадцати лет, сколь легкомысленную, столь же и глупую», Генрих Восьмой тоже отправил на эшафот. И тоже за супружескую неверность (насилие над королевой, или адюльтер, считалось в Англии тогда государственной изменой). Страдающая от безразличия стареющего и больного мужа, опытная кокетка, холодная и расчётливая Катерина, на 30 лет его моложе, искала утешения в объятиях придворных любовников и любовниц и немало в этом преуспела. Даже со своим двоюродным братом, пэром Томасом Кульпе, была в предосудительных любовных сношениях. Спала Катерина и с четвёртой королевой Генриха, «доброй, застенчивой и скромной фламандской кобылой», герцогиней АННОЙ КЛЕВСКОЙ. В эту «дебелую деву, ростом и дородностью способную поспорить с самим женихом» Генрих влюбился по портрету искусной кисти Гольбейна, который хотел польстить германской принцессе. Катерина свою измену не отрицала, от защиты парламента отказалась, полностью положившись на милость короля, и умоляла его провести «закрытую казнь, а не публичное унижение». Заточённая им в Тауэр, она попросила принести к ней в камеру деревянную колоду и всю ночь перед казнью упражнялась, как лучше, по-королевски, положить ей голову на плаху. На предложение исповедаться Катерина ответила отказом: «Я говорила с Богом так редко, что он, наверное, не знает, кто я». Утром она с трудом поднялась по тринадцати ступеням чёрного эшафота, поставленного на той же самой лужайке, где пять лет назад рубили голову Анне Болейн, а когда увидала палача, потеряла дар речи. Но, придя в себя, слабым, едва слышным голосом обратилась к народу: «Я заслужила смерть за преступления против короля, который столь любезно обращался со мной. Всегда повинуйтесь королю». И когда палач встал перед ней на колени и попросил прощения, она сказала: «Прощаю тебя. Я пришла сюда королевой и королевой умираю, но с большей радостью умерла бы женой пэра Кульпе». И бросила в толпу последние слова: «Умолите Генриха не трогать за мои преступления ни родственников, ни семью мою. Жизнь такая красивая!» Хорошенькая головка Катерины Ховард, с кровавыми царапинами от ногтей короля на лице, пала под мечом палача. Летописец отметил: «Она вела себя как истинная христианка, с удивительной твёрдостью и достоинством». В день её казни в Лондоне были закрыты все лавки, театры и дворцы на левом берегу Темзы.
Шестая жена Генриха Восьмого КАТЕРИНА ПАРР, молодая, пригожая, умная и богатая вдова, прославилась своими словами, сказанными перед королевской свадьбой: «Я бы предпочла стать любовницей короля, нежели его женой». Но довольствовалась она не ролью жены, а сиделки при умирающем Генрихе. И он призвал её к смертному одру и сказал: «По божьей воле мы должны расстаться с вами, и я велю оказывать вам всё те же почести и знаки внимания, как если бы я по-прежнему был жив. Буде же вы возжелаете вновь выйти замуж, ваше содержание составит семь тысяч фунтов стерлингов в год до конца вашей жизни, а ещё ваши драгоценности и украшения». Катерина разрыдалась и не смогла выговорить ни слова, и Генрих попросил её покинуть спальню. В день его похорон великий адмирал, граф Томас Сеймур, всё ещё в траурном костюме, сделал ей предложение: «Минута эта решает нашу судьбу: вы моя супруга!» Понятно, что такой брак был совершенно несчастлив, и Катерина прожила с тираном мужем всего лишь шесть месяцев. Говорят, последними её словами, обращёнными к нему, были: «Даруйте свободу моему сердцу!» Королевский шут Джон Гейвод вызвал Сеймура на дуэль, а когда тот с презрением отказался от нее, с горячностью бросил ему в лицо: «Бог не простит злодею, виновному в смерти прекрасной и доброй королевы!» И действительно, Томас Сеймур вскоре умер на эшафоте, уличённый в измене против государства.








