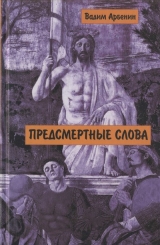
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Весь день, предшествовавший открытию выставки, где выставлялось его полотно «Жанна», итальянский художник АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ провёл за стойкой бара парижского кафе «58». На вопрос хозяина заведения, есть ли ему, нищему бродяге, чем расплатиться за выпивку, Модильяни отвечал: «Я богат. Я сказочно богат». Он рассчитывал завоевать на выставке первый приз в пять тысяч франков. По выходе из бара Модильяни подвергся жестокому нападению бандитов и скончался в больнице на руках своей невенчанной жены Жанны Эбютерн, которая успела всё же сказать ему о его победе на конкурсе. Последними словами Модильяни были: «Пора покончить с этим безумием». Есть, правда, и другая версия его смерти. Поздно ночью он и Жанна шли вдоль ограды Люксембургского сада. Неожиданно из груди Модильяни вырвался какой-то нечеловеческий вопль. Он бросился на Жанну и с криком: «Я хочу жить! Ты слышишь? Я хочу жить!» начал её избивать. Потом схватил за волосы и изо всех сил бросил любовницу на железную решётку сада. Жанна не проронила ни единого звука. Слегка оправившись от удара, она сама поднялась, подошла к Модильяни, взяла его за руку и отвела в больницу для бедных. Умирая, он всё повторял: «Я не хочу умирать. Я не верю в то, что там что-то есть». Есть и ещё одна версия. Друг Модильяни, чилийский художник Ортис де Сарате, с трудом достучавшись до его студии, нашёл Моди в лихорадке, метавшимся в бреду на убогом диване. Жанна примостилась там же, рядом с ним, и писала его портрет. В комнате было ужасно холодно, печь давно простыла, на полу по углам валялись жестянки из-под сардин и пустые винные бутылки. На мольберте просыхала последняя работа художника – незаконченный портрет композитора Марио Варвольи. Сарате послал консьержку за супом и варёным мясом и вызвал врача. Тот сразу же поставил диагноз: нефрит и немедленно вызвал карету «скорой помощи». По дороге в больницу для бедных, бродяг и бездомных, на улице Жакоб, Модильяни доверчиво признался Сарате: «У меня остался лишь малюсенький кусочек мозга… Я хорошо понимаю, что это конец». А минутой позже добавил: «Я попросил Жанну последовать за мной и в смерти… Так что, там, в раю, рядом со мной будет моя любимая натурщица, и мы вкусим с ней вечное счастье…» По другой ещё версии, умирающего Модильяни нашли в мастерской на улице Гранд-Шомьер, дом № 8, поэт Леопольд Зборовский и художник Моиз Кислинг. Вызванный ими врач определил тяжелейший приступ лёгочного менингита – у Модильяни горлом шла кровь – и отправил провалившегося в обморок художника в Шарите, в больницу Сестёр Милосердия для бедных. Очнулся тот уже в больничной палате и очень испугался, увидев вокруг себя много больных и врачей, толковавших об алкогольном и наркотическом отравлении. У Модильяни начался бред – горячечный, торопливый, непонятный, порой как будто даже стихами. Совершенно явственно он повторял только два слова по-итальянски: «Italia… Cara, cara Italia… Милая Италия… Милая, милая Италия…» Впоследствии дочь Модильяни, тоже Жанна, посетовала: «Слишком много последних слов для одного умирающего. Скорее всего, отец перед смертью и сказать-то ничего уж не мог. Он всё время пребывал в беспамятстве. Но легенды бессмертны». Бесспорно одно: Модильяни умер без десяти минут в девять часов вечера в субботу, 24 января 1920 года, и друзья похоронили его в складчину «как принца» на кладбище Пер-Лашез. На надгробии написали: «Смерть настигла его на пороге славы».
Этой же ночью верная спутница жизни Модильяни, ЖАННА ЭБЮТЕРН, срезав с головы длинный золотистый локон и положив его на грудь почившего Амедео, вернулась в его студию на улице Гранд-Шомьер. По словам Полетты Журден, которая проводила её туда, она попросила: «Не покидай меня». Однако через пару часов, по настоянию отца, Жанна переехала в родительскую квартиру на улице Амьо. А на рассвете, в 4 часа утра, беременная вторым ребёнком, она выбросилась с шестого этажа, до последнего выдоха повторяя: «Я люблю тебя, Амедео… Дождись меня, любимый… Дождись…», и разбилась насмерть, оставив малолетней дочери записку: «Папа шлёт тебе свою любовь. Ты будешь чувствовать её, где бы ты ни была. Когда ты вырастешь, ты его простишь». «Вечная невеста» Амедео Модильяни, она не захотела жить без него: ведь однажды она обещала ему никогда не расставаться с ним. Родители Жанны отказались принять труп дочери, и друзья в складчину похоронили её на мрачном кладбище Банё в парижском пригороде. В июне 2006 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне полотно Модильяни «Портрет Жанны Эбютерн в шляпе», лучший образчик его стилистики, ушло за 16,3 миллиона фунтов стерлингов.
Последнее слово, произнесённое великим художником Испании ПАБЛО ПИКАССО, другом и вечным соперником Модильяни, чья зависть к тому подпитывалась его талантом, его высокомерием и его страстями, было «Модильяни». Это, кстати, пророчески предсказала Жанна Эбютерн. Правда, Пикассо повторял ещё и имя давно умершего друга, французского поэта Аполлинера. В последний момент просветления он перевёл взгляд со своей жены Жаклин Рок на врача, который был холостяком, и сказал ему: «Вы зря не женились. Это полезно». По другим источникам, однако, последними словами девяностолетнего «демонического испанца» были: «Выпейте за меня, выпейте за моё здоровье, вы знаете, что я сам не могу больше пить…» И эти слова вдохновили Пола Маккартни из группы «Битлз» на создание новой песни: «Выпейте за меня, выпейте за моё здоровье…» По другим ещё источникам, художник сказал перед уходом: «Моя смерть станет кораблекрушением. Когда погибает большое судно, всё, что находится вокруг него, затягивается в воронку..»
Самый влиятельный австрийский композитор своего времени ГУСТАВ МАЛЕР, директор придворной Венской Оперы, буквально приполз в Вену после утомительных гастролей в Америке. Приполз, чтобы бросить кости в свою родную землю. Умирал Малер в одиночестве, хотя до самой смерти чувствовал рядом присутствие прелестной, но неверной ему жены Альмы, бывшей на 18 лет его моложе. Он посвятил ей Восьмую симфонию, а на полях партитуры своей последней, незаконченной Десятой симфонии сбивчиво написал: «Для тебя жить! Умереть за тебя, моя Альмши! О! О! Прощай, моя муза!» Однако последним его словом было не имя жены, а имя Моцарта. Как и Бетховен, Малер умер в страшную грозу, разразившуюся вскоре после полуночи 18 мая 1911 года над Веной, которую он так любил, но которая так несправедливо с ним обошлась. Толпы венцев запрудили подступы к кладбищу Гринцинг. На надгробном камне Малер велел высечь только своё имя, остальное же считал излишним: «Любой пришедший ко мне на могилу должен знать, кем я был, а остальным это и не нужно».
Другой австрийский композитор и друг Густава Малера АЛБАН БЕРГ умирал от бесчисленных укусов роя ос-убийц. Когда его привезли в госпиталь Рудольфа в Вене, он с улыбкой прошептал: «Ну вот, я уже проделал полпути на кладбище». Переливание крови мало что ему дало, но, познакомившись со своим донором, молодой и хорошенькой девушкой, композитор пошутил: «Теперь, возможно, я буду сочинять лёгкие венские оперетки». Да, предыдущую его оперу «Лулу» лёгенькой не назовёшь. Однако «Лулу» и осталась последней работой Берга. В Рождественскую ночь 1935 года он скончался, решительно объявив врачам: «Наступает решающий день…»
«Я всю жизнь старался не поскользнуться на льду», – пробормотал величайший композитор итальянского барокко АНТОНИО ВИВАЛЬДИ, умирающий в Вене от «внутреннего воспарения», как было записано в погребальном протоколе. И эти слова стали своего рода эпитафией несравненному скрипачу-виртуозу, автору знаменитого концерта «Времена года». Хотя много лет он руководил девичьим оркестром и хором в Ospedale della Pieta (Госпиталь милосердия) в Венеции и заработал, по слухам, более 50 тысяч золотых дукатов, но из-за неразумного мотовства «непокорный рыжий священник» умер в полной нищете. Напоследок он, один из самых плодовитых композиторов, даже начал распродавать свои концерты (а он создал их сотни), распродавать по смехотворной цене – по одному дукату за штуку. Более того, хотя у него была верная и преданная подруга, оперная примадонна синьорина Анна Жиро, дочь французского парикмахера, и немало дам при королевских дворах Вены, Венеции и Генуи добивалось его расположения, но все их попытки разбивались о скромную недоступность служителя алтаря. И Вивальди, говорят, отошёл в мир иной девственником. Не хотел «поскользнуться на льду»? Тогда на что же он потратил 50 тысяч золотых дукатов? Композитора похоронили за казённый счёт (всего каких-то 19 флоринов 45 крейцеров) на больничном кладбище в Вене. Позднее кладбище это было срыто, и кости Вивальди вместе с костями других бедолаг были брошены в общую могилу.
Великий романист Франции и «великий гурман» АЛЕКСАНДР ДЮМА-ОТЕЦ, полупарализованный после удара, с трудом добрался из Марселя до виллы сына в местечке Пюи, под Дьеппом, и позвонил у дверей: «Мой мальчик, я приехал умереть у тебя». Дюма, который заработал за сорок лет и умудрился промотать до четырех миллионов франков, заканчивая жизнь, не потерял ни разума, ни даже остроумия. «Я не понимаю, Александр, отчего это все укоряют меня в расточительности. Ты даже написал об этом пьесу. Я приехал в Париж с одним луидором в кармане. Видишь, как все заблуждаются?» Он, улыбаясь, указал сыну на две золотые монеты, лежащие возле стакана с лимонадом на ночном столике. «Взгляни… Они всё ещё целы. Стало быть, я даже удвоил свой первоначальный капитал». Когда же сын передал ему слова их русской горничной Аннушки: «Она находит тебя очень красивым, папа», «прекрасный лев от литературы» встрепенулся: «Поддерживай её в этом мнении». – «Хочется тебе работать, папа?» – «О нет!» И каторжник на принудительных литературных работах, осуждённый на них за долги, «вечный жид литературы» и «политический бастард», как он сам себя любил называть, спокойно умер во сне в 10 часов вечера 12 декабря 1870 года. В этот день пруссаки вступили в Дьепп.
«Представьте себе, что я уже умер, – говорил другу Жюлю Кларети великий драматург АЛЕКСАНДР ДЮМА-СЫН. – И больше на меня не рассчитывайте. Моя последняя пьеса останется незаконченной». Потом улыбнулся дочерям: «Ступайте завтракать, оставьте меня одного с мамой». И попросил юную жену свою, Анриетту Ренье-Эскалье, дочь известного актёра: «Похорони меня на кладбище Пер-Лашез, без священников и без солдат, на что я имею право как кавалер ордена Почётного легиона». Не успел доктор выйти из комнаты, как дочь Колетта позвала его: «Идите скорей! У папы конвульсии…» Дюма лежал на инкрустированной бронзой кровати в стиле ампир, одетый, как он и пожелал, в полотняную рубашку с красной каймой и простой рабочий костюм. Ноги, изяществом которых он всегда гордился, были голые. Он был мёртв. Он остался один «перед опущенным занавесом, в молчании ночи».
Редкостной красоты чахоточная куртизанка МАРИ ДЮПЛЕССИ, историю которой «прибрал к рукам» Александр Дюма-сын и изобразил её в романе «Дама с камелиями» под именем Маргариты Готье, умирала и знала это. Отвращение к жизни, столь же опасное, что и яростная жажда жизни, убивало её. Лакеи снесли умирающую в карету из театра Пале-Рояль после премьеры водевиля «Больная картошка» и отвезли домой. Весть об этом тотчас же разнеслась по всему Парижу. Мари была ещё жива, а её шикарная квартира на улице Мадлен, как раз напротив церкви, уже подверглась буквальному разграблению безжалостных кредиторов. Выносили старинные часы, серебряные канделябры, саксонский фарфор и севрские шедевры, картины и дорогую мебель, кружева, книги, туалетные принадлежности юной девы, её туфли и любовные записки, содрали портьеры с окон и даже полог с кровати, на которой агонизировала Мари. Самый знаменитый врач Парижа Шомель, взволнованный её стонами, спросил, чем он может ей помочь. «Я хочу видеть мою мать», – был ответ. В три часа утра 3 февраля 1847 года к ней привели первую попавшуюся женщину, одетую в бретонское крестьянское платье (мать Мари умерла, когда ей было восемь лет), та села у изголовья умирающей девушки и молилась за неё, пока всё не кончилось. Тело двадцатитрехлетней Мари, завернутое в чёрные кружева, положили в гроб, полный любимых ею камелий. Через год вышел роман Дюма «Дама с камелиями», прославивший его, но разъяривший Париж. А потом Джузеппе Верди написал оперу «Травиата». По странной случайности, могилы Мари Дюплесси и Александра Дюма-сына оказались в нескольких шагах друг от друга на кладбище Монмартр.
Не в меру любвеобильный президент Франции ФЕЛИКС ФОР умер от апоплексического удара в объятиях юной любовницы в парижском борделе. Умер в 10 часов утра! И успел прошептать: «Это стоит того…» После чего его партнёршу долго не могли вывести из шокового состояния.
Известный своей скупостью парижский врач-миллионщик ФРАНЦИСК ТУШЕ, который «не повесился только потому, что ему было жаль денег на верёвку», за несколько минут до смерти, с трудом приподнявшись на постели, попросил старуху кухарку: «Задуй свечу. Я могу умереть и впотьмах».
«Платье мне! Платье! Пойду посмотрю, как бы мои злодеи меня не обобрали!» – твердила баронесса РЕНЕТАВО де МОРТЕМАР. Одна из самых богатых дам Парижа и притом чрезвычайно удачливая, она всё силилась встать с постели, одеться и пойти к себе в кабинет, чтобы пересчитать спрятанные там свои экю. Всё силилась эта добрая женщина встать, но тщетно – и умерла.
На заре 9 марта 1661 года умирал такой же скупердяй – кардинал ДЖУЛИО МАЗАРИНИ, первый министр Франции. Умирал он в Венсеннском замке, поскольку врачи сочли тамошний свежий воздух полезнее луврского, умирал по-настоящему, а не понарошке, как это случалось уже не раз прежде. Лёжа на старческом одре, он всё ещё играл в карты с собственной прислугой. Руки его уже не слушались, и карты за него держал бальи из Сувра. Мазарини выиграл перед смертью 500 экю. «Я отыграл у них только то, что они у меня крадут», – сказал он бальи и вдруг забеспокоился, вернёт ли король Людовик Четырнадцатый завещанные ему фамильные драгоценности дома Мазарини. И даже когда духовник Клод Жоли призвал его к Богу, он отмахнулся: «Ах, подождите, ваше преосвященство. Я ещё не могу умереть, мне надо драгоценности сохранить». Король, который ночевал рядом, в покоях кардинала, пришёл, выслушал слова умирающего, прослезился и изрёк: «Драгоценности оставить при Мазарини». И тогда тот воскликнул: «Ох, друг мой, теперь и умереть не грех, но ведь придётся всё это оставить». После чего призвал искусного гримёра, приказал подрумянить себе щёки, присурмить брови, расчесать волосы и вынести его в парк: «Хочу посмотреть на солнышко». По другим же источникам, Мазарини прямо спросил одного из двенадцати пользовавших его врачей: «Жано, сколько мне ещё осталось жить?» – «От силы два месяца, а может и того меньше», – последовал такой же прямой ответ. «Так мало… Я знал, что скоро умру… Но совсем не ведал страха. Однако мне нужно успеть позаботиться о своей душе…» Всю ночь первый министр королевства бредил словами: «Жано говорит… Жано говорит…» А наутро, несмотря на слабость, он поднялся, пошёл в свой кабинет, сел за стол и начал писать последние распоряжения: «Повысить налоги на…» Потом вызвал секретаря Кольбера: «Попросите Его Величество навестить меня, когда проснётся». Людовик не прошёл в спальню к умирающему кардиналу. Ещё чего! Как бы не так! Королям не пристало общаться со смертью, да ещё на утренней заре. Зато пришла к нему заплаканная Анна Австрийская, мать Людовика, которая якобы состояла с Мазарини в тайном браке. «Эта женщина меня в гроб вгонит, – пробурчал он, не стесняясь слуг. – Как же она мне надоела! И когда только она оставит меня в покое?» – «Как вы себя чувствуете?» – спросила его Анна. «Очень плохо!» – ответил он. После чего без лишних слов откинул пуховое одеяло, как бывало, когда Анна приходила к нему просто как влюблённая женщина, и, обнажив свои иссохшие, изъеденные язвами ноги и бёдра, произнёс: «Взгляните, мадам, эти ноги лишились покоя, даровав покой Европе». А затем буквально выдавил из себя: «Я – великий преступник. Моя надежда теперь только на Иисуса Христа». С этими словами и скончался кардинал Джулио Мазарини, «иностранец без роду и племени» – итальянец по рождению, испанец (или еврей?) по национальности, француз по второму подданству, человек Востока на Западе. «Слава богу, наконец-то он подох!» – воскликнули в едином порыве Гортензия и Мария Манчини, его племянницы.
ПОЛЬ СЕЗАНН, по его же собственным словам, «величайший из ныне живущих художников», последние годы безвылазно жил в своём родном Экс-ан-Провансе, на улице Бульгон, и каждое божье утро, отправляясь на этюды, вызывал наёмный экипаж. В субботу, 20 октября 1906 года, он, как всегда, отправился на пленэр. Но возчик экипажа неожиданно запросил с него за поездку несколько больше обычного, так, самую малость. Со свойственной ему крестьянской прижимистостью вовсе не бедный «отец» постимпрессионизма грубо осадил зарвавшегося кучера: «Это не стоит того. Ни одного сантима больше!» И с этими словами вылез из экипажа, взвалил на плечи тяжелейший мольберт, подрамник и коробки с красками и пешком отправился в луга. По дороге его застала сильная гроза, он вымок до нитки, продрог и в довершение всего свалился в глубокий обморок. Только к концу дня его хватились, привезли домой на попутном фургоне портомойни с грязным бельём, почти в бессознательном состоянии. Но утром спозаранку он спустился в сад поработать над портретом Валье и свалился замертво. Не помня себя, в припадке гнева выкрикивал художник со смертного одра: «Понтье!.. Понтье!..» Понтье был директором музея в Эксе, который всё грозился выбросить оттуда полотна знаменитого своего земляка. Потом Сезанн стал звать покойного друга Эмиля Оля и лишь позже – сына, который так и не смог приехать к его изголовью проститься с ним: «Поль!.. Поль!..» И смотрел на дверь, ожидая, что она вот-вот откроется и войдёт Поль. «Сынок, ты гениальный человек!» Потом умолк. Когда мадам Бремон, ухаживавшая за художником и обеспокоенная его долгим молчанием, подошла поближе к постели, он был уже мёртв. Сезанна с молодости терзало предчувствие ранней смерти, и страх заставил его обратиться к церкви, хотя посещение мессы он называл «данью средневековью».
«У меня предчувствие, что недолго мне осталось, – попросту, по-стариковски, сказал навестившему его лейб-журналисту Борису Глинскому СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИТТЕ. – А в предчувствия я верю. Я расстроен… Чувствую себя, как травленый волк… Ездил в Александро-Невскую Лавру, на кладбище… выбирал себе место вечного упокоения…» Бывший первый министр России, «озолотивший» империю (золотую монету, введённую им, в народе прозвали «золотой матильдой» – по имени его жены Матильды Ивановны), шагал в беспокойном состоянии духа по излюбленному своему кабинету на первом этаже особняка «Белый дом» на Каменноостровском проспекте в Петрограде. «Так вот упомяните в моём некрологе, если станете писать, что я хотел бы видеть свой памятник таким: простой чёрный крест на таком же чёрном подножии, и на нём слова: „Граф Витте, 17 октября 1905 года“. И, пожалуй, текст Манифеста, а? Как, по-вашему, позволят мне такую надпись?» И огромный, нескладный, повалился на подушки большого кожаного дивана. Когда смерть уже витала над его изголовьем, привели к нему любимого внука Лёву. «Ваше сиятельство, граф Сергей Юльевич, – обратился юный гимназист к дедушке (он всегда так к нему обращался), – напоминаю вам о вознаграждении мне в размере двадцати копеек в неделю за мои успехи в учёбе». Ни улыбки, ни гримасы не явилось на лице «русского Бисмарка». Теряя силы, он с трудом повернулся к жене: «Графинюшка, Матильдочка, да отдай ты ему этот двугривенный». Знаменитые «пограничные» часы пробили 3 часа утра 28 февраля 1915 года. Похоронили Витте, якобы «денежного временщика», который «ворочал миллионами», по третьему разряду.
«Покупаем!» Это последнее слово слетело с губ чудаковатого американского миллиардера ГОВАРДА ХЬЮЗА, искусного лётчика, одарённого авиаконструктора и просто человека со странностями. Унаследовав от родителей огромное состояние, он всю свою жизнь только и делал, что покупал. Покупал авиакомпании, заводы, кинофабрики, землю, казино, нефтяные промыслы, самолёты, кинозвёзд и политиков. Говорят, он купил и президента США Ричарда Никсона, но эта покупка ничего, кроме огорчений, Хьюзу не принесла. Потом, неожиданно заделавшись пленником собственных страхов, он удалился от мира сего и жил отшельником в какой-то заброшенной дыре, лишь изредка выходя оттуда. Там он в буквальном смысле одичал: не брился, не стригся, почти не мылся, и только раз в год позволял подстригать себе ногти на руках, которые отращивал до 20-сантиметровой длины. Он говел, постился и исхудал до крайности – кожа да кости, а на ногах носил не ботинки, а коробки из-под туалетных салфеток. И слышали, как он всё бубнил себе под нос: «В будущее! Дорога в будущее! В будущее!» Но вот в свой смертный час этот зачумлённый скелет, живой труп вдруг приказал с одра: «Покупаем! Я могу купить любого». Оказывается, не напокупался ещё!
Знаменитый американский антрепренёр, «отец шоу-бизнеса» и мультимиллионер ФИНЕАС ТЕЙЛОР БАРНУМ тоже. «Ну, какие там у нас сегодня кассовые сборы в Медисон Сквер Гарден?» – спросил юную жену девяностолетний хозяин «Величайшего в мире шоу Барнума», «Непревзойденного цирка Барнума» и «Американского музея Барнума». Когда врачи сообщили ему, что сердце его отказывает, он только развёл руками и принялся за дело: составил завещание, написал всем друзьям прощальные письма, принял тех, кто мог приехать, со всеми держался легко и весело. Бормоча: «Никому нельзя доверять», набросал краткий сценарий прощальной церемонии и даже завизировал эскиз собственного надгробного камня. И последними его словами были опять же: «Какие у нас там кассовые сборы сегодня?»
Вот и первая леди Аргентины ЭВА МАРИЯ ДУАРТЕ ПЕРОН туда же. «Падре! Я вернусь и стану миллионами ворочать… И знаете, такой рай мне бы понравился…» – произнесла со смертного одра тридцатитрехлетняя жена президента Хуана Перона. О каких ещё миллионах говорила она перед смертью? Нищая девчонка с ранчо, певичка на провинциальных подмостках и исполнительница вторых ролей в «мыльных операх» на радио, Эвита силой воли и волей судьбы стала самой богатой и самой влиятельной гранд-дамой страны, «удивительной женщиной Аргентины» и даже «женщиной с кнутом», как называли её в высшем обществе. И вот она умирала от лейкемии, потеряв в весе 21 килограмм (с 58 до 37), и врачи настрого запретили ей говорить. Но по её настоянию возле кровати поставили микрофон, и с горьким юмором, присущим ей, Эва, «идол домохозяек-голоштанниц», обратилась к ним: «Женщины Аргентины! Я говорю с вами из кровати, моего былого рабочего места… Я ещё вернусь…» И уже в агонии пробормотала: «Я слишком слаба, чтобы вынести такую сильную боль… Но я вернусь…» – и семья услышала её последний вздох. Один из врачей повернулся к каудильо Перону: «У неё пропал пульс». После чего на лице Эвы появилась умиротворённая буддийская улыбка. Часы в спальне президентской резиденции Casa Rosada показывали 8 часов 23 минуты вечера 26 июля 1952 года. Родной брат Эвы и одновременно её любовник, Хуан Дуарте, едва не грохнулся в обморок. «Нет Бога! Нет Бога!» – закричал он и с этими словами выбежал из спальни. Эвиту хотели похоронить в хрустальном саркофаге, сотворённом по её же проекту – то ли копии гробницы Наполеона, то ли аргентинском Тадж Махале. Но не успели. После казарменного путча, который сместил Хуана Перрона, ревнивая военщина отыскала забальзамированное тело Эвы в засекреченной комнате № 63 Совета профсоюзов. Её тело было покрыто флагом Аргентины, лицо великолепно сохранилось стараниями испанского профессора Ара, оно было спокойно, губы слегка подкрашены. Тело арестовали и в ящике из-под консервов забросили на вещевой склад под караул. Друзья и обожатели Эвиты мумию вскоре выкрали и долго её прятали – то в Италии, то в Испании. Но Эва Перон, как и обещала, вернулась: когда Хуан Перон с триумфом возвращался в Аргентину из изгнания, кости его жены следовали за ним в обозе. «Вакханалией некрофилии» назвали журналисты эту возню с останками «духовной жрицы нации».
Вскорости покончил самоубийством брат Эвы ХУАН ДУАРТЕ. Его коленопреклонённое тело в одном нижнем белье и носках нашли в спальне фешенебельной квартиры. Пиджак, брюки и рубашка, тщательно выутюженные и аккуратно сложенные, лежали на ночном столике. В ногах Хуана на залитом кровью ковре лежал револьвер 38-го калибра. Посмертная записка была адресована президенту Аргентины генералу Хуану Перону: «…Я пришёл с Эвой, и я ухожу вместе с ней… Простите меня за мой почерк, простите меня за всё».
Сам же президент Аргентины ХУАН ПЕРОН, «бессмертный вдовец», пережил Эвиту на 21 год. В июне 1973 года он сильно простудился, выступая перед народом с балкона Casa Rosada, и его речь сочли последним прости: «Во мне звучит самая замечательная музыка из всех, которые я только знаю, это голос аргентинского народа». На следующий день президента посетил армейский капеллан и причастил его. Но ночь прошла, на удивление, спокойно, и утром Перон проснулся в здравии и хорошем настроении. «Я выпью чаю», – сказал он своей второй жене Изабель, «президенту в юбке», и за чаепитием довольно живо поговорил с ней о делах. В 10 часов она ушла на заседание кабинета министров. Народ в это время праздновал на улице День перониста. Неожиданно сверху послышался голос горничной: «Доктора, скорее доктора! Генералу плохо!» Доктор Таиана нашёл Перона разметавшимся по постели. «Я умираю», – только и успел сказать генерал врачу, прежде чем потерял сознание. Массаж сердца ничего не дал. Позвали лейб-знахаря Лопеса Рега. Тот обхватил холодеющие ноги президента и произнёс невнятные слова заклинания. Фараон не ответил. «У меня не получается… Я не могу… – бормотал Лопес. – Десятки лет получалось, а сейчас нет».
А вот русские всё больше пеклись о вечном.
НЕИЗВЕСТНЫЙ НАШ СОЛДАТ, умирающий от ран на Великой Русской равнине, прошептал своему собрату по оружию: «Посмотри, как вокруг всё красиво…»
Во втором часу пополудни 7 сентября 1812 года князь ПЁТР ИВАНОВИЧ БАГРАТИОН, став лично в голове 2-й Гренадерской дивизии, повёл её в блистательную контратаку против наступавших колонн маршалов Нея и Мюрата. «Вперёд, братцы, вперёд! В штыки! Ура!» – ободрял он своих гвардейцев. А свитским сказал: «Здесь даже и трус не найдёт себе места». Усиленная артиллерия французов встретила атаку Багратиона убийственным огнём, и на правом склоне Семёновского оврага он был ранен «черепком чинёного ядра» (осколком гранаты) в левое бедро. Несколько дней спустя, уже в имении своего друга Бориса Голицына, в деревне Симы, куда генерал от инфантерии «был отправлен для пользования», он спрашивал своего слугу, итальянца Батталью: «Слушайте, Сильвио… Я должен знать… Отвечайте… правду!.. Москву не отдадим?.. В чьих руках Москва? Ну! Скажите правду, правду скажите». Слуга солгал: «Русская Москва… Клянусь ключом апостола Петра!.. Русская!.. Русская!..» И Багратион, которого Наполеон считал лучшим полководцем России после Суворова, сказал, повалясь на подушки: «Спасибо, Сильвио!.. Довольно!.. Теперь можно спокойно умереть. Нет, не от раны умру я, а… от Москвы!» Он отказался принимать лекарства: «Довольно! Вы всё то делали, что могли. Теперь оставьте меня на промысел Всевышнего. Бог мой! Спаситель мой!..» И с этими словами любимец русских солдат умер от гангрены, против которой тогдашние врачи оказались бессильны.
«Каналья! Каналья!» – билась в истерике княгиня ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА БАГРАТИОН, вдова князя Петра Багратиона, ставшая после его гибели любовницей австрийского канцлера Меттерниха. Ей только что сказали, что парижский торговец и банкир Шарль Тернисен сбежал с её фамильными бриллиантами, впрочем, оставив ей сафьяновые футляры из-под них. «Каналья! Каналья!» – ещё раз вскричала княгиня и, как говорят сплетники, «умерла от ярости».
«Как там империя?» – спросил умирающий король Англии ГЕОРГ ПЯТЫЙ у вошедшего в его спальную комнату слуги. «Отец всех подданных» листал утренний выпуск газеты «Таймс», но не в силах был прочитать и строки. «Чувствую себя очень усталым», – пожаловался монарх. Понедельник, 20 января 1936 года, стал последним в его жизни. Но тихо умереть ему не дали. В полдень возле его постели собрались трое членов Тайного Совета империи, которых он встретил «радостной улыбкой». На нём был халат, расписанный яркими цветами. Короля подняли и усадили в покойное кресло. К креслу подвинули переносной столик, на котором лежал документ – его-то и должен был подписать Георг. Лорд-председатель зачитал документ, и король твёрдо сказал: «Принято». Опустившись перед ним на колени, лорд-председатель пробовал помочь королю подписать документ, направляя и перекладывая перо то в правую, то в левую руку монарха. И хотя король пытался подчиниться тому, но силы его оставляли. «Джентльмены, мне очень жаль, что заставляю вас ждать, но я не могу сосредоточиться», – вздохнул он. Наконец, через несколько минут, ему всё же удалось нацарапать две пометки, которые, пожалуй, и можно было принять за буквы «К» и «G» («Король Георг»). Тогда, и только тогда умирающий король мог снять с себя груз государственной ответственности. Тайные советники в слезах тихо направились к двери. Король проводил их «знакомым кивком и улыбкой». Его взгляд, его последнее «прощай» были «отмечены заботой». Последний бюллетень из дворца гласил: «Смерть тихо пришла к королю в 11.55 вечера».
«Господин президент, вы не можете пожаловаться на то, что Даллас не любит вас», – оборотилась к ДЖОНУ КЕННЕДИ жена губернатора Техаса, Нелли Конналли. Действительно, улицы города, по которым двигался президентский кортеж, были запружены народом. «Справедливо сказано», – согласился с ней Кеннеди, взмахом руки приветствуя добрых людей Далласа, и в этом самый миг пуля наёмного убийцы, Ли Харви Освальда, ударила его сзади в шею. А вторая, уже смертельная, разорвала ему правую часть черепа. Открытый лимузин президента «Линкольн Континентал» проезжал в это время по Элм-стрит, мимо книжного склада, из окна которого на шестом этаже и раздались роковые выстрелы. Освальд, добрый человек из Далласа, стрелял в Кеннеди из старой-престарой винтовки «Маннлихер-Каркано», но очень метко. Часы на площади Дили Плаза показывали 11 часов 37 минут утра. Была пятница, 22 ноября 1963 года. Кеннеди стал вторым и пока последним президентом США, которого похоронили на Арлингтонском кладбище. Первым был Уильям Тафт.








