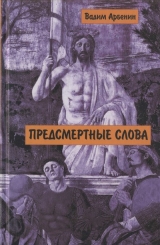
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИЙ, умирая, спросил жену, актрису Лилину: «А кто теперь будет заботиться о Немировиче-Данченко? Ведь он теперь… Белеет парус одинокий. Может быть, он болен? У него нет денег?» Его спросили, не передать ли что-нибудь сестре, Зинаиде Сергеевне. Он строго поправил: «Не что-нибудь, а целую уйму. Но сейчас я не могу, всё перепутаю…» И, по словам его медсестры, он вдруг вздрогнул всем телом, точно от испуга, по его лицу пробежала судорога. Он мертвенно побледнел, склонил ниже голову. Крупнейший реформатор русского театра уже не дышал.
«О Боже! Мне плохо, я боюсь!» – стонал другой реформатор, Реформатор церкви МАРТИН ЛЮТЕР. Когда-то он приколотил к дверям замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые тезисы, а теперь был сам прикован слабостью к постели. Все в один голос принялись его уверять, что он поправится. «Нет, – возражал он. – Это предсмертный пот… Мне всё хуже и хуже». Немецкий богослов не обманывался, понимая, что час его пробил. Ему, толстому почитателю пива, почти насильно влили в рот ложку снадобья из толчёного рога единорога, такого драгоценного и чудотворного, что его давали только в самых крайних случаях. «Не надо… оставьте… разве вы не видите… я сейчас… я сейчас». Лютер принялся молиться вслух, перемежая призывы к богу хулой на своих врагов: «Отче Небесный, Боже-утешитель, благодарю тебя за то, что открыл мне Сына Твоего Иисуса Христа, в которого верую, именем которого учил и исповедовал, которого любил и славил и которого негодяй папа и иные нечестивцы порочат, гонят и срамят… Я покидаю этот мир, но знаю, что вечно пребуду с тобой, где никто уже не вырвет меня из твоих рук». Он несколько раз принимался шептать стих, который когда-то каждый день пел во время повечерия: «В твои руки, господи, предаю дух свой. Искупи! Искупи! Искупи-и!». К нему обратились: «Преподобный отец, готовы ли вы принять смерть с верой в Иисуса Христа и учение, которое вы проповедовали?» – «Да», – ответил он внятным голосом, повернулся на правый бок и будто бы уснул. Вдруг лицо его побледнело, кончик носа заострился, руки и ноги оледенели. Он глубоко и тихо вздохнул, и это был последний вздох Мартина Лютера. Пламя свечи, поднесённой к его устам, осталось неподвижным. Было три часа по полуночи зимней саксонской ночи. Трогательно, не правда ли? А теперь послушаем рассказ одного из слуг Лютера: «Лютер после весьма плотного ужина с вином и в самом весёлом расположении духа отправился спать. Однако среди ночи он внезапно проснулся, охваченный безотчётным ужасом. На другой день мы явились к хозяину, как обычно, чтобы одевать его. Каково же было наше горе, когда мы увидели Мартина Лютера повесившимся на своей кровати и самым жалким образом удавленным посредством скользящего узла. У него был сведённый судорогой рот, а вся правая половина лица почернела».
Когда леди НЭНСИ АСТОР очнулась от глубокого предсмертного обморока и увидела вокруг своей постели всю семью, то с обезоруживающей улыбкой спросила: «А что, я умираю или мы празднуем мой день рождения?»
«А что, собственно говоря, произошло?» – удивлённо спросила свою фрейлину и наперсницу, графиню Ирму Стараи, императрица ЕЛИЗАВЕТА АВСТРИЙСКАЯ и замертво упала на палубу. Оставленная мужем Францем-Иосифом, императором Австро-Венгрии, она колесила по миру в поисках места, где бы ей было покойно и хорошо. Ещё только час назад, выйдя из женевского Hôtel Beau-Rivage, она с жаром воскликнула: «Вы только посмотрите, Ирма! Каштаны вновь в цвету!» Стоял великолепный полдень «бабьего лета», и СИССИ, как звали в семье императрицу и королеву Венгрии, готовилась подняться на борт прогулочного пароходика, чтобы отплыть в Монтрё. Неожиданно наперерез ей бросился итальянский анархист Луиджи Луккени, и никто не увидел, как он ударил её в грудь тонким трёхгранным стилетом, выточенным из напильника. Не успев понять, что же всё-таки случилось, императрица повалилась на доски причала. Её подняли на ноги, поправили причёску, отряхнули платье, подали упавшую шляпу, и она лёгкой стопой (!) поднялась по трапу на борт пароходика. И только уже на палубе сдавленным голосом попросила Ирму: «Руку! Подайте мне руку, быстро! А что, собственно говоря, произошло? Что надо этому человеку?» И упала. Пароходик поменял курс на Женеву, но сознание к Елизавете уже не вернулось. Она так и не узнала, что целый час прожила с кинжальной раной в сердце. Преданные подданные запомнили её красоту. В памяти черни она осталась «сумасшедшей странствующей императрицей», своенравной и непокорной, вечно обходящейся без свиты и охраны.
Её единственный сын, эрцгерцог РУДОЛЬФ, наследник престола, неврастеник с извращёнными вкусами, влюбился в простолюдинку Вечеру. Несчастный в браке с принцессой Стефанией Бельгийской, он обратился к доброму Папе Пию IX, своему крестному отцу, с мольбой дать ему развод. Но добрый Папа Пий IX решительно отказал ему. Тогда уязвлённый эрцгерцог предложил Вечере умереть вместе и пригласил её в замок Мейерлинг. В четыре утра, после хорошей попойки, он попросил певца Братфиша, который исполнял для них народные песни: «Приготовьте всё на завтра – я пойду на охоту». После ночи любви Рудольф застрелил Вечеру, уложил её труп в постель, покрыл его шёлковой накидкой, на которую разбросал цветы. Потом позвонил камердинеру: «Принесите чёрный кофе и поставьте его на стол в соседней комнате». Выпив чашку, он лёг на постель рядом с Вечерой и выстрелил себе в висок.
Однажды, а это случилось 20 июля 1900 года, итальянский король УМБЕРТО ПЕРВЫЙ встретил своего тёзку, как две капли воды похожего на него. Мало того, этот двойник Умберто, оказавшийся владельцем скромного рыбного ресторана, и родился-то в один день с королём, и женился в один день с ним на девушке, имя которой было такое же, что и у королевы – Маргерита, – и оба имели по сыну, которых они назвали тоже одинаково – Виктор Эммануил. Король Умберто пригласил ресторатора Умберто встретиться с ним на следующий день во время его посещения города Монцы. Но тот, накануне неосторожно обращаясь с охотничьим ружьём, по случайности застрелился. Король узнал об этом во время своего церемониального проезда по улицам города и сказал сопровождавшим его в карете генералу Понцио Вагиле и мэру Монцы: «Оказывается, не всё совпадает в наших с ним судьбах. Он уже мёртв, а я…» И в этот самый момент на подножку экипажа вскочил некто Гаэтано Бреши, доморощенный анархист из Тоскании, и три раза выстрелил в короля из револьвера – одна пуля ударила его в плечо, другая пробила лёгкое, а третья задела сердце монарха. «Avanti… Вперёд… – успел пробормотать Умберто, уронив голову на плечо генерала. – Кажется, я ранен…» Нет, он был убит. Оказывается, всё совпало в судьбах двух Умберто – короля и ресторатора.
«Друзья! Вперёд!» – гнал в атаку своих однополчан генерал-лейтенант СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ МАРКОВ, командир Первого Офицерского полка Добровольческой армии. В кожаной куртке и известной белой высокой папахе, он руководил наступлением на железнодорожный мост, которым необходимо было овладеть, чтобы полк мог вырваться из окружения. «Вперёд!» – гнал генерал в бой солдат, размахивая неизменной своей плёткой. И в это время артиллерийский снаряд разорвался рядом с ним, вырвав Маркову плечо и раздробив затылок. Второй Кубанский поход закончился для генерала в грязной глинобитной халупе в станице Шаблиевка. Увидев в углу образ, он прошептал: «Отдайте эту икону Кубанскому полку… Благословите меня ею… Скажите кубанцам, что прежде они за меня умирали, а теперь я умираю за них…»
«Друг мой! – подозвал король Пруссии ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ одного из часовых, стоящих во фронте на так называемой „зелёной“ террасе Потсдамского дворца. – Ходите взад-вперёд! Мне вот легко просидеть здесь в кресле и час, и более. Но вам-то трудно простоять так долго на одном месте». А позднее камер-гусар, стоявший за его высоким вольтеровским креслом, слышал, как король, обложенный подушками, твердил, глядя на солнце: «Скоро, скоро, я к тебе приближусь». Фридрих проснулся ночью и спросил: «Который час?» – «Одиннадцать», – ответили ему. «Хорошо, – сказал он коснеющим языком, – разбудите меня в четыре. Я нынче не работал, завтра будет много дел». Потом попросил лакеев: «Прикройте пса, ведь он дрожит». Любимый его борзой пёс Бишка действительно дрожал в ногах у «выжившего из ума старика», «старого бродячего трупа», который уже выслал вперёд часть своего тяжёлого багажа, и слуги пса укрыли. А через пару часов укрыли саваном и самого короля-полководца, поэта и «философа Сан-Суси» – он умер на простой железной кровати за ширмой, в самой маленькой комнатке Потсдамского дворца. Перед кончиной «старина Фриц» встрепенулся, глаза его блеснули в свете трёх свечей на высоком камине, он приподнялся и сказал знаменитому доктору Циммерману из Ганновера: «Пора заканчивать мне всю эту канитель… Я устал повелевать этими рабами… Я, кажется, утомил Пруссию своим долгим царствованием… Теперь-то я отосплюсь за всю свою бессонную жизнь… О, как легко! Я взошёл на гору… хочу успокоиться…» Голова короля опустилась на грудь, и камер-гусар едва успел подхватить его подмышки. Часы в музыкальной комнате указали роковую минуту – два часа двадцать минут пополуночи 17 августа 1786 года, – и их никогда уж больше не заводили. Как-то Фридрих сказал про них: «Они стучали ещё деду моему и будут стучать после меня… Впрочем, пусть стучат…» Нет, своё они уже отстучали. Правда, позднее их присвоил Наполеон, и его часовых дел мастера починили их. Ссыльный император увёз их с собой на остров Святой Елены и на смертном одре завещал своему сыну.
«Кажется, стучат!» – крикнул сонной бабе, дремавшей на стуле, композитор АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ДАРГОМЫЖСКИЙ. В своей пустой квартире на Моховой улице в Петербурге он, волнуясь и ожидая друзей из концерта, «умирал от сердца». Согбенный в кровати над партитурой своей оперы-драмы «Каменный гость» с карандашом в руке, он всё ждал, что к нему придут, пусть поздно, но придут, все пятеро друзей из «Могучей кучки» – Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский и Римский-Корсаков. Но все пятеро после исполнения Первой симфонии Бородина в Музыкальном обществе дошли только до дверей дома Есакова, где жил композитор (был час ночи 5 января 1869 года), и, недолго поспорив, стоит ли беспокоить больного, страдающего человека, разошлись. Даргомыжский ждал, ждал долго. Свеча горела в комнате, старая кухарка, глухая и сонная, бродила вокруг его постели. «Кажется, стучат», – опять крикнул он ей. Но никто не стучал. Так он и умер, не дописав всего 12 тактов своей оперы и написав на обложке какой-то книги: «Кюи и Корсаков пускай всё моё (черновики. – В.А.) разберут, а Кюи пусть допишет „Гостя“».
«Корабль идёт ко дну», – произнёс французский поэт ЖАН КОКТО, когда рано утром 11 октября 1963 года услышал по радио сообщение о смерти Эдит Пиаф. Прикованный к постели, он работал над книгой мемуаров в своём старом доме в Милли-ла-Форе. И через несколько часов Франция услышала, как умиравший Кокто восславил «парижского воробышка»: «Она умерла, словно сожжённая огнём собственной славы». И начал задыхаться. И смерть чётким движением одетой в чёрную перчатку руки подала сигнал своим слугам:
Смерть не сама нас убивает, нет,
Есть у неё на то свои убийцы…
Это были последние строки последнего стихотворения французского «волшебника слова».
Еще один «волшебник слова», доктор медицины ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ, «удручённый летами и болезнями», до последней минуты своей жизни не выпускал из рук пера, причём пера гусиного. «Этак буквы получаются круглее и чётче», – объяснял он дочери. Даль работал над вторым изданием своего «Толкового словаря живого великорусского языка», внося в него тысячи поправок и дополнений. Строчки ложились криво, но он старался писать разборчиво, с трудом выводя букву за буквой. Писать мелко, неразборчиво он не имел права – неизвестно, успеет ли ещё переписать. А когда пришёл отец Преображенский, священник церкви с соседнего Ваганькова кладбища, он попросил его: «Похороните меня на своём погосте». – «Да вас, немца, туда не пустят», – посочувствовал ему священник. «А каково будет моим тащить труп мой восемь вёрст, через всю Москву, с Пресни на Введенские горы… А здесь любезное дело – близёхонько». А когда священник ушёл и Даль вновь взялся за перо, но оно выпало из руки его, он подозвал дочь и попросил: «Запиши словечко…» Последнее слово Даля, выдающегося знатока русского языка, было о словах.
И выдающийся знаток французского языка ДОМИНИК БОУР, умирая, тоже не прекращал своих изысканий в области грамматики: «„Я скоро умру..“ или „Я готов умереть…“ – пожалуй, оба эти выражения правильны».
Известный писатель и драматург Сербии БРАНИСЛАВ НУШИЧ умер с пером в руке, работая над сатирическим обозрением «Путешествие с того света» и пьесой «Власть». Именно в этой пьесе он успел написать слово «Занавес», и оно было последним в его жизни. Потом уж дочь стала читать ему газетные рецензии о загребской премьере его другой пьесы «Покойник» (!), и под её чтение он затих, закрыл глаза и, казалось, заснул.
Вождь протестантизма в Швейцарии ЖАН КАЛЬВИН, измученный доброй дюжиной страшных болезней, которые он называл «вестниками смерти», тоже не оставлял работы ни на час. «Разве вы хотите, чтобы Бог, придя за мной, не застал меня за работой?» – отвечал он на увещания своих учеников и последователей, моливших его сберечь себя для блага церкви. Его колотил непроходящий кашель, он отказывался от пищи, уверяя всех, что потерял аппетит, и «сладчайшее вино казалось ему горьким». За неделю до смерти Кальвин, переносивший свои страдания без жалоб и стонов, неожиданно потерял дар речи, но поразительнейшим образом обрёл его вновь в день смерти, чтобы сказать братьям свои последние слова: «Умереть мне будет стоить огромных трудов… Меня уже сколько раз травили собаками: „Ату его! Ату его!“, и эти твари драли на мне мантию и рвали ноги… В меня уже стреляли из аркебузы раз сорок или пятьдесят… А всё никак… Но на сегодня, пожалуй, хватит, часы уже пробили». Такими словами великий французский богослов-протестант, но гражданин Женевы и фактический её диктатор, «женевский папа», обычно заканчивал свои лекции в академии и проповеди в церкви. Действительно, часы на городской каланче пробили восемь часов вечера. Шёл к своему исходу 27-й день месяца мая 1564 года. Кальвин, пятидесятисемилетний аскет, предводитель «детей Божьих», на прощание пожал руку по очереди каждому из пришедших к его смертному одру на улице Каноников у площади святого Петра: «Всё, что я сделал, ничего не стоит… Я повторяю… ничего не стоит…» Да и вещи, оставшиеся после смерти этого «гарпагона владычества», ничего не стоили – всего каких-то пятьдесят экю, включая книги.
Величайший немецкий учёный, блестящий натуралист АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ проснулся тем утром в своей берлинской квартире на Oranienburger Strasse, № 67, по обыкновению, поздно. В одиннадцать часов выпил большой стакан бургундского вина и плотно, с видимым удовольствием, позавтракал. Даже в 90 лет он ел много, любил хорошо выпить и частенько столовался за королевским столом, сидя против самого кайзера Вильгельма. В полдень «Нестора науки» посетил американский натуралист Баярд Тейлор. «Вы много путешествуете и видели много развалин. Пред вами ещё одна», – поприветствовал он гостя. – «Я вижу не развалину, а пирамиду», – ответил тот. Спустя полчаса Гумбольдт обратился к нему со всем известными словами: «Ну, друг мой, а теперь я должен вас выгнать, мне нужно поработать с рукописью!» Однако тут юный камердинер доложил, что некая дама напрашивается к нему в гости, чтобы «услышать последние слова „гражданина двух миров“ и закрыть ему глаза». Отослав её, Гумбольдт вернулся в жарко натопленный кабинет к своему великому труду «Космос». Он уже дошёл до описания уральских гранитов, когда силы неожиданно оставили его, и он понял, что дописать эту главу не успеет. Ещё раз пересчитал листы рукописи. «Всего 85 страниц, Зейфер, – сказал он камердинеру. – Отнеси-ка их на почту». Потом поднялся, чтобы налить себе стакан воды, и упал без чувств. Зейфер, вернувшись с почты, нашёл хозяина на полу. «Великий Александр двух столетий» умер в половине третьего пополудни 6 мая 1859 года. Его земной путь в Космос был окончен.
Писал до последней минуты и ЧАРЛЬЗ ЛЮТВИДЖ ДОДЖСОН, более известный миру как ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ, автор вовсе не детских сказок «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Писал он редкой в те времена авторучкой, из которой «чернила текли, как чёрные сливки». На Рождественские каникулы 1897 года он приехал в семейное гнездо «Chestnuts», в дом своих сестёр в Гилфорде. И неожиданно простудился и подхватил бронхит. Слёг, но продолжал заниматься исключительно второй частью своего труда «Символическая логика»: переписывал рукопись, вносил исправления и изменения. Но дышать становилось всё труднее, и тогда он попросил одну из сестёр: «Почитайте мне вслух духовные гимны». «У достопочтенного Доджсона не было жизни, – писала про него Вирджиния Вулф. – Он шёл по земле таким лёгким шагом, что не оставил следов». Ещё как оставил! Математик, фотограф, логик, богослов, писатель, соавтор учебника греческой лексики, талантливый, многогранный и мудрый, он отошёл в мир иной в половине третьего пополудни 14 января 1898 года.
И бывший президент Третьей Французской республики РАЙМОН ПУАНКАРЕ, лёжа в постели и с трудом удерживая перо в разбитой параличом руке, всё писал и писал свои воспоминания. Он не знал, что творится за стенами его квартиры на улице Мабёф в Париже: жена Анриетта ревниво уберегала его от плохих новостей – краха на бирже, прихода к власти Адольфа Гитлера и покушении на жизнь его друга Луи Барту. И он всё писал и писал свои мемуары и неожиданно провалился в кому. Когда же очнулся, Анриетта спросила его, не призвать ли священника. «Нет, нет, никакого священника…» – ожидаемо удержал её от этого Пуанкаре-безбожник и уже до самой своей смерти не сказал больше ни слова. Анриетта, однако, слукавила: пока Пуанкаре много часов находился без сознания, их квартиру навестил кюре и отпустил ему грехи. А грехов у того было предостаточно. Недаром же к нему пристали такие прозвища, как «Пуанкаре-война» и «Пуанкаре-франк»!
К умирающему ПОЛЮ ВЕРЛЕНУ, первому лирику современной Франции после Виктора Гюго, пришли два редактора «Красного журнала» и принесли корректуру последнего его стихотворения «Смерть!»:
Смерть, я любил тебя, я долго тебя звал
И всё искал тебя по тягостным дорогам.
В награду тяготам, на краткий мой привал,
Победоносная, приди и стань залогом!
Все 50 лет жизни Верлена прошли в оргиях, нищете, пьянстве и сочинении стихов. Он переходил из кабака в тюрьму, из тюрьмы в больницу и обратно. Во время Парижской Коммуны он был министром печати и бежал в Лондон после разгрома Коммуны версальцами. Не выпуская листов корректуры из рук, Верлен постепенно угасал. Было слышно, как он слабо шепчет: «Снимите с меня… все эти одеяла», а потом – непонятные, оборванные на полуслове фразы, и вдруг, после минуты тишины: «Франсуа…» Какой Франсуа? Франсуа Вийон? Франсуа Коппе? Нет, вероятнее всего, последняя мысль «вечного ребёнка» была о матери, скончавшейся десятью годами ранее в тупике Сен-Франсуа в Париже. И больше ничего, кроме слабеющего и затихающего хриплого дыхания. «Руки свесились с кровати, лысый лоб покрыт носовым платком, ворот рубашки расстёгнут». Привели священника из церкви Сент-Этьен-дю-Мон отца Шёнхенца, высокого голубоглазого эльзасца, но у Верлена не было уже сил исповедаться, и поэтому священник только причастил его. Таким образом, Бог внял мольбе грешника, который написал в стихотворении «Счастье»: «Лишь бы был со мной священник, когда буду умирать». Последний вздох его был так тих, что никто его и не расслышал. Аскетическое лицо «короля поэтов» просветлело. Впервые в жизни «расточитель, скиталец, пропойца, обжора и хулиган» обрёл покой. В изголовье его поставили три розовые свечки, снятые с камина, – других в доме не оказалось. О, чудесная судьба, пославшая три розовые свечки усопшему поэту! Это было вечером 8 января 1896 года в Париже, в доме 39 по улице Декарта. Нет, нет, говорят другие. Правильно лишь одно: Верлен умер на улице Декарта, 39, где он проживал у девки Эжени Кранц, «почти жены», танцовщицы из весёленького заведеньица «Прекрасная садовница». Но обстоятельства его смерти были совсем не такие. Накануне к нему закатилась другая его подружка, «злой ангел» Эстер, и Эжени закатила ей непотребную сцену. «Состарившийся до срока» Верлен, который погубил свою жизнь из любви к поэзии, надрываясь, кричал им из постели: «Да хватит с меня! Дайте подохнуть спокойно!» Той же ночью он упал с кровати, и Эжени не смогла его поднять – он был слишком тяжёл для неё. Она укутала его в одеяло и ушла пьянствовать к соседям. На рассвете следующего дня Верлена нашли на полу мёртвым, совершенно обнажённым, обнимавшим портрет своего отца. Так или иначе, Верлена, «талантливого полуребёнка, полудикаря», похоронили на кладбище Батиньоль, возле дороги, «некогда полной виселиц и часовен» и уходящей в поля. «Верлен, все друзья здесь!» – внезапно воззвала Эжени, наклонясь над могильной ямой и едва не сверзнувшись в неё. В завещании Верлена говорилось: «Я не оставляю ничего бедным, потому что я сам бедняк. Я верю в Бога».
И американский мастер короткого рассказа и поэт БРЕТ ГАРТ скончался с пером в руке за письменным столом, за которым напряжённо работал «воскресенья и праздники», «больной или здоровый», «с настроением и без настроения». Скончался, мучимый раком горла, спеша закончить очередной рассказ по заказу воскресного журнала. И последними его словами были: «…положительно ненавижу чернила и перо». Никаких сбережений у Гарта, тогда американского консула в Англии, не оказалось – последние годы он жил за счёт женщин и в доме одной из них, в поместье Ван де Вельде, под Лондоном, умер. Его английские друзья поставили на могиле писателя гранитную плиту со строкой из его поэмы: «Смерть пожнёт и самый богатый урожай».
И великий австрийский писатель ФРАНЦ КАФКА тоже писал до самой последней минуты – ему только что принесли из издательства Der Schmiede («Кузница») корректуру его последней книги «Голодарь». Кафка мучился неизлечимой болезнью гортани и совсем мало говорил. Работая, он раз или два пригубил по стаканчику вина и пшора (баварского пива), и вдруг неожиданно «нехорошо задышал». Позвали врача, и Франц с трудом выговорил ему: «Доктор, дайте мне умереть, иначе вы – убийца». Его последние слова были обращены к любимой сестре Элли, которая была далеко от палаты санатория доктора Гофмана в Кирлинге, близ Клостернойбурга, где умирал Кафка, и за которую он принял то ли своего друга Роберта Клоп-штока, то ли невесту Дору Диамант: «Не так близко, Элли, не так близко (он всё боялся её заразить). Да, так – так хорошо». Когда же Клопшток отошёл от кровати за шприцем, Франц произнёс: «Не уходите». Клопшток возразил: «Я и не ухожу». Кафка глухим голосом ответил ему на это: «Но ухожу я». Кафка по-чешски означает «галка», но каждую ночь перед смертью автора «Замка» и «Процесса» к его окну прилетала сова. По старинному поверью, в стремительном ночном полёте эти «птицы смерти» стукаются об окно смертельно больного человека и криком: «Идём со мною!» – зовут на свободу оробелую душу.
И великий пролетарский писатель МАКСИМ ГОРЬКИЙ, умирая, всё писал, и писал, и писал – грифельным карандашом на маленьких листочках бумаги, подложив под них то ли книгу Евгения Тарле «Наполеон», то ли сборник рассказов Шервуда Андерсона: «Конца нет ночи, а читать не могу… Ничего не хочется… Кто-то…» Кто это, мы никогда не узнаем. На последнем листочке было написано: «Последний удар…» Последовал удар грома. Над ночной Москвой разразилась страшная гроза. Молния ударила в дерево, росшее под окнами бывшего особняка миллионера Рябушинского, в котором умирал «отец социалистического реализма». Отложив карандаш и слегка приподнявшись в кресле, он сказал своей третьей и последней жене-любовнице баронессе Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг, обольстительной Муре: «Ну, кажется, на этот раз мы с вами выиграли битву?» – «Выиграли», – согласилась с ним «русская миледи», «красная Мата Хари», как её называли на Западе. И он стал диктовать ей свои последние слова, диктовать короткими, отрывистыми фразами: «Будут войны… Надо готовиться… Надо быть застёгнутым на все пуговицы…» Сознание начало покидать его. «Как хорошо, что всё свои, всё свои люди…» – прошептал наконец писатель и умер мирно и спокойно. Не то, что его герой Егор Булычёв. «Конец романа, конец героя, конец автора». Профессор Плетнёв, один из врачей, лечивших Горького, позднее сообщал: «На ночном столике у кровати Горького лежала красная бонбоньерка с конфетами, которыми он любил угощать своих гостей. В этот день, 8 июня 1936 года, он щедро одарил гостинцами двух санитаров, которые были при нём, и сам съел несколько леденцов. Через час у всех трёх начались мучительные желудочные боли; ещё через час наступила смерть. Все трое умерли от яда».
А вот Татьяна Фёдоровна Шлёцер, вторая, гражданская жена русского композитора, пианиста и музыканта-новатора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СКРЯБИНА, сама настойчиво вкладывала ему в руку перо – он должен был подписать прошение на Высочайшее имя об усыновлении их общих детей. Сознание оставляло автора «Поэмы экстаза», он беспрестанно бредил, заговаривался, неточно выбирал слова: «Это нельзя терпеть!.. Кто это такое?.. Меня тут всего искромсали доктора…» Умирающий от заражения крови, он лежал в полутёмной спальне своей последней квартиры в доме № 11 по Николо-Песковскому переулку в Москве, метался по постели, нетерпеливо перекладывая руки с места на место, словно бы по клавиатуре рояля. В редкую минуту просветления он сказал Татьяне Фёдоровне: «Нам посланы такие страдания, чтобы мы стали лучше…» Наконец ей удалось всё же вложить ему в руку перо, он многозначительно посмотрел на неё, нацарапал на прошении почти без сознания некую закорючку и провалился в глубокий обморок. Около часа ночи в полубреду Скрябин, который, по словам Рахманинова, «умнее Шопена» («Я-то думал, что Скрябин просто свинья, а оказалось – композитор!»), неожиданно громко произнёс: «Нет, это невыносимо… Так это, значит, конец… Но это же катастрофа!» И был прав. Скрябин удивительно точно предсказал дату своей смерти – 14 сентября 1915 года. Обе его жены, Вера Скрябина и Татьяна Шлёцер, умерли, упав со стула, и обе – от воспаления мозга.
Композитор СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ТАНЕЕВ, прожив много лет в Мёртвом переулке, близ церкви Успения, на Могильцах (надо же!), переехал от греха подальше на дачу в деревню Дюдьково, под Звенигородом. Однако после похорон Скрябина, своего любимого ученика, ни одного концерта которого он не пропустил, именно там и слёг. Тогда с непокрытой головой, в лёгком летнем пальто Сергей Иванович шёл под нудным холодным дождём в похоронной процессии рядом с Рахманиновым. «Что же теперь будет?» – спросил он его. Хор исполнял странно знакомый ему скорбный распев. «Ах, да! – вдруг вспомнил композитор. – Это же мой „Иоанн Дамаскин“». У него началось крупозное воспаление лёгких, к которому прибавился сердечный приступ. Болезнь протекала тяжело. Танеев лежал в беспамятстве и рукой всё искал своего любимого кота Василия, который не оставлял хозяина ни днём, ни ночью, свернувшись клубком тут же, в изножье его постели. «Привезите мне земского врача Орлова», – попросил однажды Сергей Иванович камерного певца Назария Райского. И когда за лесом раздался рожок автомобиля, он очнулся, приподнялся с подушек и в сильном волнении проговорил: «Это Назарий Григорьевич привёз доктора!..» И тут же начал резко меняться в лице.
Русский писатель-юморист АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО писать уже не мог – он почти ничего не видел и даже с трудом различал лица окружающих его людей. Зато в бессонные ночи (а бессонница мучила его еженощно), он продолжал устно сочинять свои забавные рассказы. Удивительная память «самого весёлого человека России» сохраняла их до утра, и первыми его слушателями были тогда врачи и сёстры Пражской городской больницы, где он лечился. И те без улыбки не могли слушать его. Лежал Аверченко в большой общей палате, на белой железной кровати под № 2516, на очень жёсткой подушке, набитой соломой. И всё время старался найти для врачей какую-нибудь шутку или розыгрыш, хотя ему нередко мешала говорить одышка: «Доктор, у меня сегодня температура тела всего 7 градусов. Конечно, это неприятно. Правда, я держал градусник вверх ногами». Но перед самой смертью простодушный и беспечный весельчак вдруг загрустил. «Как же тяжело быть одиноким, – пожаловался он некой мадам Модрас. – Да и врачи не дают поесть то, чего хочется». И прибавил: «А я-то думал, что у меня много друзей». Ему предложили вызвать из России сестёр, на что он ответил: «Не стоит их тревожить, у них свои семьи, а главное – визу получить трудно. Скоро я поправлюсь». Нет, смертельно больной тоской по родине, «король смеха» Аверченко не поправился и умер во сне.
«Кончаю портрет, что мне всегда мучительно, – говорил художнику Илье Остроухову ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ. – Мне не дожить». Великий портретист просто загнал себя до смерти ежедневными многочасовыми сеансами, работая одновременно над пятью портретами. «Да что уж толковать! Мне стукнуло сорок шесть лет, отец в моем возрасте умер, и мне тоже того не миновать. Так – свалился и был готов. Туда мне и дорога». Утром, вставая, чтобы ехать на очередной сеанс к самой известной в Москве модельерше театрального и бытового костюма Надежде Петровне Ламановой на Тверской бульвар, Серов позвал няню: «Пришлите ко мне Наташу». Трёхлетней Наташе, его любимице, озорнице и шалунье, позволялось пошалить с папой в спальне, пока тот ещё не поднялся. Она прибежала и начала, по обыкновению, кувыркаться у него в постели. «Возьмите Наташу! – крикнул няне Серов. – Я встаю». Завязав шнурки на ботинках, он было поднялся, но неожиданно покачнулся и упал на пол – совершенно так же, как за сорок лет до того упал его отец, – чтобы уже более не встать. Спазм. Удушье. Сдавленный вскрик. И конец… Буквально накануне он сказал жене: «Следовало бы заблаговременно купить место на кладбище. Жаль только, дорого это, не по средствам нам…»
«Ну, вот и кончились наши пирушки», – это были последние слова знаменитого артиста РИЧАРДА БАРТОНА. Он написал их красным карандашом на медицинской карте на своей госпитальной койке. Накануне вечером Бартон здорово напился в таверне на берегу Женевского озера. Назавтра почувствовал себя очень плохо, жаловался жене на сильную головную боль и тяжёлую одышку. Его быстро перевезли в Женеву и поместили в госпиталь, из которого он уже не вышел. К кому же он обращался со своими последними словами? Скорее всего, своей бывшей жене, напарнице по сцене и собутыльнице Лиз Тейлор.








