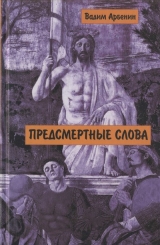
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
ФИЛИПП ПЯТЫЙ ДЛИННЫЙ, умирая от неизвестной мучительной болезни, велел в день смерти настежь распахнуть двери своей опочивальни и подпускать к своему ложу всех прохожих. «Смотрите, – говорил он им. – Вот король Франции, ваш соверен, самый несчастный человек во всём своём королевстве, ибо не найдётся ни одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью. Смотрите, дети мои, на своего государя, дабы уразумели вы, что все смертные лишь игрушки в руках божьих…» Никто, кроме королевы, не оплакивал его.
В свой последний день, 28 января 1881 года, ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ попросил жену прочесть только что принесённые из типографии Суворина корректуры «Дневника писателя» и поправить их. Накануне он, как обычно, работал, когда за этажерку с книгами закаталась его перьевая ручка. Фёдор Михайлович попытался отодвинуть тяжёлую этажерку, но от сильного напряжения у него пошла горлом кровь – в последнее время писатель страдал эмфиземой лёгких. Поэтому он лежал на диване, а жена читала ему газеты. Когда за окном стемнело, он неожиданно сказал ей: «Я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!». Наудачу открыв заветное, драгоценное «каторжное» издание Библии, которое было с Достоевским в сибирской ссылке, Анна Григорьевна прочитала верхние строки из Евангелия от Матфея: «…Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь, – „не удерживай“, – значит, я умру, – сказал Достоевский. – Это пророчество о моей судьбе. Закрой книгу». И сам закрыл глаза. И успокоился совершенно. Потом пробормотал: «Бедная… дорогая… с чем я тебя оставляю… бедная, как тяжело будет жить тебе! Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял никогда, даже мысленно!..» И потом несколько раз прошептал: «Зови детей, зови детей…» За этим последовало беспамятство и агония, но в шесть с половиной часов, безо всякой видимой причины Фёдор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его подбородок и тонкой струйкой стекла по бороде. Пульс бился всё слабее и слабее, и в 8 часов 38 минут вечера великий русский романист отошёл в вечность.
А вот КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ, пионер современной космонавтики, ошибся в дате своей кончины. Он умирал от рака желудка в железнодорожной больнице родной Калуги, говорил мало и с трудом, общаться ни с кем не хотел, даже с родными. Оживился и воспрянул духом, лишь когда получил телеграмму от Сталина. Вождь желал учёному скорейшего выздоровления после сложнейшей операции в день его семидесятивосьмилетия и санитарным самолётом прислал в Калугу двух московских хирургов – Плоткина и Смирнова. И Циолковский тотчас же продиктовал ответ: «Прочитал Вашу тёплую телеграмму. Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, знаю – советские дирижабли будут лучшими в мире. Благодарю Вас, товарищ Сталин». И уже собственноручно дописал: «Нет меры благодарности. Константин Циолковский». После чего он, убеждённый трезвенник, выпил предложенную ему хирургом Плоткиным рюмку рому. Циолковский ошибся. Он умер в тот же день. Когда его, «гражданина Вселенной», учёного и пророка, аскета и изгоя, хоронили, над городским кладбищем проплыл дирижабль.
«Я проживу ещё двое суток», – уверенно сказала за два дня до смерти «великолепно некрасивая» испанка, певица и вдова директора итальянского театра в Париже ПОЛИНА ВИАРДО. (Это ей, женщине необыкновенного ума, говорящей на многих европейских языках, Тургенев посвятил стихотворение в прозе «Стой!») И с этого момента она больше не говорила. Но её близкие, собравшиеся в замке Куртавнель, видели, что, полулёжа в креслах, она с кем-то беседовала, улыбалась, кивала головой, делала приветственные знаки руками. В затуманенной памяти дочери испанского композитора комических опер из севильских цыган, ставшей знаменитой певицей с европейским именем, похоже, оживали эпизоды из далёкого прошлого. Она снова и снова выходила на сцену, вспоминала свои партии, и её последним словом, сказанным ею громко и внятно, было «Норма» (имя героини одноименной оперы Винченцо Беллини, её лучшей роли). Вечером она задремала и в три часа ночи с 17 на 18 мая 1910 года угасла, не проснувшись, с порозовевшими щеками и с улыбкой на губах.
И первая российская кинозвезда, примадонна ВЕРА ХОЛОДНАЯ (ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ЛЕВЧЕНКО) точно знала, когда умрёт. «Я люблю тебя, „великий немой“! Ты заговоришь, когда меня уже не будет. Я не услышу тебя», – предсказала она свой последний час. Стоял лютый февраль 1919 года. В оккупированной интервентами Одессе, на съёмках очередного фильма актриса сильно простудилась. Всю ночь металась в жару в промёрзлой (– 9 градусов) квартире в доме мещанки Попудовой на Соборной площади. Наутро начался бред. Самые именитые врачи города собрались на консилиум и вынесли неутешительный диагноз: «испанка», осложнённая воспалением лёгких, а то и лёгочная чума! Перед смертью Холодная ненадолго пришла в себя, причастилась, попросила позвать дочь Женю из соседней комнаты: «Твоя мама умирает, а ты прыгаешь и танцуешь». И очень беспокоилась о муже. «Володя там, в Москве, и не чувствует, наверное, что я умираю…» – снова и снова повторяла она. И это были её последние слова. В половине восьмого вечера 16 февраля (это было воскресенье) на лестницу вышел знаменитый одесский профессор Леонтий Усков, лечивший её, и, не стесняясь слёз, расплакался. «Королева» немого экрана умерла, прожив 26 лет, 6 месяцев и 7 дней. А ведь столько раз умирала она на экране! Веру Холодную, по её просьбе, похоронили в том платье, которое было на ней на съёмках её последнего, тридцать седьмого (или восьмидесятого?) по счёту фильма – «У камина».
«Ну, теперь я покончил со всеми земными делами, и время моё пришло, – говорил дочери венгерский композитор и дирижёр ФЕРЕНЦ ЛЕГАР, представитель новой венской оперетты, автор „Весёлой вдовы“, „Графа Люксембурга“ и „Цыганской любви“. – Да, да, моя дорогая, теперь наступает смерть».
«Теперь наступает тайна», – уточнил известный английский евангелист ГЕНРИ УОРД БИЧЕР.
«Я девяносто с лишним лет отыскивал лазейку, через которую можно убраться из этого мира, – объявил со смертного одра суровый сын и внук сельских священников ТОМАС ГОББС, величайший из всех философов Англии и известный писатель. – И я наконец-то нашёл её. Это будет великий прыжок в темноту. Я отправляюсь в своё последнее плавание…»
«На этот раз плавание будет долгим», – согласился с ним французский премьер-министр ЖОРЖ КЛЕМАНСО, по прозвищу Тигр, умирающий у себя в спальне на шикарной парижской квартире по улице Франклина. Его терзал кашель – давала о себе знать застрявшая под правой лопаткой револьверная пуля столяра Эмиля Коттена, который стрелял в Тигра 19 февраля 1919 года. Тигр терял память. «У меня есть надежда?» – спросил он своего врача доктора Лобре. «Нет», – последовал неутешительный ответ. «Смерть! Это облегчение! Есть битвы, которые нельзя выиграть», – воскликнул старый вояка. «Но самое главное – не зовите никаких священников! Запретите им приближаться к моему гробу ближе, чем на триста метров!» – напоследок напутствовал близких Клемансо, который никогда не верил в загробную жизнь. Перед смертью Жорж Клемансо попросил переодеть его в легендарный мундир («Он умер, как умирают солдаты в траншеях, в полной форме», – заметил по этому поводу генерал Гуро), а в гроб положить трость с железным набалдашником, которую он не оставлял со дней своей молодости, кожаную шкатулку с книгой, подаренной ему матерью, и давно увядший букет цветов – в окопах Первой мировой войны его поднёс ему кто-то из французских пехотинцев. На могильном камне Клемансо в его родной Вандее нет ни его имени, ни дат жизни. «Кто захочет, тот найдёт», – считал он.
«Все мы отправимся на небеса, – поправил Жоржа Клемансо английский художник ТОМАС ГЕЙНСБОРО. – И Ван Дейк составит нам компанию». Накануне известный пейзажист обедал с Ричардом Шериданом. Тот был, как всегда, в ударе, но Гейнсборо сидел молча, подавленный, и никакие шутки и остроты драматурга не могли его развлечь. «Вот, вы не смейтесь, а послушайте меня, – неожиданно попросил он. – Я скоро умру – я знаю, я чувствую… Но мне это безразлично. Меня тяготит вот что: у меня много знакомых, но мало друзей. А мне хочется, чтобы хоть один стоящий человек проводил меня до могилы. Я хочу вас попросить об этом. Придёте ли вы? Да или нет?» Шеридан едва подавил улыбку, когда выразил своё согласие. Гейнсборо «просиял, как солнышко на одном из своих пейзажей», и весь оставшийся вечер блистал остроумием и шутками. Но на завтра, действительно, простудился, почувствовал озноб и слёг в своём шикарном особняке «Шомберг Хаус» в центре Лондона. «Меня беспокоит, что я не смог полностью обеспечить будущее своих дочерей», – говорил он жене. Скупая Маргарет утешила мужа: «Я уже много лет припрятывала твои деньги, которые валялись где не попадя». – «Спасибо, – сказал ей Гейнсборо. – А то я всё удивлялся, куда это они деваются». И прошептал: «Все мы отправимся на небеса…»
Знаменитый художник-маринист, действительный статский советник и сановник ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ (ОВАНЕС АЙВАЗЯН) в 5 часов вечера вернулся домой из своего имения в крымской деревушке Шах-Мамай под Феодосией. А через пару часов, проводив жену Анну Никитичну с её сестрой на вокзал, пешком отправился к своим родственникам Мазаровым, где играл в карты, «загибая даму на пе», много шутил и рассказывал о своей работе над полотном «Взрыв турецкого корабля». «Завтра непременно закончу», – пообещал он хозяевам. После вечернего чая, часу в двенадцатом, Иван Константинович, совершенно здоровый, бодрый и довольный выигрышем, поехал к себе домой, в известный всей Феодосии дом-дачу. Во втором часу ночи его заспанный лакей услышал звонок и поднялся к хозяину в спальню. Тот лежал поперёк кровати почти без признаков жизни, судорожно сжимая в кулаке сонетку звонка, «словно бы это было лодочное весло». На столе лежало мокрое полотенце-компресс. Приехавший доктор уже ничего не мог поделать и лишь услышал, как в какой-то миг художник вдруг вскрикнул: «Отплываем…»
Отправился в своё последнее плавание и английский поэт ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ. В час пополудни 8 июля 1822 года его небольшая яхта «Дон Жуан», названная так в честь героя поэмы лорда Байрона, вышла из Ливорнского порта в Лигурийское море и через полчаса попала в полосу жесточайшего шторма. Капитан парусника, оказавшегося поблизости, предложил Шелли взять его к себе на борт. «Ваша яхта не выдержит бури!» – крикнул он ему в рупор. И услышал в ответ: «У нас всё в порядке!..» Через десять дней море выбросило на берег тело Шелли, по-мальчишески тощее. Вода и рыбы не пощадили его, но сохранилась одежда, а в карманах жакета остались книги – томик Софокла и открытая, перегнутая пополам книжка стихов Джона Китса, его закадычного друга. Вопреки христианской традиции тело Шелли было сожжено на берегу в присутствии жены Мэри, Байрона и нескольких друзей, а пепел захоронили рядом с могилой Китса на кладбище в Риме, под старой Римской стеной. Кто-то вспомнил, что перед отплытием из Ливорно Шелли будто бы сказал: «Если „Дон Жуан“ будет тонуть, я отправлюсь на дно вместе с ним, как часть его груза». А ещё ранее он встретил на террасе дома своего двойника, что, по английским поверьям, считается несомненным знамением скорой смерти.
«Ну, я должна отбыть, – произнесла вслух американская поэтесса ЭМИЛИ ДИКИНСОН. – Туман уже рассеивается…» Вот как поэтические натуры излагали свои сокровенные мысли на смертном одре!
Потомок польских оккупантов эпохи «смутного времени», автор первой русской национальной оперы, на тему польской оккупации, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА перед своей последней поездкой за границу, в Германию, по старому русскому обычаю, присел на дорожку с другом Владимиром Стасовым и сестрой Людмилой Шестаковой. Они проводили его за шлагбаум Петербурга у городской заставы. Там Глинка вышел из почтовой кареты, горячо расцеловался с сестрой и обнялся с другом. Потом отошёл в сторонку, плюнул на землю и сказал: «Когда бы мне больше не видеть этой гадкой страны!» И его желание, увы, исполнилось – он скончался в Берлине. Тридцатого января 1857 года в королевском замке давали ежегодный придворный концерт, на котором, по повелению кайзера Пруссии, Фридриха Вильгельма, исполнялась сцена из «Руслана и Людмилы», а актриса Вагнер пела арию Вани из оперы «Жизнь за царя», мысль написать которую пришла Глинке именно в Берлине. Выйдя из жаркой концертной залы на трескучий мороз, композитор сильно простудился и слёг в постель у себя на Marienstrasse, в доме № 6. Когда на следующее утро в его комнату вошла служанка в белом накрахмаленном фартуке и белом чепце, он уже в полубреду воскликнул: «Всё белое… Вот и стены, и снег за окном! Не правда ли самый-самый скучный цвет – белый?» А потом добавил почему-то по-французски: «Jʼai toujours été maltraité moralement» («Ну, никогда мне не везло»). Перепуганная насмерть служанка послала за доктором. Перед самой смертью Глинка попросил профессора Дена, своего давнишнего учителя: «Отошлите мои новые фуги в Петербург, к моей компании братии, и переправьте туда же, к сестре, все мои вещи. Но только не халат. (Чем сильно удивил немца, тоже прижимистого и партикулярного.) Из этого халата, по ветхости, уже нельзя сделать никакого употребления». Когда служанка вошла к нему на следующее утро с большой чашкой его любимого чая с миндальным молоком, Глинка лежал без признаков жизни, прижимая к губам маленький образок, благословение матери. Профессор Ден поставил на его могиле на лютеранском кладбище памятник из силезского мрамора со словами: «Michail von Glinka. Kaiserlicher russischer Kapellmeister».
Утром 26 апреля 1731 года в комнату своего постояльца, мистера Луси, вошла миссис Брукс Гаррисон, хозяйка домика с пансионом, что на Канатной аллее, рядом с Передней улицей в Лондоне. Увидев, что её жилец, год назад въехавший к ней и представившийся пивоваром из Кента, сидит, уткнувшись лицом в стол, она уронила на пол поднос с завтраком и завизжала. Мистер Луси, аккуратный старичок в завитом парике, крепко сжимал в руке гусиное перо, рядом лежал исписанный беспорядочными строками лист бумаги. В открытой шкатулке для бумаг миссис Гаррисон нашла незапечатанное письмо некоему Генри Бейкеру: «…Нет, чувствую, что путешествие подходит к концу… Желаю вам в опасном плаванье по жизненному маршруту свежего ветра и прибытия в порт вечного назначения безо всякого шторма…» Письмо было подписано: «Ваш несчастный ДАНИЭЛЬ ДЕФО». Вызванный доктор констатировал, что душа «мятежного корсара», автора по-настоящему первого английского романа, известного во всём мире «Робинзона Крузо», отлетела ещё до рассвета. Спасаясь от преследования кредиторов, Дефо спрятался в самом сердце Сити, в приходе святого Эгидия, всего в двухстах метрах от тех мест, где увидел свет семьдесят лет назад. И умер не в бедности и не в безделье, но в заброшенности, умер без сознания, в забытьи, от летаргии или полной изношенности организма. Потерпевший жизненное кораблекрушение моряк отправился в последнее своё плавание к не открытому ещё острову. В кладбищенской книге он был ошибочно записан как «мистер Дюбо».
«Хорош, хорош анекдот, ничего не скажешь, – расхохотался в постели умирающий английский поэт АЛЬФРЕД ЭДУАРД ХАУСМАН. – И уже завтра я буду рассказывать его на Небесах, на Золотом Крыльце». Лечащий доктор только что рассказал ему свежий «сальный» анекдот: «Приходит к врачу недотёпа фермер и спрашивает…»
«Слишком поздно! Они идут ко мне, но я, я ухожу». – Эти последние осмысленные слова французского композитора ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА были его ответом друзьям и близким. В конце своей полной треволнений и любовных приключений жизни он ничего не понимал, никого не слушал, ничего не слышал. Друзья приходили к нему на парижскую квартиру на улице Парнас, 41, – Дамски, Сен-Санс, Рейер – и, сознавая наступление рокового часа, говорили ему (ложь из милосердия! ложь во спасение?), что во Франции «происходит поворот в отношении к его музыке, публика начала понимать его и восхищаться им». Гениальный маэстро, кавалер ордена Почётного легиона, который некогда «огнём патетики и дикими ураганами внушал людям ужас перед жизнью», приподнимался, слушая их, и только улыбался. Он слёг в постель, сражённый смертью единственного сына Луи, капитана дальнего плавания торгового флота в звании майора, умершего в Гаване от жёлтой лихорадки в 33 года. Постепенно погружаясь в кому, Берлиоз терял память и уходил во мрак. Теперь он почти всё время спал, и это был его последний сон перед сном вечным. И только однажды, перед самой кончиной в 12.30 пополудни 8 марта 1869 года, великий композитор пробормотал что-то, похожее на «Когда я внесу свою долю разложения в этот склеп…» Самый верный из его поклонников, друзей и наперсников Рейер попросил подписать ему экземпляр партитуры оперы «Бенвенуто Челлини». Берлиоз с трудом взял в руку перо и начал: «Моему другу…» Потом остановился и спросил: «В самом деле, как же вас зовут?.. Ах да, Рейер». А когда тот спросил: «Как бы вам облегчить страдания?» – «Мне всё равно, – ответил „гениальный неудачник“. – У меня уже почти нет сил оставаться в живых». Он уступил усталости, к которой было примешано презрение к людским порокам. И хотя подле него в это время была его тёща и мадам Шартон-Демер, первая исполнительница партии Дидоны в его опере «Троянцы», он посетовал: «И некому закрыть мне глаза… Тогда я сам их закрою». И, действительно, закрыл их сам. Когда дроги с телом композитора въезжали на кладбище Монмартра, кони понесли, и его гроб свалился на могилу Никколо Паганини, его обожателя.
Один из лучших военачальников США, четырёхзвездный генерал ДЖОРДЖ СМИТ ПАТТОН, через силу прошептал жене Беатрисе загадочные слова: «Слишком темно…» И минутой позже добавил: «Слишком поздно…» Действительно, поздно. Командующий Третьей американской армией, освобождавшей Францию и Германию, умирал в палате № 101 полевого госпиталя в пригороде города Гейдельберг. Нет, умирал не от немецких пуль или осколков, а от ран, полученных в нелепой автокатастрофе в окрестностях Мангейма, на юге Германии. Туда Паттон, перед возвращением в США, отправился на королевскую охоту – за венгерскими фазанами. Тогда, 9 декабря 1945 года, на железнодорожном переезде почти пустынного автобана 38 в его старый генеральский «Кадиллак» 1938 года выпуска врезался армейский грузовик. «Господи Иисусе, – успел он произнести, – хорошенькое начало моего отпуска». Парализованного генерала, закованного в гипс, приготовили к отправке домой. «И почему это они не дадут мне просто остаться здесь, среди моих павших солдат?» – запинаясь, спросил он медсестру, лейтенанта Марджери Ронделл. Но Вашингтон не мог допустить, чтобы их прославленный генерал умер в Германии, да ещё в бывшей казарме вермахта, где теперь располагался госпиталь Седьмой армии, и приказал немедленно вывезти его. «Я умру, я умру, я умру…» – несколько раз повторил Паттон медсестре. И добавил: «Я умру уже сегодня». Да, рано утром, под самое Рождество, он сказал жене: «Слишком поздно…», и сердце генерала Джорджа Смита Паттона, по кличке Старина, идентификационный номер 02 605, остановилось. Последней записью в его дневнике стали слова: «Как ни грустно сознавать, что утрачен последний шанс отработать свой хлеб, но это очевидно. Хотя я всегда делал максимум возможного, когда Бог давал мне шанс».
«Слишком поздно, – ответил художник АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ фельдъегерю, с которым прислан был ему орден Святого Станислава I степени. – Слишком уж поздно». Его болезнь крайне обострилась, и в ночь на 11 июля 1910 года «певца лунных ночей на Днепре и вечеров на Украине» свалил очередной приступ удушья. В квартире, которую он снимал в угловом многоэтажном доме купца Елисеева в Биржевом переулке Санкт-Петербурга, дежурил один только доктор Гурвич. Даже прислуги не было у статского советника Архипа Куинджи (а это генеральский чин!), сына безродного грека-сапожника из захолустного Мариуполя, выбившегося в миллионеры. Умирающий лежал в гостиной, на разостланном на полу ковре, подперев голову рукой, голый, скинув с себя даже простыни, которые «душили», и Гурвич наклонялся, чтобы лучше слышать слабеющий голос художника: «Я хочу поговорить о многом…» – «Архип Иванович, вам нельзя много разговаривать. Вот поправитесь…» – «Не надо, доктор… И вы, и я знаем…» Когда обессилевший Гурвич задремал в кресле, художник с трудом поднялся, вышел на лестничную площадку и навалился всем телом на перила. Подоспевший швейцар повёл его в квартиру, с трудом поддерживая грузную фигуру. Архип Иванович умер на пороге. Всю жизнь проходивший в потёртом сюртуке и заношенном пальто, он завещал неимущим художникам России все свои картины, имение в Крыму, на берегу Чёрного моря, и почти миллионное состояние, тогда как жене, Вере Леонтьевне, оставил лишь ежегодную пенсию в 600 рублей, нужных ей на прожитие.
«Жаль!.. Слишком поздно», – прошептал уже принявший причастие ЛЮДВИГ ван БЕТХОВЕН, когда в час дня слуга Брейнинг доставил ему посылку от издателей Шотт из Майнца с двумя бутылками рюдесгейма. Утром этого дня (понедельник, 26 марта 1827 года) стоящие на рабочем столе композитора часы в виде пирамиды, подарок княгини Лихновской, внезапно остановились. Несчастного Бетховена на ложе смерти заедали клопы. Его заставили проглотить одну ложку вина. Вкус, запах, кровь отца Рейна… Внезапно разразилась страшная буря, с метелью и градом – и это-то в Вене в конце марта! Удар грома потряс комнату, озаренную зловещим отблеском молнии на снегу. Непризнанный и отвергнутый Бетховен открыл глаза и, угрожая небу, поднял правую руку, сжатую в кулак, словно бы хотел сказать: «Я не сдамся вам, враждебные силы! Отступитесь! Господь – моя защита». Рука упала. «Plaudite, amici! Finita est comoedia!» – «Друзья, рукоплещите! Конец комедии», – услышали присутствовавшие последние слова великого композитора. «Скоро я вас снова увижу», – дружелюбно добавил он. Глаза его закрылись… Он пал в бою. Неистовый финал «Аппассионаты»! Могильщику Верингского кладбища, который предал земле Бетховена, тотчас же было предложено 1000 флоринов за его голову.
Любимец Петра Первого, адмирал Российского флота, великий бонвиван, бесшабашный, но даровитый гуляка и жизнелюб ФРАНЦ ЛЕФОРТ поторапливал своего исповедника, реформаторского пастора Штрумпфа из Немецкой слободы: «Много не говори, позови музыкантов…» Музыканты были позваны, и им «удалось наконец усыпить больного сладостными симфониями». В заржавленной лампе жизни оставалось ещё несколько капель масла. «Друзей… Чаши…» – неожиданно позвал Лефорт. Ему поднесли вино, но он уже не мог поднять руки, и красный монастырский кагор пролился на грудь его. Глаза перестали видеть.
И писатель ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЫНЯНОВ, которому Максим Горький вручил членский билет Союза советских писателей за № 1, попросил доктора: «Дайте мне вина, которое мне давали в детстве, когда я болел». – «Какое ещё вино?» – удивился доктор Кремлёвской больницы. «Оно такое сладкое и жёлтое и называется „Сант-Рафаэль“», – ответил Тынянов, который умирал от рассеянного склероза. Откуда доктору было достать такое вино в вымороженной прифронтовой Москве в декабре 1943 года, и он предложил писателю пирожное.
«Мы должны выпить по бокалу шампанского», – предложил семейному доктору Швейнингеру князь ОТТО БИСМАРК, творец Второго Германского рейха и его первый рейхсканцлер. Они взяли да и выпили, а Бисмарк к тому же ещё выкурил одну за другой пять трубок – они у него все были пенковые, – следя за фантастическими образами дыма. «Железный канцлер» сидел с доктором за обеденным столом в своём кресле на колёсиках и предавался воспоминаниям: «Вот когда мы с кайзером Вильгельмом были в Москве… Там парады, смотры, банкеты, балы и гала-концерты… Кажется, я произвёл на русского императора самое благоприятное впечатление» После того как другой кайзер, Вильгельм Второй, отправил его в отставку, Бисмарк удалился в неухоженное своё поместье, неподалёку от Фридрихсруэ, на свои, как он выражался, «первоклассные похороны», наверное, потому что ехал сюда поездом в вагоне первого класса. Но перед смертью он помирился с Вильгельмом. Его призыв к «крови и железу» был услышан. «Я не хочу, – говорил он доктору, – я не хочу лицемерной официальной эпитафии. Напишите просто, что я был преданным слугою своему господину – императору Вильгельму Второму, кайзеру Пруссии…» И вдруг упал. Его перенесли в спальную комнату. Домашние собрались у его постели и пытались разобрать слова, которые князь, генерал-фельдмаршал и кавалер ордена Чёрного орла силился произнести. «Я благодарю тебя, дитя моё…» – сказал он дочери Мальвине, когда она вытирала испарину с его знаменитого лба. Вечер 30 июля 1898 года выдался жаркий, и Бисмарка мучила жажда. Вдруг, собравшись с силами, он схватил со стола стакан с питьём, воскликнул: «Vorwärts!» («Вперёд!») и упал на подушки. По словам профессора Швейнингера, «его конец был подобен последнему отблеску пламени». Бисмарка, «строителя и лоцмана германского государственного корабля», «прусского Мефистофеля», «лучшего ученика Макиавелли» и любимца Николая Первого, похоронили на деревенском кладбище, на высотах Тевтобургского леса, где Германик сражался с римлянами, где шла исконная борьба славян с немцами. А на массивном надгробном камне-валуне, окружённом любимом им дубами, дугласовскими елями и берёзами, написали одно лишь слово: «БИСМАРК». Вполне достаточно.
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ФОФАНОВ, «ПОЭТ божьей милостью, как Пушкин, выше Пушкина», тоже попросил шампанского, и доктор Камераз, в больнице которого на Васильевском острове поэта лечили от нефрита, в вине умирающему не отказал. Но давал ему только по ложечке – правда, полувыпитая уже бутылка стояла на прикроватном столике. Повернувшись к стене, Фофанов всё время что-то писал на ней рукой, скорее всего воображаемые свои дактили и хореи. И вдруг в какой-то момент из пересохших губ его вырвались последние мерные строчки: «Это – фофан, бедный фофан, это – друг наш дорогой»! Фофанов родился в Духов день 1862 года и в Духов же день, сорока девятью годами позже скончался.
И великий немецкий философ ИММАНУИЛ КАНТ, похожий на обтянутый кожей скелет, тоже попросил себе напоследок вина. Он очнулся в час ночи, после суточной агонии, и подозвал младшую сестру Барбару: «Налей мне вина». Выпил несколько глотков подслащённого рейнского с водой и похвалил: «Это хорошо». В жизни «кёнигсбергского отшельника», жизни поразительно скучной и неинтересной (горожане поверяли часы по тому времени, когда Кант начинал свою утреннюю прогулку), этот поступок был самым ярким и запоминающимся! Кроме сестры, при нём в это время были племянник и давнишний его ученик, русский дьякон Васьянский, к которому он питал такую же любовь, как и к своей матери. По словам последнего, Кант, который в жизни не целовал ни своих друзей, ни женщин, ни одна из которых не одержала над ним победы, вдруг потянулся к нему и протянул губы для поцелуя. Однако снова впал в беспамятство, и сознание больше к нему не возвращалось. В сжатом кулаке философа нашли памятный листок с библейскими словами: «Жизнь человека длится 70 лет, много 80». Канту уже стукнуло 79. После его смерти осталось более 500 книг, и почти ни одна из них не была разрезана!
«Я принял сегодня восемнадцать порций виски, – похвастался перед друзьями американский поэт ДИЛАН ТОМАС. – Я думаю, что это рекорд…» На девятнадцатую порцию его уже не хватило, и он почил.
«Мы крайне удивлены, что ничего не слыхать про вино в бутылках из Аи!» – Сэр ПИТЕР ПАУЭЛ РУБЕНС диктовал из постели письмо своему другу скульптору Люсасу Файдербе. «То, что мы привезли с собой, выпито до капли!» И это стало последней каплей в жизни художника. Он впал в забытьё. Автор самых чувственных в истории живописи созданий, «несравненный чародей поэзии женской красоты», «певец роскошного женского тела, щедро открытого взорам в своей наготе», «певец торжествующей плоти» и одновременно «поэт мясников», он умирал от приступов подагры и артрита в своём поместье Стен, в Элевейте, под Антверпеном. Лучшие городские медики Лазар Марки и Антонио Спиноза пробовали на нём свои таланты, пытаясь отворить больному вену. Филипп Четвёртый и Карл Первый прислали к нему своих личных эскулапов, но они были бессильны. Когда живописец пришёл в себя на короткое время, священник прихода святого Иакова спросил его о посмертной часовне. «Если моя вдова и дети сочтут, что я достоин такого памятника, то пусть соорудят», – ответил ему Рубенс. По признанию его племянника Филиппа, дядя до последних минут оставался в полном сознании и, как всегда, охотно разговаривал сам с собой. Но в те годы не принято было разглашать последние слова умирающих. Сердце Рубенса не выдержало боли, и в полдень 27 мая 1640 года он отошёл, держа в своих руках руки сына Альберта и жены Елены.
И древнегреческий философ ЭПИКУР, мучимый невыносимой болью, забрался в медную ванну с горячей водой, попросил чашу неразбавленного вина, опорожнил её, пожелал друзьям и ученикам не забывать его советов – жить в свое удовольствие, в тесном дружеском кругу, но одновременно стремиться к покою, душевному миру, «штилю» духа, к жизни в укромном месте (любимое его выражение: «Lathe biosas» – «Живи скрытно») – и с этим скончался.
Актриса ТАЛЛУЛА БЭНКХЭД попросила сначала: «Кодеин…», а потом, подумавши, поправилась: «Бурбон…» Но не успела принять ни того, ни другого.
«Дай-ка мне, сыночек, рюмочку моего любимого виски, – попросила сына Владимира МАТИЛЬДА ФЕЛИКСОВНА КШЕСИНСКАЯ. – Кончилось? Тогда кальвадоса с камамбером. Про этот рецепт я узнала из романа Жоржа Сименона „Портовая Мари“». – Матильде, бывшей красавице, «генералиссимусу русского балета», «царской ведьме», несравненной приме-балерине Мариинского театра, любимой женщине и интимной подруге императора Николая Второго, стукнуло уже 99 лет! Она умирала в Париже. «Он мне розу бросил… Он на лошади был… Ты не представляешь, как он выглядел… Ему был 21 год, а мне – 17. Мы условились встретиться на Волхонском шоссе, у сенного сарая… За что Бог наказал меня, отнял его?..»
А вот известный голливудский киноактёр ХЭМФРИ БОГАРТ, герой фильма «Касабланка», признался перед смертью: «Не следовало мне переходить с шотландского виски на „мартини“. Точно, не следовало. Ведь „мартини“ – дамский напиток».








