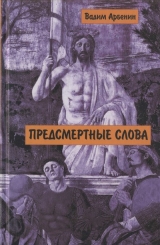
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 33 страниц)
Скандально известный японский писатель ЮКИО МИСИМА, преуспевающий ревнитель национальных традиций, ярый монархист и «последний настоящий самурай Японии», после неудачной попытки государственного переворота обставил свою смерть подобающим ритуалом. Стоя на парапете балкона, он обратился к толпе созванных им журналистов, студентов, солдат и просто прохожих: «Самураи вы или нет? Мужчины вы или нет? Ведь вы воины!» Потом снял ботинки и мундир, надетый на голое тело, опустился на колени, взял в руки короткий самурайский меч и наметил точку в нижней части живота, куда должно было войти лезвие. «Пожалуйста, не оставляй меня в агонии слишком долго», – попросил он своего последователя и ученика Мориту, который должен был, по обычаю, добить его. «Да здравствует император!» – трижды прокричал Мисима традиционное приветствие. И добавил: «Кажется, меня никто не слышал». И «Хха – оо!» – меч с трудом вошёл в плоть. Да и Морита не сумел сразу добить своего учителя. Первый удар его меча пришёлся на его плечи, второй – на его спину, и лишь с третьей попытки меч попал по шее, но очень слабо. Тут уж один из студентов не утерпел, выхватил из рук Мориты меч и одним ударом отсек истекающему кровью Юкио Мисиме голову. На своём письменном столе Мисима оставил записку: «Человеческая жизнь имеет предел, я же хочу жить вечно».
А еще один самоубийца, сорокапятилетний американский чернорабочий, прежде чем свести счеты с жизнью, надавал распоряжений:
«Своё маленькое хозяйство я завещаю матери;
Своё тело – ближайшему медицинскому училищу;
Свою душу и сердце – всем девушкам;
А свои мозги – президенту Трумэну».
И преуспевающий писатель-сатирик РАЛЬФ БАРТОН написал: «Свои потроха я оставляю любому медицинскому училищу, которому они понравятся. Или же пусть пустят их на мыло. У меня до них нет уж никакого интереса, и единственно, чего я хочу, так это как можно меньше возни с ними». А добровольно он ушёл из жизни лишь потому, что: «Мне осточертели все эти электрические приборы, с которыми я сталкиваюсь ежечасно и каждый день». Написано в 1931 году, однако!
Большой писатель Австрии, великолепный рассказчик СТЕФАН ЦВЕЙГ покончил самоубийством вместе с молодой женой Лоттой в далёком Петрополисе, близ Рио-де-Жанейро (это Бразилия), и в прощальном письме сказал: «Мир моего собственного языка исчез для меня, и мой духовный дом, Европа, разрушила самоё себя. Я шлю привет моим друзьям. Быть может, им доведётся увидеть утреннюю зарю после долгой ночи. Я же, слишком нетерпеливый, ухожу раньше. Бродяга, не имеющий родины, я истощил свою энергию в многолетних скитаниях». И принял большую дозу веронала.
Французский писатель НИКОЛЯ-СЕБАСТЬЕН ШАМФОР, наложив на себя руки, оставил по себе такие слова: «Итак, я покидаю этот мир, где сердце должно либо разбиться, либо очерстветь».
Но вот уж кто расписался по-настоящему, так это пролетарский ПОЭТ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ – его предсмертное письмо написано на двух страницах в линеечку, вырванных из репортёрского блокнота: «ВСЕМ! В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сёстры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля – люби меня…» Далее следует просьба к правительству о поддержании семьи: «Моя семья – это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна Полонская…» За этим следуют распоряжения: «Начатые стихи отдайте Брикам – они разберутся… В столе у меня 2000 рублей – внесите налог». И всё такое прочее – на двух страницах! Последней, кто видел его, была актриса Вероника Полонская, последнее увлечение поэта, которую он просил оставить мужа и бросить театр. «Попрощался он со мной неожиданно нежно. Но проводить отказался. Дал денег на такси». После её ухода Маяковский достал из ящика письменного стола револьвер и выстрелил себе в сердце. Полонская услышала выстрел, выходя из парадной двери дома в Лубянском проезде, где жил поэт. «…Я вошла через мгновенье: в комнате ещё стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было крошечное кровавое пятнышко… Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и всё силился приподнять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые…» Говорили, что в барабане «нагана» был всего один патрон. Не похоже ли всё это на игру в «русскую рулетку»?
Последней дневниковой записью другого поэта, итальянца ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ, только что получившего престижнейшую литературную премию Стрега, были слова: «То, чего мы страшимся больше всего на свете, непременно случится… Не нужно бояться. Чем сильнее и чем очевиднее становится боль, тем сильнее заявляет о себе инстинкт самосохранения, и мысль о самоубийстве ослабевает. Мне-то думалось, что самоубийство даётся легко. Вон даже слабые женщины совершают их. Просто нужно сменить гордыню на смирение. Как же меня воротит от всего этого. Хватит слов. За дело. Бросаю писать». Чезаре поставил точку, захлопнул дневник и принял смертельную дозу снотворного. Его неразделённая любовь, мало кому известная американская киноактриса Констанс Даулинг, узнав из некролога о смерти Павезе, сказала: «А я и не знала, что он такой великий писатель».
А вот что написала перед смертью блистательная американская поэтесса СИЛЬВИЯ ПЛАТ, которая впервые опубликовалась в восемь лет: «Уметь умереть – это искусство, такое же искусство, как и всякое другое. Я им владею исключительно хорошо. Я владею им чертовски здорово. Я владею им действительно мастерски. Можно сказать, что у меня есть к этому дар». После чего затворилась на кухне и включила газовую плиту. И оставила на видном месте записку с номером телефона: «Известите моего доктора». Но доктора вызвали слишком поздно. Тонкая, легко ранимая натура, Сильвия не выдержала испытаний одного из самых ошеломляющих и бурных любовных романов нашего времени – с британским поэтом Тедом Хьюсом.
Один из родоначальников самурайского сословия, доблестный МИНАМОТО ЁРИМАСА, не только полководец, но и талантливый поэт, за минуту до харакири написал тушью знаменитое пятистишье:
О чём печалиться
В конце
Сухому пню,
На коем никогда
Не вырастет цветок?
Предсмертную записку марсельского сапожника ШАРЛЯ ШАНГАРНЬЕ, которую тот нацарапал, перед тем как полоснуть себя по горлу сапожным ножом, даже цитировать неприлично. Девяносто четыре слова из 123, написанных в ней, в обществе вслух не произносят и не воспроизводят. Как богат, однако, был словарный запас простого башмачника из Марселя! Ведь говорят же: «Ругается, как сапожник!»
Другой шалун, некий барон РОЗЕНКРАНЦ из Петербурга, оставил после себя такое: «Завещаю своим кредиторам и родственникам: прежде всего хорошенько всмотреться в черты моего лица, чтобы запечатлеть их на долгие времена в своей памяти. Затем взять мои руки и по русскому обычаю положить их крестом на груди, причём большой палец каждой руки вложить между указательным и средним, чтобы получился символический знак отрицания (т. е. кукиш). И то, что будет находиться в моей правой руке, – завещаю своим милым родственникам, а что в левой – моим любезным кредиторам. Чем богаты, тем и рады». И выстрелил себе в голову.
Вот и другой весёлый барон, СЕНТ-ЭЛЕН из Риги, задолжавший английскому банкиру Коллинзу тысячу экю, просил передать ему такую прощальную записку: «Как честный человек, я ничего с собой не забираю, даже долгов, которые оставляю там, где их понаделал…»
Субботним вечером 1 июля 1961 года ЭРНЕСТ МИЛЛЕР ХЕМИНГУЭЙ поужинал с женой Мэри в «Христиании», лучшем ресторане городка Кетчем, в штате Айдахо, неподалёку от лыжного курорта Сан-Вэлли, и в хорошем настроении вернулся домой. Перед сном, уже в ночной голубой пижаме, он долго и тщательно чистил зубы, потом подпел жене весёленький итальянский мотивчик: «Tutti mi chiamano bionda. Ma bionda io non sono» («Все говорят, что я блондинка. Но я и не блондинка вовсе») – «Porto capelli neri» («Я ведь брюнетка») и прошёл к себе в спальню. «Спокойной ночи, мой ягнёночек, – окликнула его на ходу Мэри. – Хороших тебе снов». – «Спокойной ночи, мой котёночек», – в тон ей ответил он, включая ночничок. Голос его был тёплым и дружеским. Ранним воскресным утром, ярким и безоблачным, Хемингуэй в красном «императорском» халате на цыпочках спустился в гостиную. Из шкафа, где хранились охотничьи ружья, он выбрал своё самое любимое, двустволку «босс», с которой поохотился немало в Африке, загнал патроны в оба ствола, осторожно упёр приклад в пол, прижал лоб к стволам и спустил оба курка. «И стоило перед этим чистить зубы?» – удивился один из обывателей. Нобелевский лауреат Хемингуэй не оставил после себя никакой предсмертной записки. Правда, незадолго до случившегося от него слышали такие слова: «Настоящий мужчина не умирает в постели. Настоящий мужчина должен умереть на поле боя, хотя бы даже и с пулей во лбу».
«А я собираюсь в путешествие, – сказал своему ночному гостю любимый писатель русской интеллигенции ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН. – Мечтаю о нём. Это улучшит моё состояние». Они сидели за чаем в плохонькой, тесной и мрачной квартирке Гаршина в большом доходном доме у Сухопутной таможни, под Петербургом. Провожая гостя, писатель вышел с ним на «чёрную» лестницу, крутую и грязную, залитую помоями и нечистотами, и, посветив свечой в широкий пролёт, спросил того: «Неужели вас не тянет туда? А меня…» Когда гость ушёл, Гаршин, теряющий рассудок, гонимый мучительной бессонницей и тоской, спустился на несколько ступенек вниз и, неожиданно бросился вниз с четвёртого этажа. Надломленная воля не смогла остановить рокового шага. Надежда Михайловна Золотилова нашла мужа разбившимся на каменном полу. «Надя, ты не бойся, я ещё жив, – с трудом прошептал Гаршин, не раз, будучи ещё рядовым волонтёром Дунайской армии во время русско-турецкой войны, смотревший смерти в глаза. – Вот только нога…» У постели умирающего писателя в хирургической больнице («поранения, полученные при падении, были очень тяжелы»), старик Герд спросил «русского Гамлета», больно ли ему, страдает ли он. «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь…» – ответил Гаршин, стиснутой рукой указывая на сердце, где ещё краснела еле затянувшаяся ранка от ушиба при падении. И всё повторял: «Так мне и нужно, так мне и нужно…» После чего впал в бессознательное состояние и уже не приходил в себя.
Английский композитор БЕНДЖАМИН БРИТТЕН, умирая у себя в «Красной усадьбе», то и дело спрашивал: «Как это произойдёт?» – «Мы будем с вами и постараемся, чтобы всё прошло как можно легче», – успокаивали его. «Будет ли больно?» – опять спрашивал композитор. «Да нет, никто из нас не хотел бы этого, и больно вам не будет».
Русский поэт АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ, автор «болезненных стихов», частенько говаривал жене: «Ты никогда не увидишь, как я умру». И вот как-то утром он неожиданно пожелал шампанского. На возражения Марьи Петровны, что, мол, доктор этого не позволит, он отослал её к нему: «Ну, отправляйся же, мамочка, за разрешением да возвращайся поскорее». Когда она вышла за порог, он срочно позвал секретаршу: «Пойдёмте, я вам продиктую». – «Письмо?» – «Да нет». И тогда с его слов она написала на листе обыкновенной писчей бумаги: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному. Фет (Шеншин)». Подписав записку, Фет, бывший штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского его величества полка и камергер Высочайшего Двора, взял со стола стальной ножик в виде стилета, которым обычно разрезал бумаги и почту. Встревоженная секретарша, поранив руку, вырвала его у него. Тогда Фет пустился бегом в столовую, схватился за дверцу шифоньерки, где лежали столовые ножи, и попытался открыть её. Но тщетно. Потом вдруг, часто задышав, повалился на стул с ругательством «Чёрт!» Глаза его широко раскрылись, будто он увидел что-то страшное, правая рука поднялась было для крестного знамения и тут же опустилась. «Образчик счастливого русского писателя», Фет умер в полдень 21 ноября 1892 года от разрыва сердца, пребывая в полном сознании. Смерть его как бы была и как бы не была самоубийством. Жена, действительно, не увидела, как он умер.
Когда писатель Михаил Погодин узнал, что АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ МЕРЗЛЯКОВ очень болен, он тотчас же понёсся в Сокольники, где жил известный поэт («Среди долины ровныя…») и переводчик Вергилия, Гомера и Горация. Он застал того уже при смерти. Однако «венчанный поэт Московского университета» узнал своего верного ученика, и между ними произошёл такой разговор: «Я перееду к вам», – сказал эстетику Погодин. «Зачем?» – удивился Алексей Фёдорович. «Махать мух». – «Я знаю, что вы меня любили всегда…» – «Я велю прислать вам тюфяк». Но Мерзляков на это уже ничего не ответил. «Бедный!» – воскликнул Погодин и «плакал горько».
«Не принести ли тебе чаю?» – спросил смертельно больного князя АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОДОЕВСКОГО его товарищ по 44-му Нижегородскому драгунскому полку Загорецкий, такой же ссыльный. «Коля, принеси-ка лучше вина. Шампанского! – попросил его князь и почти неизвестный поэт пушкинского периода. – Шампанского!» Ещё бы! Он как-никак потомок Рюрика, блестящий конногвардеец, краса и цвет русского общества! Как же ему без шампанского! «Вот этого тебе никак нельзя, милый мой», – отказал ему Загорецкий. – «Мне теперь всё можно». Сосланный Николаем I рядовым в Кавказский корпус по делу 14 декабря, князь умирал под жёсткой солдатской шинелью: его свалил зловредный колхидский климат (жёлтая лихорадка, малярия, тиф, цинга?). Он лежал в недостроенной казарме нового форта Лазаревск, на восточном берегу Чёрного моря. Ему несколько раз предлагали выехать в Тифлис, Керчь или Тамань, но он упорно отказывался. Получивший накануне горестное известие о кончине своего отца, он совсем потерял интерес к жизни. И последним его вздохом были слова: «Je reste ici comme victime expiatoire» («Я останусь здесь искупительной жертвой»). Когда прислуга и камердинер, дядька Курицын, отлучились на минуту, у него сделалась горячка. Он немного приподнялся с подушки, чтобы сесть на жёсткой походной койке, вроде больничной постели, и вдруг, опрокинувшись на спину, испустил дух. Когда князь уже лежал на столе, на его лбу вдруг выступила испарина. У всех зародилась надежда. Послали за лекарем. Но, увы… «Умер», – сказал тот. Было три часа пополудни.
Когда жестокий римский император Клавдий приговорил консула Цецину Пета к смерти за участие в заговоре, но позволил ему самому наложить на себя руки, у того долго не хватало мужества лишить себя жизни. Тогда его жена АРРИЯ выхватила у мужа кинжал и, держа его обнажённым в руке, промолвила: «Сделай, Пет, вот так». После чего нанесла себе смертельный удар в живот. Потом, подавая кинжал мужу, произнесла три коротких слова, которыми увековечила себя в истории: «Paete, non dolet» («Пет, возьми, это вовсе не больно»), И тотчас же Пет, устыдившись своего малодушия, последовал за ней – он убил себя тем же кинжалом.
Даровитый и подававший большие надежды, но пропивший свой талант писатель НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ УСПЕНСКИЙ, двоюродный брат известного Глеба Успенского, бродил по московским кабакам, где за стакан вина играл на гармонике, пел нехитрые песенки и веселил публику смешными байками о выдающихся современниках. Потерявший горячо любимую жену и дочку, окончательно спившийся и опустившийся, он однажды заглянул к дальним родственникам с просьбой о деньгах: «Это моя последняя просьба. Хочу умереть смертью Сенеки». Сенеку родственники не знали, к словам Николая Васильевича отнеслись шутя и в просьбе ему отказали: «Мы знаем, деньги вам нужны на водку». Позднее он остановил давнишнего своего приятеля, вышедшего из трактира Сазонова, что возле Смоленского рынка: «Дай мне денег на бритву, чтобы поменьше мучиться», – попросил он его. Но приятель отказал: «Зарежешься и ножиком». И Успенский послушался его и перепилил себе горло тупым перочинным ножом. Труп седого старика в рваном пальто нашёл в 7 часов утра 21 октября 1889 года легковой извозчик возле дома Щенкова в одном из глухих переулков Хамовнической части Москвы. «Это была своевольная, воистину трагическая смерть на тротуаре», – заметила московская газета.
Великий лохматый гитарист-сказочник КУРТ КОБЕЙН выстрелил себе в рот из ружья, вернее, из крупнокалиберной винтовки «ремингтон» 11-ой модели, но предсмертную записку всё же оставил. В ней много сумбура и чуши, написана она двумя разными почерками, и лишь последние слова: «Мир, любовь, наилучшие пожелания… Я ЛЮБЛЮ ВАС, Я ЛЮБЛЮ ВАС», несомненно, принадлежат Кобейну. Многие считают, что Курт не мог выстрелить себе в рот из такой тяжёлой винтовки. Вот Хемингуэй мог и Щёлоков мог, а Кобейн не мог. Смешно! Другие уверены, что он по-прежнему жив и по сей день и наслаждается райским покоем где-нибудь на Таити в компании Элвиса Пресли, Джона Леннона и Мэрилин Монро.
На другой день после Пасхи, вернувшись из караула, девятнадцатилетний поручик Измайловского полка и доморощенный философ ПЁТР ВАСИЛЬЧИКОВ, наскучив собственной жизнью и даже не спустившись к семейному ужину, написал карандашом по-французски, крупно и ровно: «Когда ты – ничто и надежда потеряна, жизнь – позор, а смерть – долг». Потом дрожащей рукой всё же дописал уже по-русски: «Скорее, пора отправляться в путь». Засим взвёл курки пистолета, подвёл его к виску, и тут грохнул выстрел.
Первая жена Маршала Будённого НАДЕЖДА ИВАНОВНА, вернувшаяся домой из театра с весёлой, подгулявшей в ресторане компанией, и сама подшофе, увидела на столике в прихожей пистолет мужа и взяла его в руки: «Смотри, Семён!..» – «Положи! Он заряжен!» – закричал маршал, который в это время снимал сапоги. «А я – боевая, я умею обращаться с оружием», – ответила ему полуграмотная донская казачка, служившая при муже медсестрой в Первой Конной Армии, и, приложив «вальтер» к виску, игриво и театрально воскликнула: «А я сейчас, Семён, застрелюсь!» И ведь застрелилась же! Пистолет действительно был заряжен, заряжен боевыми патронами, и один был уже загнан в ствол.
Популярная французская певица ДАЛИДА (ДАЛИЛА ДЖИЛИОТТИ), по прозвищу Чёрный тюльпан и Чёрная вдова, забралась в огромную свою кровать у себя дома, в шикарном парижском особняке на улице Аршан, 11-бис, написала записку: «Далее жить нестерпимо. Простите меня. Далида», высыпала в рот горсть таблеток снотворного и запила их своим любимым напитком – виски – и была такова.
В посмертной записке ДЖОРДЖА САНДЕРСА, русского по происхождению, уроженца Санкт-Петербурга, который смог воплотить на экране образ английского злодея и законченного грубияна, содержалось обращение к миру: «Дорогой мир, я ухожу, потому что мне скучно. Я чувствую, что прожил вполне достаточно. Я оставляю тебя со всеми твоими заботами в этой сладкой выгребной яме. Всего хорошего!» И выпил пять пузырьков снотворного.
СЕРГЕЙ ЛЕГАТ, замечательный актёр, педагог и балетмейстер, прежде чем покончить с собой, всю ночь бредил и кричал на жену: «Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям. Какой грех будет меньшим, Мария, в глазах Господа: если я убью тебя или себя?» Утром он принял решение и перерезал себе горло. Это случилось вскоре после Кровавого воскресенья, 9 января 1905 года, когда во время всеобщей стачки в Петербурге не вышли на работу даже артисты Императорского Александринского театра. Жена Легата заставила его подписать петицию, в которой руководство театра осуждало зачинщиков забастовки.
«Эй ты!» – игриво крикнул полупьяный товарищ Сталин своей жене НАДЕЖДЕ СЕРГЕЕВНЕ АЛЛИЛУЕВОЙ за праздничным столом в Кремле и бросил в неё скатанный из хлебного мякиша шарик. «Не смей мне „эй тыкать“»! – резко ответила ему Надежда, поднялась и ушла из шумной компании. По дороге домой её нагнала Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, и попробовала успокоить её. «Полина, со мной, правда, всё в порядке, – сказала ей Надежда. – Спасибо». И это были последние услышанные от неё слова. Дома, в спальне, она достала припрятанный на всякий случай маленький дамский пистолет «вальтер» и выстрелила себе в сердце.
«Подожди же, пока я напишу родным своё последнее прости», – попросил величайший оратор древней Греции ДЕМОСФЕН некоего Архия, бывшего комедианта, ставшего наёмным убийцей. Он вытащил из-под тоги навощённую табличку, послюнявил отравленный стилос, словно бы собираясь писать, и ждал действия яда. «Поторопись, поторопись!» – подгонял его ничего не подозревавший Архий. Почувствовав приближение смерти, Демосфен ответил актёру: «Теперь ты смело можешь играть Креона и выбросить мой труп непогребённым». С этими словами он привстал, сделал несколько шагов и со стоном упал. Всё было кончено. (Креон – герой драмы Софокла «Антигона», запретивший хоронить труп убитого Полиника).
«Если бы я знала, я бы повесилась», – сказала перед смертью НИНОН де ЛАНКЛО, первая красавица Парижа и хозяйка самого изысканного интеллектуального салона на улице Турнель. «Но я не знала». Пылкая куртизанка, которая никогда не принимала ни денег, ни подарков от своих бесчисленных любовников, которая считала любовь лишь прихотью тела, которая жила для любви, но не любовью и которая показывала мужчинам рай, но не впускала их туда, она умирала в полном сознании. Говорили, что в свои девяносто лет «царица куртизанок» была столь же хороша и свежа, как и в двадцать семь, когда некий «чёрный человек» предрёк ей вечную красоту и молодость. В последний свой час она позвала нотариуса и приказала ему вписать в подготовленное уже завещание ещё одну строчку – отказать 2000 ливров десятилетнему мальчику Франсуа-Мари Аруэ, в будущем великому Вольтеру. Потом повторила: «Если бы я знала, что это всё так кончится, я бы повесилась. Но я не знала». Улыбнулась и навсегда закрыла синие глаза. Чего она не знала? Что доживёт до столь преклонного возраста?
Свой последний день, 12 декабря 1792 года, ДЕНИС ИВАНОВИЧ ФОНВИЗИН провёл в обществе Ивана Дмитриева, Николая Карамзина и Гаврилы Державина, в доме последнего. Он не вошёл – его почти внесли на себе два юных офицера: великий комедиограф не владел одной рукой, равно и одна нога одеревенела. Но разговор не замешкался. «Знаете ли вы моего „Недоросля“? – вопрошал Фонвизин мэтров российской словесности, полулёжа в больших креслах. – Читали ли „Послание к Шумилову“? „Лизу Казнодейку“? Мой перевод „Похвального слова Марку Аврелию“?.. А как вам нравится „Душенька“ Богдановича? Не правда ли, прелестна? А я привёз показать Державину мою новую комедию „Гофмейстер“». И после чтения отбыл домой, немало собой довольный. «Мы расстались с Фонвизиным в одиннадцать часов вечера, – вспоминал Дмитриев. – А наутро автор „Недоросля“ и „Бригадира“ был уже во гробе!»
УОЛТ УИТМЕН, словами и именем которого открываются «Последние слова», их и закрывает. Прикованный к постели, парализованный, умирающий от старости поэт и грезил поэтическими образами, образами Дикого Запада: «Эти города… они подобны кораблям в море… Орлиный Хвост, Койот, Агат, Кит Карсон… тучные стада и ковбои… с горящими, как у ястреба, глазами… с потемневшими от загара лицами… всегда в седле, скачущие во весь опор… бросивши поводья и болтая в воздухе растопыренными руками…»
И ВСЁ ЖЕ.
Виднейший художник и график Франции ОНОРЕ ДОМЬЕ прогуливался по своему саду в обществе друга Адольфа Жоффруа и доктора Ванье из Иль-Адама, когда с ним приключился удар. Доктор, думая, что умирающий его не слышит, произнёс роковое слово: «Конец». И тут Домье, услышав приговор врача, так сильно и больно стиснул руку Жоффруа: «Какой конец?», что тот потом долго не мог оправиться от этого потрясения. А Домье в одночасье угас в объятиях жены.
Вот и крупнейший французский романтик ЭЖЕН СЮ, «единственный писатель, которого принимали в высшем обществе». «Салонный красавец», светский франт, «ловкий, искусный сказочник», основатель Жокей-Клуба, член Национального собрания, он мог бы кончить жизнь сенатором Империи или свадебным генералом. Но предпочёл отказаться от написания светских романов, обратился в убеждённого либерала и народного писателя. Баловень Великой Французской революции, враг монархии и аристократии, певец парижского «дна», Сю укрылся во время реставрации в Савойе и там писал свой очередной и, как оказалось, последний и лучший роман «Народные тайны». Он вернулся в Париж умереть. И лишь только успел поставить на последней странице рукописи слово:
«КОНЕЦ», – как его поразил удар. Неплохая, в общем-то, смерть.








