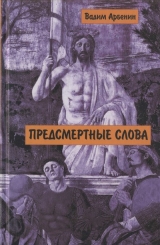
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
Великий писатель и драматург Швеции АВГУСТ СТРИНДБЕРГ, обнимая медицинскую сестру, которую в беспамятстве принял за мать, почти выкрикнул: «Мама! Мама!» – «Господин Стриндберг, да отпустите же меня», – взмолилась та. Он упал на подушки. Рука его свесилась с кушетки. Всё было кончено. Сестра не решилась закрыть ему глаза. На его губах застыла улыбка, чуть ли не детская, словно бы он, четвёртый по счёту, а потому и нежеланный в семье ребёнок, рождённый женщиной, которая нанялась к его богатому родителю простой служанкой, получил отпущение грехов.
«Мама, мама, – шептал напоминающий сказочного эльфа писатель из Нового Орлеана ТРУМЕН КАПОТЕ, автор знаменитой повести „Завтрак у Тиффани“. Весь в слезах, он обнимал Джоан Копленд, которая приютила его у себя дома в Лос-Анджелесе и возместила ему материнскую любовь, которой Капоте никогда не знал. – Я немного устал и очень ослаб… Мне холодно…» Джоан нашла его в восемь часов утра, пытавшегося надеть свои плавки. Он взял её за руку и умолял побыть с ним: «Ещё, хотя бы немного…» Когда Джоан вышла, чтобы приготовить ему чай, он лёг на кровать, принял смертельную дозу барбитуратов, скрестил на груди руки и умер до её прихода.
И блистательный танцор, легенда российского балета РУДОЛЬФ НУРИЕВ, потомок башкирских воинов, умирающий от СПИДа в парижской клинике Нотр-Дам-дю-Перпетюэль Секур, всё спрашивал: «Где мама?» Облачённый в пижаму из чистой шерсти охристых тонов, шерстяной колпак и цветистый шарф, «царь танца», похожий на театрального Петрушку, почти беззвучно шевелил губами, и медицинской сестре пришлось наклониться к нему, чтобы услышать его последние слова: «Где мама? Пусть она разотрёт мне грудь гусиным жиром». Потом он погрузился в беспамятство и, держа за руку танцовщика Шарля Жюдо, тихо и мирно угас без мучений и жалоб в половине четвёртого дня 6 января 1993 года, в канун православного Рождества. Когда гроб, в который Нуриева положили в алой мусульманской чалме, опускали в могилу на русском участке кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, его друзья, танцовщики и балерины, бросали на крышку балетные туфли и белые розы. Могилу «мятежника из Уфы» накрыли персидским ковром.
«Мамочка, возьми меня к себе, – жалобно повторял английский романист и драматург УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ, прижимаясь лбом к стеклянной рамке фотографии своей матери. – Мамочка, возьми меня!» И по морщинистому лицу девяностооднолетнего долгожителя градом катились слёзы. Он умер в рабочем кабинете на собственной вилле «Мореск», что на Французской Ривьере. Есть и другая, правда, версия происшедшего. Как-то утром Алан Серл, якобы компаньон, якобы секретарь, а на самом деле сердечный друг Моэма, нашёл того лежащим на ковре возле камина с разбитой головой. Когда он приподнял его, Моэм, полагая, что только что приехал из какого-то долгого путешествия, сказал: «Ну же, Алан, где вы были? Я ищу вас уже два с половиной года! Нам нужно о многом поговорить. Я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали, и сказать вам: „Прощайте!“» И провалился в кому. Серл отвёз Моэма в Ниццу и поместил в Англо-Американский госпиталь, где писатель и умер спустя час после поступления, пробормотав напоследок: «Пора опускать ставни и закрывать лавочку». Доктор Розанов, нарушив французский закон, требующий обязательного вскрытия тела, разрешил Алану Серлу забрать тело, и на следующий день было объявлено: «Сомерсет Моэм скончался во сне в своей спальне на вилле „Мореск“ на Лазурном берегу».
«О! Моя мать!» – кричал КАРЛ ДЕВЯТЫЙ, поднимаясь на красных от крови простынях, страшный как никогда. Несколько дней назад мать его, Екатерина Медичи, сорвала короля с дворцового ложа и увезла в Венсеннский лес, в крепость, способную выдержать штурм мятежников-гугенотов. Король-неулыба богохульствовал и стонал: «Они дадут мне умереть спокойно? О, сколько крови пролито! Сколько убито! Великий боже, прости меня, прости меня!» По свидетельству протестантов, он исходил кровавым потом. По свидетельству католиков, пот его был ядовитым. Возможно, правы были и те, и другие. «Это кровь гугенотов, пролитая тобою в Варфоломеевскую ночь, требует теперь твоей крови», – твердила королю его кормилица, добрая гугенотка Мадлон, простая крестьянка. Она принесла ему питьё. Карл позвал: «Кормилица!» – «Что тебе, Шарло?» – «Пока я спал, что-то произошло во мне: я вижу яркий свет! Господи! Забудь, что я был королём, – ведь я иду к Тебе без скипетра и без короны!.. Господи! Забудь преступления короля и помни только мои страдания как человека… Господи! Вот – я!..» Командир его охраны де Нансе вышел из королевской опочивальни на балкон, сломал пополам деревянный жезл и три раза крикнул в толпу: «Король Карл Девятый умер! Король Карл Девятый умер! Король Карл Девятый умер!» И выпустил из рук обе половинки жезла.
«Титус, сын мой, – говорил перед смертью величайший из мастеров фламандской школы живописи РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ван РЕЙН. – Я всегда боялся за тебя. Я нежил твою головку у себя в ладонях, словно бы свою любовь в пелёнках». Это были первые за последние месяцы слова, сказанные художником: после того как скоротечная чахотка унесла его единственного сына, он перестал разговаривать. И первые слова оказались последними. Трижды вдовый, потерявший трёх детей, преданный учениками и впавший в детство старик, продавший за долги дом и коллекцию своих лучших полотен, он всё писал и писал свой автопортрет. Наконец кисть выпала из рук его. Картина готова. Теперь пусть приходят. Он так устал. В кровать… Слеза скатилась по щеке. В старом драном халате, заляпанном красками, Рембрандт натянул на себя одеяло и тепло укутался. Дочь Корнелия, на ночь глядя заглянувшая в его захламлённую мастерскую на Розенграхте, беднейшем квартале Амстердама, услышала: «Саския… Прости меня за всё… Жизнь моя кончена… Я больше не в силах работать, не в силах молиться… Позови меня, и я приду… Здесь мрак, глубокая тьма. Саския! Саския! Саския!» И это великий живописец Голландии, картины которого украшают дворец наместника! И ещё: «Магдалена… Хендрикье… Саския… Саския… Саския!» Рембрандт медленно поднял правую руку и поднёс её близко к глазам, словно бы рассматривая что-то странное, чего он не видел ещё никогда до этого. «И Якова оставили одного…», – едва слышно прошептали его губы, а морщинистые скрюченные пальцы, все в пятнах от чернил и красок, упали на грудь. «Благодарение Богу! Наконец-то он уснул», – воскликнула старая служанка Ребекка Виллемс. Корнелия взяла её за руку и отвела в сторону: «Благодарение Богу! Он умер». Рембрандт умер с открытыми глазами и улыбкой на устах, среди ещё не распроданных с молотка за долги полотен. Смерть «блудного сына» фламандской школы живописи осталась почти никем не замеченной.
За мольбертом умер и ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРАМСКОЙ, работая над «нелюбимым портретом» доктора Райхфуса. Без умолку вёл он с ним оживлённый разговор о своей дочке, в которой разглядел божий дар: «Девочка, а так сильна, как будто уже мастер. Подумаю иногда, да и станет страшно, ну, а как это пустоцвет? А если это и в самом деле талант, то опять личная жизнь грозит превратиться в трагедию. Ведь это женщина!» И за этой беседой незаметно и виртуозно вырисовывалась характерная голова доктора. И тут Райхфус заметил, что художник остановил свой взгляд на нём дольше обыкновенного, потом покачнулся и упал прямо на лежащую перед ним на полу палитру; едва доктор успел подхватить его – уже тело.
Когда Поль Валери навестил ЭДГАРА ДЕГА на его новой квартире, то застал больного бронхитом художника в постели. Квартира в большом шестиэтажном доме на бульваре Батиньоль была крайне запущена и захламлена, и повёрнутые к стене незаконченные рисунки и холсты составляли печальную ей декорацию. Усталость и бесконечное безразличие затопили ум старого, почти слепого мастера, воспевшего мир балетных танцовщиц и скаковых лошадей, и погасили все его желания. Знаменитый, но вовсе равнодушный к своей славе «Гомер с пустыми глазами» проводил последние дни в бесконечных прогулках по Парижу. А здесь, на бульваре Батиньоль, одна из племянниц больного в какой-то момент подошла к его кровати и поправила ему подушку рукой в коротком лёгком рукаве. Вдруг Дега с неожиданной силой схватил эту руку обеими своими руками, повернул её прямо к свету, который лился из окна, и долго смотрел на неё с сосредоточенным вниманием. Сколько женских рук, равно как и ног, перевидел и пристально изучил в своей мастерской и за кулисами театров певец ночного Парижа и «любитель грязного белья»! «Пусть они скажут потом: „Он любил рисовать“», – прошептал художник, ни к кому, собственно, не обращаясь. И умер среди своих рисунков, пастелей и холстов, отрешившись от всего мира, в полном безразличии и полной бедности.
Баловень судьбы и любимец женщин, ненавидимый за это многими мужьями, тридцатичетырехлетний итальянский композитор ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ, подкошенный холерой, неожиданно вскочил со смертного одра и бросился к двери. Доктор Монталлегри попытался было остановить «Катанского лебедя» и вернуть его в постель, но Беллини, указывая на дверь, закричал: «Разве вы не видите, что приехала вся моя семья? Вот мой отец, вот моя мать…» И стал называть по именам всех своих родственников. Понятно, что в дверях никого не было. Началась агония, сопровождаемая бредом. Небо над Парижем в это время заволокло чёрными тучами, и сильный ветер гнал на город грозу. Раздались глухие раскаты грома, засверкали молнии. Вскоре поднялся чудовищный ураган. В пять часов дня он достиг максимальной силы. И в этот самый момент автор «Сомнамбулы», «Нормы» и «Пуритан» скончался. За четыре дня до его кончины Генрих Гейне сказал ему за партией в биллиард: «Громадный гений ваш сулит вам короткую жизнь, вы умрёте очень молодым, очень молодым, как Рафаэль, Моцарт, Христос…» A после смерти с улыбкой заметил: «Ведь я же его предупреждал!»
Утром 24 марта 1905 года французский писатель-фантаст ЖЮЛЬ ВЕРН попросил всех родных и близких собраться у него в доме № 44 на бульваре Лонгвилль в Амьене и устроил им форменную перекличку: «Онорина, Мишель, Валентина, Сюзанна, Жюль, здесь ли вы?» И каждый из поднявшихся в его по-спартански обставленный кабинет-башенку на втором этаже рапортовал по очереди кавалеру ордена Почётного легиона: «Да, здесь». – «Какое счастье! – воскликнул Верн. – Прощайте… Теперь я могу… – Он не хотел сказать „умереть“ или „уйти“. – Теперь я могу… – Улыбнулся и закончил: – Уехать». А заглянувшему к нему священнику сказал: «Хорошо, что пришли, вы меня словно возродили». Затем повернулся лицом к стене, стоически ожидая смерти. Живой, остроумный, завзятый театрал и завсегдатай Больших Бульваров, парижанин до мозга костей, Жюль Верн умирал, почти незрячий и частично парализованный выстрелом своего племянника. Умирал, вытянувшись на узкой походной кровати, возле которой лежал старый, облезлый ньюфаундленд Фолле. Неожиданно веки больного дрогнули и приоткрылись, и «старый литературный волк и капитан», повернувшись, окликнул жену: «Онорина, почитай мне что-нибудь из моих книг. Что-нибудь по твоему выбору, наугад, на любой странице, где раскроется. Или лучше дай мне, пожалуйста, первое издание моей книги „Двадцать тысяч лье под водой“», но руки его уже не слушались. Книга упала. Наступило молчание. Через минуту глаза Жюля Верна закрылись, чтобы никогда больше не открыться. Его сразил смертельный приступ диабета. Часы пробили восемь часов. Верный слуга растворил окно и сказал притихшей толпе, заполнившей бульвар и площадку перед домом: «Жюль Верн умер!»
И писатель МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ, который в секретном списке ОГПУ значился под № 7, попросил жену подать ему в постель роман «Мастер и Маргарита». Сначала Елена Сергеевна никак не могла понять бессвязных слов мужа и всё переспрашивала: «Что тебе дать? Лекарство? Воды? Лимонный сок?» Наконец до неё дошло: «Мастер и Маргарита»? Он обрадовано закивал головой и вдруг внятно произнёс: «Чтобы знали, чтобы знали…» И добавил через мгновение: «Ты для меня всё… Ты мне заменяешь весь мир… Я люблю тебя, я обожаю тебя! Любовь моя, моя жена, жизнь моя! Вчера я видел сон: мы с тобой на земном шаре…» Потом что-то бормотал о врачах: «Измучен… отдохнуть бы… тяжело… болит… неужели ты не можешь?.. неужели вы не можете?.. сочинение… немцы… немцы…» И много-много раз повторял слово «мама» с разными интонациями. Последним его словом было «свет!..» Зажгли лампу. Лицо приняло спокойное и величественное выражение. В глазах было изумление, они налились необычным светом. «16.39. Миша умер». И тут в притихшей квартире затрезвонил телефон: «Говорят из секретариата товарища Сталина. Правда, что умер товарищ Булгаков?» – «Да, он умер». И телефонную трубку в секретариате товарища Сталина сразу же бросили.
«Не занимайте телефон», – сказала в трубку несравненная греческая оперная дива МАРИЯ КАЛЛАС, от редчайшего голоса неземной красоты которой у театралов по коже пробегали мурашки. Примадонна, которую называли «королевой оперы» и «тигрицей» из-за её пламенного и бурного темперамента, потеряла голос, божественное сопрано, а потом интерес и к опере, и к жизни. Последние годы она жила в полном одиночестве, простой мещанкой, затворницей, без детей, без мужа, без голоса в своей огромной парижской квартире на авеню Жоржа Манделя и лишь изредка принимала гостей. И беспрестанно, в безграничной тоске, как в трансе, слушала свои старые записи. «Не занимайте телефон», – еще раз сказала Каллас своему другу и биографу Роберту Сазерлэнду и повесила трубку. В час дня она всё ещё лежала в постели, потому что ей нечем было занять себя. Потом поднялась и направилась в отделанную мрамором и золотом ванную комнату. Но, сделав несколько шагов, упала, как подкошенная, – её свалил сердечный приступ. Бруна, горничная и подруга певицы, и шофёр-фельдшер Ферручио, постоянный партнёр по игре в карты, подняли её и отнесли в спальню. «Я чувствую себя лучше…» – ещё успела выдавить из себя она. Последние слова… Последний вздох… Когда выносили гроб певицы, поклонники и поклонницы на всём пути траурного кортежа аплодировали и скандировали «Браво!»
Французский поэт-песенник ПЬЕР-ЖАН БЕРАНЖЕ, «певец Наполеона», скончался рано утром в грозу. Она собиралась с ночи, на улице и в комнате больного стояла нестерпимая жара. Во дворе его дома на улице Вандом в Париже толпились почитатели, в комнатах – ближайшие друзья. Беранже сидел в большом кресле посреди комнаты, дыхание его было медленным, изнурительный пот выступил на лбу. «Знаете, как я называю вас, Беранже? – спросил его Тьер. – Я называю вас французским Горацием». – «Что-то скажет на это Гораций римский!» – с вымученной улыбкой ответил ему Беранже. Взгляд его стал блуждающим и бессознательным. Доктор Труссо пощупал у него пульс и объявил, что он замедляется и конец, скорее всего, близок. «Беранже, – сказал поэту Минье, – мы увидимся с вами на небе». – «Да, так говорят, – ответил ему тот, – и я надеюсь». «Человек-нация», как прозвали его в народе, умирал в полузабытьи. Откуда-то издали доносились голоса друзей и как будто слышались голоса тех, кто уже ушёл… Какие-то кюре склонялись над ним… В 35 минут пятого 16 июля 1857 года, после долгих предсмертных мучений, поэт успокоился навеки. И гроза над Парижем наконец-то разразилась. Хоронили Беранже согласно его воле: «Что касается похорон, если можете избегнуть шума, сделайте это…» Избегнуть шума, правда, не удалось: народ на всём пути траурной процессии кричал: «Слава! Слава Беранже!»
«Софи, не умирай… ты обязана жить… ради наших детей», – шептал наследник австро-венгерской монархии, эрцгерцог ФРАНЦ-ФЕРДИНАНД фон ЭСТЕ, сражённый пулей чахоточного сербского гимназиста Гаврилы Принципа из конспиративной группы «Млада Босна». Эти слова были сказаны им гражданской жене, чешской графине Софье Хотек, тоже умирающей от двух пулевых ранений в брюшную полость. Она повалилась на колени мужа, обнимая его. Изо рта эрцгерцога хлынула кровь, и оба они застыли в объятиях друг друга на заднем сидении машины. «Он осуждён умереть на ступенях трона», – давно предсказывали наследнику, и не только его враги. Что, собственно, и случилось в полдень 28 июня 1914 года, в день святого Витта, в годовщину поражения сербов и боснийцев от турок на печальном Косовом поле. Случилось это в Сараеве, столице Боснии, на перекрёстке улиц Франца-Иосифа и Рудольфа. Через месяц с небольшим после этих роковых выстрелов разразилась Первая мировая война. Впечатанные в асфальт трагические следы ступней девятнадцатилетнего Гаврилы Принципа, родом из Грахова, остаются на тротуаре набережной реки Аппель и по сей день.
Попросил о детях – кстати, многочисленных и всех незаконнорождённых – и весёлый монарх Англии и Шотландии КАРЛ ВТОРОЙ СТЮАРТ, сын казнённого короля Карла Первого: «Оставляю их на твоё нежное попечение, Иаков, – сказал он брату, наследнику престола. – Кроме Монмута, конечно. Ему уже нельзя помочь». И о бесчисленных любовницах из своего гарема король-шалун не забыл: «Не оставьте вниманием Луизу де Керуалль… Не дайте бедняге Нелли Гвин помереть с голоду…» Потом взглянул на печальные лица своих подданных и сказал: «Я очень сожалею, джентльмены, что мне приходится умирать в такое неподходящее время». Распростёртый на постели, несгибаемый и непреклонный, король-протестант, но в глубине своего сердца католик, он принял первое и последнее в своей жизни причастие. «Когда-то ты спас моё тело, теперь спасаешь душу», – сказал он иезуитскому патеру Галстону, тайно приведённому к нему переодетым в платье слуги. Так, не поднимаясь со смертного одра, перешёл Карл из протестантской веры в веру Римской церкви. На всякий случай. Потом велел раздвинуть шторы и распахнуть окна, чтобы увидеть последний в своей жизни невесёлый рассвет. Ему передали просьбу жены Екатерины, королевы-католички, простить её за всё зло, когда-либо причинённое ему. «Увы, бедная женщина, – пробормотал Карл. – Она просит моего прощения?! Это я всем сердцем умоляю её о прощении, передайте ей этот ответ. Я всегда её любил и умираю, любя её». После чего король, позорно равнодушный к интересам родины, впал в кому, дыхание его стало громким, прерывистым, и в полдень он отдал Богу душу.
«Элис! Элис!» – взывал к своей возлюбленной английский король-денди ЭДУАРД СЕДЬМОЙ, да так страстно, что законной его супруге, Александре, ничего уж и не оставалось, как, смирив гордыню и поправ приличия, призвать свою соперницу, миссис Элис Кеппел, к своему мужу. И та услышала его последние слова: «Ну, уж нет, я не дамся. Я ещё выкарабкаюсь. Я буду держаться до самого конца». И, действительно, этот толстомясый чревоугодник, легкомысленный жуир, игрок, мот и кутила, умирающий от злоупотребления великолепной французской кухней, завсегдатай парижских Бульваров, либеральный покровитель наук и искусств, вдохновенный спортсмен и душа общества, держался молодцом. До самого почти конца, даже после нескольких сердечных приступов, он отказывался лечь в ненавистную ему постель (хотя по части шалостей в ней «весёлый король» был непревзойдённым мастером!) и всё время проводил в кресле, всегда одетый. И день 6 мая 1910 года – это была пятница – начинался для монарха совсем неплохо. После плотного завтрака он переоделся в сюртук (по части костюма «король, которому нравилось быть королём», был крайне щепетилен), выкурил отличную гаванскую сигару и возле открытого окна наслаждался пением двух домашних канареек. И вдруг упал. Его подняли, перенесли в кресло, и пять врачей сошлись во мнении, что его дела совсем плохи. А король всё повторял: «Я должен с этим справиться!» Последним из прощавшихся с ним был принц Уэльский, будущий король Георг Пятый, с хорошей новостью: «Отец, твоя лошадка Чародейка выиграла скачки кобыл-двухлеток в Кемптон-парке, обойдя соперницу на полкорпуса». – «Я очень рад», – ответил ему Эдуард, после чего впал в кому и незадолго до полуночи спокойно почил. На флагштоке приспустили королевский штандарт. Днём ранее Эдуард, 52-ой по счёту король Англии, оставил в своём дневнике последнюю запись: «5 мая 1910 года. Король обедает один». «Старого доброго Берти, первого любезного монарха со времён Карла Второго», провожала вся страна. Любимый терьер Эдуарда Цезарь плёлся сразу же за катафалком.
Русский гений ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ тоже поминал перед смертью имя женщины, правда, всуе. «Надежда!.. Надежда!.. Надежда!.. Проклятая!..» – несколько раз в слезах прокричал он это имя. Великий композитор в бреду сводил счёты со своим ангелом-хранителем и щедрой покровительницей баронессой Надеждой Филаретовной фон Мекк, которая горячо любила и материально поддерживала его и пережила которого только на три месяца. Чайковский гневно упрекал её, рыдал и выговаривал ей. «Надежда Филаретовна… Надежда Филаретовна…» – затихало его бормотание. Потом глаза его закатились. Неподвижное лицо стало таким, каким его однажды видел Рахманинов, – без маски. Однажды – никто не знает почему – фон Мекк неожиданно порвала с ним все отношения (неизменно платонические), которые продолжались четырнадцать лет. Да, она, вдова крупного концессионера российских железных дорог, была умна, даже чересчур умна для женщины. И весьма эксцентрична. Повсюду возила за собой огромный штат прислуги. Во всяком городе снимала лучшую гостиницу, выдворяя из неё всех остальных постояльцев. И тогда слуги увешивали стены её номера фамильными иконами, расставляли самовары и раскладывали на стульях охапки душистых трав – баронесса маялась трёхдневными мигренями… Однако вернёмся к Чайковскому. Бытуют две версии смерти автора балета «Лебединое озеро» и «Патетической» симфонии, почитаемой за реквием. По первой, он пригласил своих братьев и племянников сначала в театр, на комедию Островского «Горячее сердце», а потом в ресторан Лейнера на Малой Морской улице откушать макарон под белое «шабли». И там, после второй смены блюд, он попросил у пробегавшего мимо официанта стакан воды из-под крана – и это в холерный-то год! – и несмотря на попытки брата Модеста отговорить его, выпил её («Я не верю в холеру!»), заразился, слёг («Так вот она, холера!») и спустя несколько дней скончался. По другой, более пикантной версии, негласный суд чести, составленный из выпускников Петербургского императорского училища правоведения, которое закончил и сам Чайковский, приговорил его к смертной казни за порочащую самого композитора и училище фривольную связь с одним из отпрысков монаршей фамилии. И великий композитор якобы вынужден был принять мышьяк. Но скорее, он всё же умер потому, что хотел умереть. Так или иначе, неожиданная смерть Чайковского носила в себе какую-то трагическую таинственность и недоговорённость. Траурная колонна растянулась от Казанского собора на несколько вёрст и, говорят, лишь несколько уступала похоронной процессии Достоевского.
Смертельно раненный на дуэли АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН с ложа любви, ставшего ложем страданий, отпустил грехи красавице жене Наталье Николаевне Гончаровой: «Как я счастлив! Я ещё жив, и ты возле меня! Будь покойна. Ты ни в чём не виновата. Я знаю, что ты была мне верна. Не упрекай себя моею смертью». Поэт так и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна. «Бедная жена! Бедная жена!..» – выкрикивал он, когда мучительная боль вырывала крики из его груди. На пистолетном поединке на Чёрной речке у Комендантской дачи пуля поручика-кавалергарда Жоржа Дантеса пробила поэту нижнюю часть живота, вызвав обильное кровотечение. Он упал, потом приподнялся и сказал по-французски: «Бой не кончен, стойте, милостивый государь, смирно». И выстрелил. Дантес, раненный в руку, тоже упал. Пушкин, улыбаясь, спросил секунданта Данзаса: «Он умер?» – «Нет!» – «Жаль!» – проговорил Пушкин. Лейб-медик Николай Фёдорович Арендт, побывавший до этого в тридцати сражениях и видевший сотни умирающих от ран, счёл его мужество беспримерным. Когда поэту доставили письмо от Николая Первого и доктор прочитал его, Пушкин поцеловал листок и долго не выпускал его, потом поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен!» – воскликнул он, а потом всё просил: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! Где письмо?» Отправляясь на приём к царю, Арендт спросил Пушкина: «Скажи, что мне сказать ему от тебя?» – «Скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его!.. Жду царского слова, чтобы умереть спокойно». До последнего вздоха он оставался в совершенной памяти. Несколько раз подал руку Владимиру Далю, сжимал её и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдём, да выше, выше, ну, пойдём». Приоткрыл глаза: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко – и голова закружилась…» Немного погодя он опять, не открывая глаз, стал искать руку Даля и, протянув её, сказал: «Ну, пойдём же, пожалуйста, да вместе!» Потом попросил: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки и приникла лицом к челу его. Пушкин погладил её по голове и сказал: «Ну-ну, ничего; слава Богу; всё хорошо! Поди». Но она осталась при нём и всё повторяла: «Tu vivras! (Ты будешь жить)». Он пощупал у себя пульс и сказал: «Вот смерть идёт… В котором часу я должен умереть, доктор?» И вдруг, будто бы проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь… Жизнь кончена!.. Тяжело дышать, давит!..» Он скончался так тихо, что окружающие его ложе люди не заметили смерти его. Петербургская газета «Северная пчела» сообщала: «Сегодня, 29 января 1837 года, в третьем часу пополудни, Александр Сергеевич Пушкин… оставил юдольную сию обитель. Пушкин положен в гроб, одетый в любимый его тёмно-кофейный сюртук, а не в мундир». В ненавистный ему мундир камер-юнкера.
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА через семь лет вдовства вышла замуж за генерал-майора Петра Петровича Ланского, командира лейб-гвардии Конного полка. (Как-то Пушкин признавался: «Бог мне свидетель, что я готов умереть за неё; но умереть, чтобы оставить её блистательною вдовою, свободною в выборе на завтра же другого мужа…»). Брак «блистательной вдовы» с гвардейским генералом оказался на редкость счастливым и очень прочным. Но на двадцатом году замужества Наталья Николаевна Ланская неожиданно простудилась и тихо угасла от воспаления лёгких. К постели умирающей срочно собрались все дети. Мучительная агония продолжалась трое суток, больная задыхалась, теряла сознание и в бреду всё повторяла: «Пушкин, Пушкин, ты жив…» Когда приходила в себя, просила: «Почитайте мне Евангелие…» В ночь на 26 ноября 1863 года она благословила детей и впала в тихое забытьё. В знаменитом донжуанском списке Пушкина Наталья Николаевна, тогда ещё Натали Гончарова, «первая романтическая красавица света», была его «сто тринадцатая любовь».
О последних словах дяди поэта, известного в своё время писателя ВАСИЛИЯ ЛЬВОВИЧА ПУШКИНА, рассказал в письме к одному своему приятелю сам Пушкин: «Бедный дядя Василий! Знаешь ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи; очнувшись, он узнал меня; погоревал, потом, помолчав: „Как скучны статьи Катенина!“ (Он читал их в „Литературной газете“.) И более ни слова. Каково! Вот что значит умереть честным воином на щите, le cri de guerre à la bouche. Я вышел на цыпочках из комнаты, сказав шёпотом окружающим: „Господа, пойдёмте; пусть это будут последние его слова“». Другие передавали дело иначе: будто бы почтеннейший Василий Львович, уже при смерти, дотащился через силу с постели до одного из своих книжных шкапов, достал песни любимца своего Беранже, перебрался на диван залы и здесь, с дорогой книжкой в руках, испустил последний вздох.
Герцог БЕРРИЙСКИЙ после окончания новой итальянской оперы провожал юную свою жену, Марию-Каролину-Фердинанду, к её экипажу и быстро вернулся к театру, где его ожидала знакомая танцовщица. У самых дверей Grand Opéra к нему быстро подошёл неизвестный, задел принца плечом и побежал дальше. Герцог, вероятный претендент на французскую корону, зашатался и упал на землю на глазах ошеломлённой свиты. Это купеческий сын, мастер-седельщик Пьер Луи Лувель ударил его в правый бок охотничьим ножом. «Этот человек убил меня! – воскликнул герцог. – Я умираю. Он поразил меня кинжалом!» Герцогиня Беррийская тотчас же бросилась к мужу, но он остановил её словами: «Бедная Каролина! Какое для тебя зрелище!» И, обращаясь к окружающим, прибавил: «Поберегите её, она беременна». (Действительно, герцогиня была беременна, но от другого мужчины – герцога Бордо.) Рана оказалась смертельной, и в пять часов утра 13 февраля 1820 года герцог, произнеся едва слышно: «Задыхаюсь… Задыхаюсь… Воздуху… Воздуху… Бедная Франция!.. Несчастное отечество!..» скончался на раскладной кровати в одной из комнат театральной администрации Grand Opéra.
«Поезжайте шагом!» – приказал кучеру президент Французской Республики МАРИ-ФРАНСУА-СААДИ КАРНО, проезжая через густую толпу жителей Лиона, горячо приветствовавших его. После чего удалил скакавший подле его коляски эскорт, сказав: «Пустите ко мне добрый народ, я хочу всем им пожать руки», и с этими словами протянул свою честную руку доброму поселянину из толпы. Но тот почему-то не захотел ответить на рукопожатие первого гражданина Франции, а вместо этого неожиданно ударил его кинжалом в грудь. Убийцей стал некто Казерио из Милана, который «хотел поразить тирана». Последним возгласом Карно, дышавшим семейной привязанностью, был: «Помните о моих…»
Лучший рисовальщик своего времени ЖАН-ОГЮСТ-ДОМИНИК ЭНГР, автор таких эстетских полотен, как «Турецкая баня», «Источник» и «Большая одалиска», галантно провожал дам до их экипажей после музыкального вечера у себя дома, на Набережной Вольтера, № 11. На замечание одной из них «Надели бы что-нибудь тёплое, мэтр, и поберегли себя» подвижный и неутомимый художник, страстный поклонник красоты, чья доброта вошла в поговорку, ответил: «Энгр будет жить и умрёт слугой дам». Однако его сильно продуло на резком январском ветру, в ночь у него поднялась температура, началась тяжёлая пневмония, и он скончался на восемьдесят седьмом году жизни в обнимку со своей любимой скрипкой. Не старческие болезни и медленное угасание, а простая неосторожность привела его, командора ордена Почётного легиона, к кончине.
А лорд ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН, всю жизнь не перестававший мстить женщинам за надругательство над ним (он был совращён своей няней в девятилетнем возрасте), за обиду, ему нанесённую (он пожелал спать одновременно с женой и своей сводной сестрой Августой, но в этом ему было последней отказано), и за любовную измену (его рыжеволосая возлюбленная, знаменитая семнадцатилетняя красавица Тереза, время от времени «сбегала» от него к своему шестидесятилетнему мужу, графу Гвиччиоли), всё же простил их перед смертью. И на смертном одре «британский Дон Жуан» говорил о Терезе: «Я оставляю в этом мире нечто дорогое. Я отдал ей своё время, средства, здоровье, – мог ли я сделать больше? Теперь отдаю ей жизнь». Но потом у него вдруг вырвалось: «Августа…» (имя сестры) и «Ада…» (имя дочери). Вокруг его постели стояли старые друзья, верный слуга Флетчер, личный гондольер венецианец Сильвио и обожавший поэта граф Гамба, и все горько плакали. Заметив их слёзы, Байрон воскликнул: «Какая прекрасная сцена!..» Вскоре после этого у него начался предсмертный лихорадочный бред наполовину на английском языке, наполовину на итальянском: «Вперёд, вперёд, смелее за мной!.. Бедная Греция… бедный город… бедные слуги мои… зачем я не знал этого раньше?.. Мой час настал, – я не боюсь смерти, но почему я не отправился домой раньше, чем поехал сюда?.. Есть вещи, для которых мне хотелось бы жить, но, вообще, я готов умереть…» Около 6 часов вечера он произнёс последние слова: «Ну, я пошёл спать. Спокойной ночи», повернулся к стене и погрузился в дремоту, которая перешла в сон, от которого никто не пробуждается. Всё было кончено. На дворе стояло светлое воскресенье Пасхи, 19 апреля 1824 года. Греция салютовала памяти своего почётного гражданина 37-ю артиллерийскими залпами – по залпу за каждый год, прожитый им на земле. Сердце и лёгкие поэта, как бы вместилище его духа, были захоронены в греческой земле, а тело с воинскими почестями отправлено на фрегате «Флорида» в Англию, где власти отказались упокоить прах «безбожника и волокиты» в «уголке поэтов» Вестминстерского аббатства. Ни один поэт не кончил своей жизни столь героически, ни один герой – столь поэтически, как Байрон.








