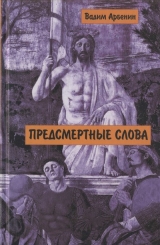
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Хорошо подвыпив на дружеской пирушке в ресторане, ГАРОЛЬД ТЭМП, преподаватель ораторского искусства, решил съехать по перилам лестницы, вместо того чтобы обычным, известным всем способом спуститься по ней. Перила, изящные, но ветхие и непрочные, на втором повороте обломились, и Тэмп с радостным криком «Дорогу мне, ребята!» сверзнулся в пролёт лестницы, у подножья которой и свернул себе шею.
«Моя дорога… Её построил консул Аппий из камней, которые идут на жернова…» Этими словами «одинокий путник» АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ несказанно удивил домочадцев академика Михаила Боткина, у которого квартировал живописец. Он только что вернулся из Царского Села, где неудачно торговал своё знаменитое полотно «Явление Христа народу». В Финском заливе, на палубе корабля, по пути из Петергофа в Петербург, он почувствовал себя дурно – у него случился ещё один холерический припадок, – и ему едва хватило сил добраться до дома, где он тотчас же принялся упаковывать вещи. «В Рим!» – объявил он хозяину дома. Вызвали врача, лейб-медика Тарасова, и ещё одного немецкого доктора медицины, фамилии которого история нам не сохранила. Иванов поднялся с дивана, но не удержался на ногах и упал боком на паркет. «Это конец?» – спросил он, и сам же себе ответил: «Конец. Но ведь я…» Врачи только развели руками. Через несколько часов после смерти Иванова в дом Боткина явился курьер с пакетом из Придворной конторы с уведомлением о том, что император Александр Второй жалует художнику пятнадцать тысяч рублей за картину «Явление Христа народу» и орден Святого Владимира в петлицу, то есть 4-ой степени.
Французский романист ГЮСТАВ ФЛОБЕР рано утром в субботу, 8 мая 1880 года, принял очень горячую ванну и поднялся к себе в кабинет, где неожиданно почувствовал себя плохо. В лицо бросилась кровь. «Отшельник из Круассе» жил холостяком, он позвал служанку Сюзанну и попросил её сходить за доктором Фортеном. «Боюсь упасть в обморок, – добавил он. – Хорошо, если это случится со мной сегодня. Завтра по дороге в Париж было бы совсем некстати». Затем раздумал, велел ей остаться и поговорить с ним. «Вы знаете, я всё вокруг вижу в жёлто-золотистом свете. Я устал до мозга костей», – пожаловался он девушке. Потом принёс из соседней комнаты флакон с одеколоном и похвастал: «У меня ещё достаёт сил раскупорить его». Он протёр себе виски, сел на широкий турецкий диван, занимавший весь угол кабинета, и вдруг, сказав: «Тень обнимает меня…», откинулся назад. Изо рта его вырывались непонятные слова: «Руан… Мы недалеко от Руана… Эйло, пойдите… найдите улицу… я её знаю…» Может быть, он имел в виду авеню д’Эйло, куда собирался перебраться Виктор Гюго. А может быть, хотел позвать на помощь доктора Эло, врача руанской больницы. Мгновение спустя он потерял сознание. Доктора Фортена в Круассе не оказалось, и срочно послали в Руан за доктором Турне. Но тот приехал слишком поздно. Флобер был уже недвижим. Он был мёртв. Смерть взяла его за руку и повела к новым сюжетам ещё более великих романов. «Прекрасная смерть, внезапная, – заметил по этому поводу его друг, писатель Эмиль Золя. – Такой можно только позавидовать, я желал бы себе и всем тем, кого люблю, этой гибели…» «…Его убила литература, как всех великих и ревностных людей пожирает их страсть», – отозвался на смерть романиста Ги де Мопассан.
«Неужели никто не понимает?» – вопросил из постели в своей неуютной квартире великий писатель-авангардист ДЖЕЙМС ДЖОЙС, «ирландский Данте» и «ирландский Бен Джонсон» одновременно. Несомненно, он имел в виду свой нашумевший и печально известный роман-шифр «Улисс», который не только невозможно понять без помощи литературоведов, но и прочитать-то далеко не каждому дано. Умер Джойс не в своём родном Дублине, а в далёком Цюрихе, умер отшельником в своей неуютной нетопленой квартире. Его жена Нора Барнакль не позволила католическому священнику отслужить заупокойную мессу по мужу. А на могилу Джойса возложила венок из зелёных веток, в который была вплетена цветочная арфа – символ Ирландии.
«Только один человек и понимал-то меня на протяжении всей моей жизни», – прошептал со смертного одра, ни к кому, собственно, не обращаясь, немецкий философ ГЕОРГ ВИЛЬГЕЛЬМ ФРИДРИХ ГЕГЕЛЬ. Совершенно неожиданно его свалил жесточайший приступ холеры, обрушившейся на Берлин. «Отец диалектики» помолчал минуту и продолжил, оставшись до конца верным принципу противоположности: «А в сущности, и он-то меня не понимал». И умер во сне – спокойно, безболезненно и тихо, даже не понимая от чего.
«Я не понимаю, Мария, что со мной происходит, но я не могу сдвинуться с места», – говорил жене ГЕНРИХ ЧЕТВЁРТЫЙ НАВАРРСКИЙ, король Франции, известный коронной фразой «Париж стоит мессы». Первый король из династии Бурбонов, он собирался побывать в Арсенале, осмотреть там новые пушки, и навестить больного друга, министра финансов Сюлли, но всё что-то медлил. Три раза говорил королеве: «Adieu», направлялся к выходу из дворца и три раза с полпути возвращался обратно. Наконец сказал: «Душенька моя, так ехать мне или нет? Ладно, я только туда и обратно, не пройдёт и часа, как я вернусь». Спустился во двор Лувра по винтовой лестнице и крикнул карету: «Поехали на кладбище Сент-Инносан!» Тяжёлый, запряжённый восьмёркой сильных битюгов, экипаж громыхал по узкой и извилистой, мощённой булыжником улице Железных рядов, когда какая-то повозка преградила ему путь на перекрёстке с улицей Оноре. «Ага, вот и встали! Ну-ка, что там ещё такое?» – раздвинув кожаные занавески кареты, поинтересовался король, оторвавшись от чтения письма очередной своей любовницы. А вот что. К карете подбежал человек огромного роста, рыжий, с всклокоченной бородой и, вскочив на спицу колеса, ударил Генриха в грудь сломанным столовым ножом с костяной ручкой. «Вот и всё», – сказал Генрих, сглатывая кровь, заливавшую ему горло. Затем снял шляпу и церемонно поклонился своему убийце. «Поздравляю вас, сударь, вы вошли в историю». – «Что случилось, Сир?» – спросил его герцог Монбазон. «Пустяки. Я ранен», – прошептал король и поднял, защищаясь, левую руку с письмом в ней, и убийца ударил его вновь. Нож вошёл меж рёбер, разорвал аорту, порвал лёгкое, и король опрокинулся на кожаные подушки. Примиривший католиков и протестантов, победивший голод, выживший в двухстах битвах и боях, переживший Варфоломеевскую ночь и сотни ночей в бурных схватках с более чем шестьюдесятью фаворитками («живой товар» порой поставляла ему сама тёща!), самый популярный король Франции (недаром же французы семнадцать раз (!) покушались на его жизнь), он пал от руки подлого фанатика убийцы. Им оказался ревностный иезуит, опустившийся и погрязший в долгах учитель из Ангулема, некто Франсуа Равальяк, который узнал о планах короля начать войну против иезуитской Австрии. Королевскую карету погнали обратно во дворец, по прибытии куда Генрих немедленно потребовал: «Дайте мне стакан вина». – «О, это может повредить вам, государь», – заметил лейб-хирург. «Что может повредить смерти?» – усмехнулся «добрый король Генрих». Выпив вина, он позвал жену и сына. Сыну он сказал: «Теперь вы – государь». А жену, королеву Марию Медичи, попросил: «Ради бога, постарайтесь не худеть, худоба вам не к лицу», – и простился с ней. На вопрос главного министра «Сир, но как же война? Какие будут распоряжения?» он едва слышно произнёс: «Распоряжения? Не знаю… Думайте сами, я больше не государь». И последним дыханием прошептал: «Игра закончена… Занавес». С этими словами и умер король-поэт, король-рыцарь, король-повеса, подлинный «король любви» Генрих Наваррский, и стал единственным королём, по которому добрый народ Франции когда-либо носил траур. Было замечено, что при нём улучшился климат, повысились урожаи, женщины стали больше рожать, а детишки появлялись на свет крепкими и здоровыми. В день его смерти, 14 мая 1610 года, майское дерево, растущее во дворе Лувра, рухнуло у всех на глазах. Задолго до этого дня астрологи предостерегали Генриха бояться мая-месяца, кареты и ножа.
«Я не понимаю. Я не могу понять. Я не понимаю, почему это произошло…» – всё повторял умирающий от ожогов герр МАКС ПРУСС, капитан гигантского дирижабля-авианосца LZ-129 «Гинденбург», когда его умудрились вынести на носилках из адского месива горящих обломков. Самый крупный цеппелин XX века, гордость немецких инженеров, «ангел новой Германии», неожиданно загорелся на причальной площадке авиабазы ВВС США Лейкхёрст, под Нью-Йорком, 6 мая 1937 года и сгорел за четыре секунды. И сегодня, спустя семьдесят лет после трагедии, тайна «Гинденбурга» остаётся неразгаданной.
Другой капитан, английский воздушный ас времен Первой мировой войны АЛЬБЕРТ БОЛЛ, попросил молодую французскую крестьянку, которая вытащила его из горящего самолета: «Подарите мне… на прощание… поцелуй… французский…», и умер у неё на коленях. Вечером этого же дня, 7 мая 1917 года, Лоттер Рихтхофен, младший брат знаменитого лётчика, «Красного барона» Манфреда фон Рихтхофена, хвастался за кружкой доброго пива, что это он на своём «Фоккере-Альбатросе» сбил двукрылый истребитель Альберта Болла SE-5 над полями Северной Франции, неподалёку от Амьена. Там немцы и похоронили героя Англии со всеми причитающимися ему почестями. А ведь он записал на свой счёт 43 сбитых немецких самолета, и среди многочисленных боевых наград был у него и русский Георгиевский крест.
Альберт Болл выпросил у девушки перед смертью французский поцелуй. А вот голливудский киноактёр ЭНТОНИ КУИНН хотел большего. «Кэти, ляг рядом со мною», – попросил он в последний раз, когда на короткое время пришёл в сознание в Бостонском госпитале, и подвинулся на тесной больничной койке. Так и умер – тихо, спокойно, в объятиях своей горячо любимой жены Кэти Бенвин.
Совсем обессилевший от боли и переживаний купец первой гильдии ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ ТРЕТЬЯКОВ, передавший в дар жителям Москвы своё обширное собрание картин, попросил позвать священника – исповедаться и причаститься. И по окончании исповеди сказал: «Берегите галерею». Потом, вздохнув, прошептал: «Верую. – То ли жену звал – Веру, – то ли бога… – Верую. Верую…» На третьем «Верую» его не стало. Осталась Третьяковская картинная галерея, которую Третьяков начал с картины Шильдерера «Искушение».
«Верю ли я в бога? – отвечал художник АНРИ МАТИСС на вопрос приёмной дочери Маргарет. – Да, когда работаю… Но когда душа отлетает, неважно, куда поместят тело, лишь было бы это место благопристойно». На закате дня 3 ноября 1954 года он сидел с дочерью в своей комнате на третьем этаже дома Reggina на высоком холме в Симье, под Ниццей, в бухте Ангелов. Комната была увешана огромными рисунками кисти самого Матисса, а он был одет в широкую пижаму из очень светлой ангорской шерсти (цвета «волос королевы»), В тот вечер ангел сорвал с него эти тленные покровы: «Я вдруг подумал об утреннем жаворонке, – успел сказать он Маргарет. – И всё же, начав с птичьей трели, я хотел бы закончить органным песнопением». Удар поразил его внезапно. Он тихо скончался на руках дочери. Началась новая жизнь, быть может, та, которую он предвидел много лет назад. Матисс дожил до своей славы, ему удалось присутствовать при своём апофеозе. По другим, однако, источникам, художник умер на руках Лидии Делекторской, эмигрантки из России, которая в течение двадцати двух лет служила у него помощницей, секретарём и моделью. В тот день она вышла из ванной комнаты с головой, обёрнутой полотенцем в форме тюрбана и шутливо сказала Матиссу: «Наверное, вы сейчас скажете: „Давайте карандаш и бумагу!“» – «Давайте карандаш и бумагу!» – охотно согласился он с ней и сделал несколько набросков Лидии, своего «ангела-хранителя». Один из них ему очень понравился. И он подарил его ей. И это было всё…
«Дай мне слово, что ты не оставишь мои полотна на произвол судьбы, что бы ни случилось», – потребовал у жены художник КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ ПЕТРОВ-ВОДКИН.
В ночь перед своей смертью, 1 декабря 1814 года, семидесятичетырехлетний французский аристократ, автор скандально известных эротических романов маркиз де САД, принял у себя свою восемнадцатилетнюю любовницу Мадлен Леклер и пожаловался ей на лёгкое недомогание. Мадлен, понятно, постаралась рассеять тревоги «поборника порока и преступлений» и как нельзя лучше справилась со своими обязанностями при стареющем де Саде, наречённом в кругах богемы Божественным Маркизом. Во всяком случае, когда она ушла, он сделал в своем дневнике последнюю запись: «…как обычно, предались… маленьким играм… провёл с ней совершенно распутный вечер». Восхищенья достойно и то, что этот «совершенно распутный вечер» де Сад провёл с этой юной девой в палате психиатрической лечебницы в Шарантоне, убогом посёлке в восьми километрах от Парижа. Туда его упекла администрация Наполеона I, с диагнозом «либертенское слабоумие»(!), за якобы злобную сатиру на Жозефину, супругу императора. Ближе к полуночи маркиза навестил аббат Жоффруа и застал его в отличном настроении. Ещё бы! Назавтра де Сада ожидала новая встреча с мадемуазель Мадлен, и он её предвкушал. «Зайдите ко мне утром», – попросил он аббата при расставании. На следующий день к Саду заглянул девятнадцатилетний студент-медик Рамон. Дыхание маркиза, всегда затруднённое, показалось ему вдруг особенно шумным и тяжёлым. Доктор напоил его горячим настоем, микстурой и каким-то ещё питьём, и Сад впал в забытьё. Рамон сидел у изголовья больного во мраке наступившего зимнего вечера и в какой-то миг вдруг понял, что более не слышит дыхания старика. Де Сад был мёртв – «самый совершенный писатель, когда-либо живший на свете», скончался мирно и неожиданно, хотя и без драматической внезапности. В завещании он просил похоронить его в лесу родового имения Мальмезон и засеять могилу желудями, «дабы исчез всякий след её…» Завещание было подписано полным именем усопшего – ДОНАСЬЕН АЛЬФОНС ФРАНСУА, граф де САД. Но лес в его имении был уже давным-давно продан, и похоронили маркиза на больничном кладбище, в конце его восточной части. Установили камень с высеченным на нём крестом, но без указания фамилии погребённого. Могила так и осталась безымянной. Однако имя опаснейшего потрясателя основ морали не исчезло бесследно, оно осталось не только в его книгах и пьесах, но и на редкой марке шампанского «Маркиз де Сад», как белого, так и красного. Этикетки бутылок украшены портретом демонической личности и девизом Сада: «Любовь, желание, страсть».
В Страстную Пятницу, 14 апреля 1865 года, на шестой день после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, президент США АВРААМ ЛИНКОЛЬН отменил два смертных приговора – один шпиону-южанину, другой – дезертиру-северянину. «Я думаю, что этот наш парень принесёт нам больше пользы на земле, чем под землёй», – объяснил он своё решение членам кабинета в Белом Доме и поехал с женой в театр Форда. Там давали комедию «Наш провинциальный кузен» с Лорой Кини в заглавной роли. Президент запоздал к началу спектакля, который был, однако, прерван, когда артисты и зрители увидели его входящим в убранную флагами ложу верхнего яруса подле сцены. Он уселся в кресло-качалку, усталый, измождённый, едва способный улыбнуться и помахать рукой зрителям, устроившим ему овацию: «Спасибо! Спасибо!». Но вскоре игра актёров увлекла его. Во втором явлении третьего акта, когда зал сотрясали взрывы хохота, ещё один актёр, правда, уже бывший, некто ДЖОН УИЛКИС БУТС из Ричмонда, жаждущий незаслуженного успеха и славы, незамеченным вошёл в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в затылок из бронзового короткоствольного крупнокалиберного пистолета «дерринджер». Затем спрыгнул на сцену и закричал в зал: «Sic semper tyrannis!» («Так всегда будет с тиранами!») «Юг отомщён!» Так отставной актёр сыграл свою последнюю роль на сцене! Позднее, через 12 дней, сам смертельно раненный в перестрелке с полицейскими на табачной ферме Боулинг Грин, в штате Вирджиния, двадцатисемилетний Бутс слёзно просил их: «Скажите моей матери… я умер … за свою страну… Я думал, так будет лучше… Бесполезно!.. Бессмысленно!..» Справедливо: в тот самый миг, когда раздался выстрел Бутса в театре Форда, в форте Самтер раздался первый залп праздничного салюта по случаю окончания Гражданской войны, которую северяне Авраама Линкольна выиграли у южан.
Королю Швеции ГУСТАВУ ТРЕТЬЕМУ, прозванному «тираном», подали в литерную ложу Оперы анонимное письмо с предостережением о покушении. «Если они хотят убить меня, то теперь для этого самый удобный случай», – сказал отчаянный монарх главному шталмейстеру и, надев чёрное домино, смешался с толпой на маскараде. К нему тотчас же подошёл заговорщик в весёлом костюмчике. «Здравствуй, прекрасная маска», – сказал он. Этого только и ждал ещё один заговорщик, некий армейский капитан и коммерсант Якоб Анкарстрём. Он приблизился к королю сзади и выстрелил ему в спину из пистолета зарядом из обойных гвоздей, свинцовой дроби и двух мелких пуль, но в сердце не попал. Сюртук короля тлел. Он прошептал: «Ай, ай! Я ранен! Задержите злодея, но не причиняйте ему ничего дурного! Скажите всем, что я получил лёгкое ранение. И продолжайте веселиться, господа…» Смертельно раненного, его отвезли во дворец и положили на парадное ложе. Просторная спальня была погружена в темноту и освещалась лишь бумажной лампой на плошке с маслом, в комнате царил страшный холод. Лейб-доктор осмотрел изуродованное выстрелом тело короля и даже извлёк из его спины несколько гвоздей. Но для врачебного искусства того времени случай был безнадёжный. Густав осведомился: «Имел ли касательство к покушению на меня тот самый французский актёр, которого я видел сегодня в „Скупом“ и который прослыл за якобинца?» – «Нет, Ваше величество, у него безоговорочное алиби – он лежал в своей постели». – «Тем хуже, – сказал король. – Значит, это сделал швед». На вопрос, хочет ли он видеть друзей у своего ложа, Густав ответил: «Да я-то бы хотел, но к чему им видеть беднягу?» И пожаловался полковнику Лилиенгорну: «Разве это не ужасно, Понтус, уцелеть на войне и погибнуть от пули какого-то негодяя». Затем заснул и утром 29 марта 1792 года умер, не дожив до 46 лет и не успев попрощаться ни с королевой, ни с кронпринцем.
Однако вернёмся к казнимым.
«Вы должны умереть», – сказал МАРИИ СТЮАРТ последний её тюремщик, мрачный пуританин Паулет. «Да благословит Бог это известие, – ответила та. – Королева Франции и Шотландии готова к смерти и без страха вверяет себя в руки убийц. Я очень хочу расстаться с этим миром. Смерть, которая должна прекратить все мои мучения, будет мне весьма приятна». Утром 6 февраля 1587 года её вывели из увеселительного королевского замка Фотерингей, где она 19 лет кормилась тюремным хлебом. Эшафот, обитый чёрным сукном, был поставлен в нижнем, большом зале замка, и Мария взошла на него с таким же присутствием духа и достоинством, как если бы всходила на трон – ей даже несли шлейф платья. Зрители были поражены спокойным величием её лица, которое «созранило ещё некоторые приятности». Увидев плаху с лежащим на ней топором, она сказала палачу, одетому в чёрный бархат: «Было бы гораздо лучше рубить голову мечом, как во Франции». Говорила громко и «так спешила, словно действительно не терпелось ей покинуть этот мир». Палач с лицом, скрытым под маской, приблизился к ней, встал на колени, попросил прощения за то, что через секунду снимет с неё голову. «Надеюсь, на этом все мои беды окончатся», – сказала королева. Когда же палач предложил ей помочь раздеться, она с улыбкой ответила: «Право, милорд, у меня никогда прежде не было такого камердинера. Благодарю вас, но, во-первых, я не намерена обнажаться в присутствии такого множества зрителей, а во-вторых, мне помогут мои фрейлины, Анна Кеннеди и Елизавета Крель». С их помощью она отстегнула высокий лиф чёрного платья и обнажила шею и плечи. Потом сама завязала себе глаза заранее приготовленным платком, отшпилила кисейную вуаль и подобрала волосы, не снимая гребёнки. «Господи, в руки твои предаю дух мой!» – пресекающимся, замирающим голосом произнесла она слова псалма № 7, уронив голову на колоду и обхватив её руками, как голову возлюбленного. И заключила: «Я родилась, выросла и умру верной католической вере. Я прощаю всех». Палач заметно нервничал, руки у него дрожали, и сначала он дал промах; первый удар топора пришёлся королеве не по шее, а глухо стукнул по затылку – сдавленное хрипение и глухие стоны вырвались у страдалицы; второй удар глубоко рассёк шею, фонтаном брызнула кровь; и только третий отделил голову от туловища. Когда же палач схватил голову за волосы, чтобы показать её собравшейся черни, его рука удержала только рыжий парик, а стриженая седая голова старой женщины, вся в крови, покатилась по деревянному настилу, крытому чёрным английским фризом. Когда же палач вторично поднял голову, которая некогда носила две королевские короны, люди с ужасом наблюдали, как ещё с четверть часа конвульсивно вздрагивали губы и скрипели стиснутые зубы Медузы Горгоны, как звали в народе шотландскую королеву-малютку. Тело её было раздето, и тогда из-под кринолина платья показалась болонка, которая незаметно сопровождала свою хозяйку на казнь.
Французский маркиз де КЮСТИН, бывший командующий Рейнской армией, обвинённый в сдаче крепости Майнц австро-прусским интервентам, едва не споткнулся о ступени эшафота и признался: «Мне всё-таки жаль, что меня не доконала тогда прусская пуля».
А вот пруссак ВИЛЬГЕЛЬМ КЕЙТЕЛЬ, генерал-фельдмаршал германского вермахта и правая рука Гитлера, приговорённый к повешению за преступления против человечности, попросил в последнем прошении «…заменить ему, как солдату, петлю пулей». Просьбу, понятно, отклонили. Последний привет из своей камеры в Нюрнбергской тюрьме Кейтель послал старшему сыну Карлу. Сообщив, что только жена и невестка написали ему прощальные письма, он добавил: «…Это говорит само за себя. До чего же трусливы мужчины!» Кейтеля вывели из камеры в тюремный спортивный зал, где стояла виселица. Когда он проваливался в люк эшафота, крышка люка ударила его по лицу, и ударила очень сильно.
«Вы собираетесь причинить мне боль?» – спросила палача у подножия ожидавшей её гильотины на площади Революции в Париже графиня ЖАННА-БЕКЮ дю БАРРИ, бывшая панельная шлюха, дочь кухарки и цирюльника, ставшая великосветской куртизанкой и последней присяжной любовницей короля Людовика Пятнадцатого, восприемницей мадам де Помпадур. Бывало, сам папский унций и кардинал Ларош Эмон, оба набожно коленопреклонённые, надевали в присутствии его величества бархатные туфельки на её хорошенькие босые ножки, когда она поднималась утром со своего ложа в королевской опочивальне. Вот какая была мадам дю Барри! А тут она своим нежным и милым голосом, который до того времени не знавал отказа, упрашивала: «Господин палач, господин палач, молю вас, пожалуйста, не делайте мне больно. Ну, хотя бы ещё одну минуточку, прошу вас, ещё одну минуточку!.. Подождите, сударь!» Но палач, казалось, и не слышал слов, произнесённых прелестными устами. Схватив графиню и нисколько не жалея роскошного её тела, сохранившего ещё свои дивные формы, он безжалостно потчевал её пинками и подзатыльниками, побуждая склонить голову на плаху, и грубо повторял: «Allons, canaille! Умри, каналья!» И мадам дю Барри, необыкновенная красота которой и приблизила её к трону, легла под «мадам Гильотину», и нож машины смерти снёс её прехорошенькую головку. «Я ещё никогда так не смеялся, как сегодня, при виде этих гримас, которые корчила красавица, перед тем как умереть», – хвастал перед друзьями очевидец казни, некий «неистовый злодей» Жорж Грейв. Это он и донёс королевскому прокурору на последнюю титулованную фаворитку Людовика Пятнадцатого, ставшую символом национального позора Франции.
Граф Эссекский, барон ТОМАС КРОМВЕЛЬ, лорд-хранитель печати при английском короле Генрихе Восьмом, поднявшись на эшафот и увидевши молодого палача, воскликнул: «Сколько же тебе лет, юноша?» – «Шестнадцать», – неуверенно ответил тот. «И это, верно, первая казнь в твоей жизни?» – «Да, милорд. Но я много тренировался на деревянной колоде». – «Ты уж постарайся, парень. Это всё, о чём я тебя прошу», – напутствовал юного палача Кромвель и смело лёг под топор. Потом, взглянув на него, приободрил: «Да ты не волнуйся! Было бы из-за чего». Кромвеля приговорили к смертной казни за государственную измену – он, видите ли, сосватал в жёны королю уродливую Анну Клевскую, «добрую фламандскую кобылу». Да, за такие провинности монархи своих слуг не жаловали.
В нарядном белом платье, украшенном чёрными лентами, и атласных туфельках почти взбежала на эшафот «девка ГАМИЛЬТОН», известная камер-фрейлина, юная метресса Петра Первого, больше известная в России как МАРЬЯ ДАНИЛОВНА ХАМЕНТОВА. Была она приговорена к смертной казни за убийство своего ребёнка, понесённого ею, говаривали, то ли от самого царя, то ли от царского денщика Орлова. Государь поднялся на помост вслед за нею, и Гамильтон бросилась перед ним на колени: «Ваше величество, помилосердствуйте, не велите казнить, я безвинна». И все присутствовавшие при этом уверились, что сейчас-то на эшафоте разыграется долгожданный спектакль: в последнюю минуту Пётр сменит гнев на милость и пощадит свою метрессу, в которой «красота помолвлена с гордыней», и с которой «он раньше лёживал», и которая «имела от него много нарядов, соболей и каталась в аглицкой карете». И точно – царь подошёл к ней, обнял, шепнул что-то и поцеловал. Потом подошел к палачу и что-то тихо сказал ему на ухо. Народ взвыл от радости: вот оно, сейчас увидим, что меч безвинную голову не сечёт – впервые в нашей истории заплечных дел мастер держал в руках не топор, а меч. Палач проводил Марью на плаху и… единым ударом отсёк ей голову, которую Пётр поднял за волосы и поцеловал в мёртвые, но ещё тёплые губы. И велел поместить её в склянку с хлебным вином и отправить в кунсткамеру.
«Подкрасьте мне губы», – попросила донья КАЭТАНА, герцогиня АЛЬБА, отравленная, по словам знающих людей, своей соперницей и увековеченная великим художником Испании, «одиноким гигантом» Франсиско Гойя на многих полотнах, в том числе и на «еретическом» полотне «Маха обнажённая».
«Пожалуйста, немножко меня подмажьте, когда я умру», – попросила подруг смертельно больная, «страшно старая и совсем прозрачная» поэтесса ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС и, сказав это, провалилась в глубокий обморок. А когда очнулась, призналась им: «Последняя моя мысль перед тем, как потерять сознание, была: „Слава Богу – конец!“ А первая мысль, когда я пришла в себя: „Какая скука! Опять начинай всё сначала…“» Некогда «декадентская мадонна», «белая дьяволица», «неистовая Зинаида», а теперь «сгорбленная, вылинявшая, полуслепая ведьма из немецкой сказки», она всё же умудрилась нацарапать перед смертью в своём дневнике – левой рукой, поскольку правая уже отнялась: «… Я стою мало. Как Бог мудр и справедлив». Две слезы скатились по её щекам, и она закрыла глаза. Было 3 часа 33 минуты пополудни воскресного дня, 9 сентября 1945 года. Её гроб опустили на гроб мужа, писателя Дмитрия Мережковского, на русском кладбище под Парижем.
«Не найдётся ли у вас случаем английской булавки?» – спросила удивлённого коменданта тюрьмы английская медсестра ЭДИТ КАВЕЛЛ, пленённая немцами и приговорённая ими к смертной казни – якобы за шпионаж. Шёл второй год Первой мировой войны, и Кавелл помогала раненым английским солдатам бежать из плена через линию фронта. Когда её вывели на стрельбище в пригороде оккупированного немцами Брюсселя, она захлестнула подол длинной юбки вокруг щиколоток и пришпилила его тремя английскими булавками: скромная и целомудренная медицинская сестра британской армии даже перед лицом смерти не желала показывать ноги «проклятым бошам». Потом на полях своего молитвенника она написала: «Умерла в 7 часов утра 12 октября 1915 года. Мама, я люблю тебя. Эдит Кавелл». Её последние слова перед расстрелом: «Патриотизма недостаточно; у меня не должно быть ненависти или горечи к кому бы то ни было» выбиты на памятнике, поставленном ей в Лондоне.
Другая английская медсестра, прославленная ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ, вернулась с Крымской войны полным инвалидом. Сначала отказали ей руки, потом – глаза, потом – память. Ведь на войне ей приходилось быть не только санитаркой, но и поварихой, и матерью-хозяйкой, и посудомойкой, и кладовщицей, и уборщицей. Однажды ночью девяностолетняя героиня проснулась и озадачила сиделку словами: «Неужели это я стояла на этом Малаховом кургане?» – «Вы сознаёте, где вы сейчас?» – спросила её сиделка. «О, да, – ответила Флоренс. – Я стою перед алтарём погибших наших солдат». И со знакомой решительностью старых лет в голосе заключила: «И пока я жива, я буду бороться за их дело».
Автор «Утопии», сэр ТОМАС МОР, одетый в грубое серое рубище своего слуги Джона Вуда и держа в руках красный крест, с трудом шёл из Вестминстера к месту казни на холм против Тауэра. Перед ним несли палаческий топор, обращённый к нему лезвием. Слишком слабый, чтобы подняться на эшафот, он попросил помощника шерифа: «Сэр Эдуард, пожалуйста, помогите мне взойти, а сойти вниз я постараюсь как-нибудь и сам». Когда один из служащих потребовал у него законную дань в виде верхней одежды, он ответил: «Вы получите её, – и снял свой колпак. – Это самая верхняя одежда, которой я располагаю». Потом обратился к палачу: «Соберись с духом, человече, и не бойся делать своё дело. Только вот шея у меня коротковата, так что будь поаккуратнее и не промахнись, чтобы не осрамиться. Это ведь дело твоей чести». И уже в последнюю минуту, став на колени и положив голову на плаху, добавил: «Погоди немного, дай мне убрать бороду из-под топора, её-то незачем рубить, ведь она нисколько не повинна в государственной измене. Казни сердце, но не бороду». Палач хотел завязать ему глаза. «Я сам завяжу», – ответил ему Мор и вынул из кармана заранее приготовленный платок. Писатель-гуманист, поэт, величайший из английских мыслителей Возрождения и бывший лорд-канцлер, не признавший Генриха Восьмого главой англиканской церкви, Томас Мор окончил свою жизнь, как и жил, – с усмешкой на устах.
Бородатый яицкий казак ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЁВ, самозваный «Третий император Пётр» с непокрытою головою кланялся на обе стороны, пока везли его в железной клетке с монетного двора в Кремле, где в продолжении двух месяцев его, прикованного цепью к стене, показывали народу. А поднявшись на высокий помост эшафота на Болотной площади, бросил угрозу в толпу вельмож и сановников: «Всех не переказнишь – будут ещё чёрные бороды!» А потом попросил прощения у народа, собравшегося поглазеть, как его станут четвертовать: «Прости, народ православный! Отпусти мне, в чём я согрубил перед тобою!» Потехи, однако, не вышло: палач «единым взмахом топора» сразу же отсёк ему голову. Останки Пугачёва сожгли и развеяли по ветру на все четыре стороны.








