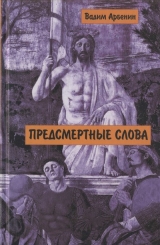
Текст книги "Предсмертные слова"
Автор книги: Вадим Арбенин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Соплеменник Нельсона, прославленный английский философ и экономист ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ, одним из первых провозгласивший равенство полов, вышел как-то на прогулку в окрестностях Авиньона, на юге Франции, и даже собрал букет ранних весенних цветов. И тут-то вдруг его сразил смертельный апоплексический удар. Когда врачи сказали ему, что нет никакой надежды на выздоровление, он спокойно заметил: «Моё дело сделано» – и встретил смерть так же мужественно, как и жил. Незадолго до этого, на похоронах историка Грота в Вестминстерском аббатстве, он заметил старинному другу, психологу Бену: «Скоро и меня похоронят, но не здесь и без таких вот церемоний». Да, похоронили Милля, любимца английской демократии, без церемоний, на скромном деревенском погосте, подле могилы горячо им любимой жены Генриетты. Как он того и хотел.
СТИВЕН ГРОВЕР КЛИВЛЕНД, 22-й и 24-й президент США, которого называли «Зверь из Буффало», клялся со смертного одра: «Я изо всех сил старался поступать правильно».
И УОРРЕН ХАРДИНГ, 29-й президент США, скоропостижно скончавшийся в 8064-ом номере гостиницы «Палас Отель» в Сан-Франциско, успел сказать жене Флоренс: «Я своё предназначение выполнил». Флоренс читала ему статью Сэмуэла Блайта в газете «Saturday Evening Post». Статья называлась «Спокойный взгляд на спокойного человека» и была хвалебной одой её мужу, президенту Уоррену Хардингу. «Хорошо, хорошо, продолжай, – просил он её, лёжа в кровати с закрытыми глазами и наслаждаясь потоком комплиментов в свой адрес. – Почитай ещё немного…» Флоренс писала позднее: «Мы были с ним в номере одни… Я дала ему лекарство, он принял его и откинулся на подушки. Потом неожиданно открыл глаза, повернулся ко мне и с пониманием, в упор посмотрел на меня. „Я своё предназначение выполнил“, – сказал он мне. Я стояла рядом с постелью. Он вздохнул и отвернулся к стене… Я оставила его». Врачи констатировали смерть Хардинга от ожирения сердца и апоплексического удара. Поговаривали, однако, что его отравила Флоренс. Узнав о порочной связи мужа с двадцатилетней красоткой, блондинкой Кэрри Филиппс, и об их незаконнорождённом ребёнке, «зачатом в гардеробной комнате Сената», она вступила в сговор с личным врачом президента, генералом Сойером, и дала мужу яд. Флоренс, которая была на пять лет старше Уоррена и которую друзья дома прозвали «герцогиней», запретила властям вскрывать тело покойного. Она ненадолго пережила мужа. Кэрри Филлипс умерла в полной нищете в доме для престарелых.
Но вот уж кто истинно радел о долге, так это премьер-министр Англии УИЛЬЯМ ПИТТ старший, барон Чэтем. Его сын, Уильям Питт младший, читал ему на сон грядущий отрывки из «Илиады» Гомера. И когда дошёл до сцены гибели Гектора, отец вдруг приподнялся на смертном одре и прервал чтение: он вспомнил, что сыну нужно отбывать со своим полком в Гибралтар. «Отправляйся, сын мой, отправляйся, когда страна призывает тебя, – воззвал он к сыну. – Ведь ты принадлежишь ей со всеми потрохами. Не теряй ни минуты, скуля над стариком, которого скоро не будет». И сын отправился в свой полк, а отец, 70 лет от роду, – на тот свет.
В 9.49 утра 4 июля 1904 года карета могущественного министра внутренних дел Российской империи, статс-секретаря ВЯЧЕСЛАВА КОНСТАНТИНОВИЧА фон ПЛЕВЕ, выехала на Измайловский проспект, возле гостиницы «Варшавская». Там его уже поджидал эсер-анархист Евгений (Егор) Созонов в форме железнодорожника. Точно рассчитавший время, он только что вышел из каких-то меблированных комнат после пылкой ночи с семнадцатилетней подружкой. На перекрёстке кучер министра Филиппов едва не столкнулся с ломовым извозчиком, замешкался, и Плеве, высунувшись из кареты, спросил его: «Что случилось?» В этот-то момент к карете подбежал Созонов и швырнул в окно 12-фунтовую бомбу. И главный охранник министра, Фридрих Гартман, ехавший рядом с ним на велосипеде, услышал последние слова тайного советника, кавалера и шефа отдельного корпуса жандармов, «беспощадного кулака царя» фон Плеве: «Исполнен долг…» Ну да, у немцев всегда так – долг прежде всего.
«Отец» психоанализа, австрийский доктор-психолог и психиатр ЗИГМУНД ФРЕЙД, тоже напомнил о долге – своему давнишнему личному врачу Максу Шуру: «Вы обещали мне не оставить меня, когда придёт моё время. Теперь жизнь моя лишь пытка и больше не имеет смысла. Недавно от меня отвернулась моя преданная собака – уж так я ей надоел». Убедившись, что он достиг предела в сопротивлении болезни, Фрейд попросил Шура помочь ему умереть. И Шур помог. Он сделал Фрейду две подкожные инъекции морфия с перерывом в двенадцать часов, после чего тот «вошёл в состояние комы и больше не проснулся». Но в промежутке между инъекциями Фрейд всё же успел признаться Шуру: «Величайший вопрос, на который я так и не нашёл ответа, несмотря на тридцать лет изучения женской души, это, чего же всё-таки хочет женщина». Это произошло в субботу, 23 сентября 1939 года в 3 часа ночи. Кремированные останки Фрейда были помещены в античную греческую вазу, подаренную ему его бывшей пациенткой Марией Бонапарт, правнучкой Наполеона Первого, и погребены на лондонском кладбище Грин Гарден. Нацисты выпустили Фрейда из Австрии, предварительно уничтожив его книги, после того как принцесса Греции заплатила им 20 тысяч фунтов стерлингов.
А вот швейцарский коллега Фрейда КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ уже знал. «Теперь я знаю почти всю правду, кроме одной маленькой детали», – перед смертью похвастал он Рут Бейли, которая ухаживала за знаменитым психологом после кончины его жены. «Но когда я узнаю и её, то буду уже мёртв». И умер в своём доме в деревне Кюшнахт на берегу Цюрихского озера.
И у безымянного наполеоновского ПОЛКОВНИКА, отбившего у русских передовой редут возле деревни Шевардино на Бородинском поле, тоже было чувство долга. Весь в крови, лёжа на разбитом зарядном ящике у входа в редут, он сказал подвернувшемуся лейтенанту: «Моя песенка спета, милый мой, но редут взят». За минуту до этого его КАПИТАН, сражённый пулей русского гренадера, закричал: «Ну, теперь попляшем! Добрый вечер!» Складывается впечатление, что в 3-ем корпусе маршала Мишеля Нея, штурмовавшего Шевардинский редут, все сплошь были плясуны да песенники.
Впрочем, вспомнил о долге и ещё один французский весельчак и озорник, самый весёлый сатирик из всех, мэтр ФРАНСУА РАБЛЕ, «муж единой книги». Зато какой книги! «Неприличного» романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». «У меня ничего нет, – сказал он судьям. – А задолжал я много. Всё остальное оставляю бедным. Опустите занавес, господа, фарс окончен. До встречи в другом месте».
То ли дело наш выдающийся мыслитель ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ. Он, автор «Апологии сумасшедшего», сам подошёл к своему заимодавцу, генералу Дельвигу: «Ваше превосходительство, я хочу вернуть вам деньги, которые когда-то занимал у вас. Ведь долг платежом красен». Дело происходило в ресторане у Шевалье, куда Чаадаев по обыкновению приехал отобедать, и Дельвиг остановил его: «Да зачем же здесь? Видите, мне и положить-то их некуда, надо расстёгиваться». – «Нет, нет, возьмите, а то, может быть, мы больше не увидимся», – настоял на своём Чаадаев и с этими словами отсчитал ассигнации. Потом собрался и поехал домой, на Новую Басманную улицу, где квартирантом в чужом доме снимал у немца Шульца ветхий, запущенный флигелёк. И глухим голосом попросил хозяина дома подать себе чаю: «Мне что-то не-можется». Он сильно страдал простудой и болью в груди. Однако, откушавши пару чашек, сказал Шульцу: «Мне становится легче, я должен одеться и выйти, так как прислуге необходимо сделать уборку к празднику Пасхи. Прикажите заложить экипаж. Хочу поехать прокатиться и подышать свежим воздухом». После чего он сел в кресла, «повёл губами, перевёл взгляд с одной стороны на другую», и Шульц увидел остановившийся взгляд откинувшегося на спинку кресла «басманного философа», которого император Николай Первый объявил сумасшедшим. Чаадаев умер в страстную субботу, 12 апреля 1856 года, за несколько часов до первого, полуночного удара большого кремлёвского колокола. Ему было 62 года, 10 месяцев и 18 дней от роду.
«Если люди не идут ко мне, это хороший признак, значит, я никому ничего не должен, никому ничем не обязан, – выговаривал жене выдающийся русский сатирик МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО. – Значит, я со всеми в расчёте. Я решил умереть и хочу умереть тихо, как жил, никому себя не навязывая. Зачем же ты лезешь не в своё дело?..» Дело в том, что Вера Владимировна, по совету лечащего доктора Бессера, но не предупредив смертельно больного мужа, решила пригласить к нему приятелей и гостей. Так, продолжая говорить, писатель вдруг взволновался, внезапно поражённый блеснувшей мыслью: «Какая складная философия! Как стройно, оказывается, я могу ещё думать…» – и задохнулся от страха, от жалости к себе и от безумной надежды, что, может быть, в самом деле, не всё ещё кончено.
«Я оставлю вам после смерти все свои картины», – пообещал хорошенькой вдовушке Эжени-Леони влюблённый в неё французский живописец наивного искусства АНРИ РУССО, по прозвищу Таможенник. «Да на что они мне, эти ваши безумные вещи? Зачем они мне?» – подняла его на смех 54-летняя жестокосердная возлюбленная, дочка богатого лавочника и сама продавщица с базара «Экономи Менажер». «И почему это вы решили, что я выйду за вас?» – фыркнула разборчивая невеста, отвергая ухаживания одного из первых среди «Воскресных художников». Расстроенный, разболевшийся Руссо, пошатываясь, едва вскарабкался по лестнице в свою квартиру. Взглянул на себя в зеркало – небритый, нечёсаный… и впрямь безумец. Он прошёл в кухню и поставил на огонь воду, чтобы побриться. Пока она грелась, он решил подстричься и нечаянно порезался ножницами. Через день у него началась гангрена. Он скончался в клинике Некера на шестьдесят седьмом году жизни, в больничной карточке которой почему-то осталась запись: «художник был, по-видимому, алкоголиком». Последними словами Руссо стали: «Леони грубо поставила меня на место». На его похороны пришли только семь человек. «Когда-то я пристроил на выставку в „Салоне“ его первые картины. Теперь пристраиваю и его самого», – сказал в напутственном слове над могилой художника Поль Синьяк.
«Я оставляю своё тело анатомическому театру, чтобы быть полезным Англии и после смерти, – хрипло прошептал собравшимся возле его смертного одра родственникам ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ, экономист-утопист и юрист. – Это вся моя собственность. Да, немного».
В вечер перед казнью величайшего философа античного мира СОКРАТА в тюрьму к нему пришёл его друг Критон и застал там учителя музыки, который обучал богоборца новой песне на лире. «Как! – воскликнул друг. – Ты завтра умрёшь, а сегодня ещё разучиваешь песни?» – «Когда же я выучил бы их, если не сегодня, милый ты мой?» – ответил Сократ. А когда он уже принял из рук палача чашу со смертельным «государственным ядом» цикутой, ученик спросил его: «Учитель, зачем ты умираешь невинным?» – «Глупец! – ответил ему Сократ. – Разве ты хочешь, чтобы я умирал виноватым?..» Потом обратился к другу Критону: «Ну, милый друг мой, ты большой дока в этих делах, так объясни, как мне поступить с ядом». – «Нет ничего проще, – ответил тот. – Выпей его и ходи до тех пор, пока не отяжелеют ноги. Затем приляг на пол, а когда холод подступит к сердцу, тогда и конец, цикута уж доделает своё дело». Совершенно спокойно, даже с готовностью Сократ, следуя этой медицинской процедуре, пригубил чашу и выпил её до дна. Внезапно он откинул одеяние и сказал другу: «Критон, не забудь, что мы должны петуха Акслепию. Так отдай же, не забудь, пожалуйста, чтобы ему вернули наш долг». – «Долг будет оплачен», – заверил его Критон. «Или же принеси петуха в жертву Эскулапу в знак исцеления», – добавил Сократ. «Конечно, конечно. Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?» На этот вопрос ответа не последовало. Критон ущипнул Сократа за стопу. «Чувствуешь что-нибудь?» – «Ничего». Критон щипал ногу всё выше и выше. Когда окаменение достигло сердца, Сократ покинул нас, и Критон закрыл ему глаза и притворил рот.
По народному поверью, царевич-престолонаследник АЛЕКСЕЙ, сын Петра Первого, проклял перед смертью графа Петра Андреевича Толстого, который, «аки пёс борзой», рыскал по Австрии и Италии, выслеживая беглеца Алексея с его «чухонкой полюбовницей» Ефросиньей, обманно приволок его в Россию к бессердечному родителю и участвовал в следствии по его делу. «Будь ты проклят, Иуда! – плюнул ослабевший от пыток Алексей в лицо начальнику Тайной розыскных дел канцелярии Толстому, который чинил над ним расправу. – И весь род твой до двадцать пятого колена!» (И действительно, среди потомков Толстого рождалось много слабоумных и безумных.) В записной книге санкт-петербургской гарнизонной канцелярии читается: «26-го июня 1718 года пополудни в 6-м часу, будучи под караулом в Трубецком раскате в гарнизоне, царевич Алексей Петрович преставился от жестокой болезни, подобной апоплексии». Однако ж, по словам одного очевидца, он был отравлен, когда читал пропитанную ядом бумагу со смертным приговором ему; по словам другого, задушен подушками; по словам третьего, был забит дубиной самим государем; по словам четвёртого, да, забит царём, но не дубиной, а кнутом (сорок ударов!). По словам ещё одного очевидца, царевичу было сделано насильственное кровопускание до полной потери крови. И все они якобы присутствовали при событии в Трубецком раскате Петропавловской крепости! Извольте после этого писать историю России по словам очевидцев.
В ночь на 12 сентября 1911 года убийцу Петра Аркадьевича Столыпина, МОРДЫХАЯ (ДМИТРИЯ) ГЕРШОВИЧА БОГРОВА, перевели из одиночной камеры Косого капонира Киевской крепости на Лысую гору. «Куда идти?» – спросил он полицмейстера. Тот показал на виселицу. «Какая, однако, ирония: казнь совершается на Лысой горе! – спокойно и даже лениво произнёс убийца, двадцатичетырехлетний помощник присяжного поверенного, сын богатого киевского домовладельца и внук писателя. – Так что же вы тянете? Доставьте удовольствие черни. Вешайте!» И наклонил голову. И уже с петлей на шее сказал: «Мне совершенно всё равно, съем ли я ещё две тысячи котлет в своей жизни или не съем». И говорили тогда, что человек, произнёсший перед смертью такие циничные слова и плюнувший напоследок палачу в лицо, не может быть революционером. И сходились на том, что Богров, «состоявший на послугах» киевского охранного отделения по кличке «Аленский», пошёл на убийство Столыпина в угоду царю. Как известно, императрица не терпела Столыпина за то, что её муж не мог противиться его воле. Палач набросил Богрову мешок на голову и выбил из-под него скамейку. Когда тело провисело 15 минут, как того требовал закон, он снял его. Солдаты труп закопали на Лысой горе. Могилу сровняли с землёй. Чернь присвоила верёвку.
Рыжеволосый эльзасец МИШЕЛЬ НЕЙ, маршал и пэр Франции, князь Московский, участник всех крупнейших бранных кампаний Наполеона, тоже принял смерть «благородно, спокойно, с достоинством, но без бравады». Поставленный к стенке по приговору палаты пэров «за государственную измену», Ней был расстрелян 8 декабря 1815 года в самом глухом уголке Люксембургского сада, подальше от глаз людских, в присутствии всего нескольких зевак и случайных прохожих. Двенадцать солдат-ветеранов, вооружённых мушкетами, построились взводом. Ими командовал – по понятным причинам – не француз, а выходец из Пьемонта, капитан Сен-Биа. Он показал Нею, где он должен встать спиной к стене, и предложил ему повязку на глаза, но «самый бесстрашный из всех бесстрашных», как называл маршала Наполеон, отказался: «Разве вы не знаете, monsieur, что военные не боятся смерти?» Он отдал аббату де Пьерра свою золотую табакерку и все наличные деньги. Потом, приподняв треуголку, сделал четыре шага навстречу расстрельной команде: «Французы! Я протестую против приговора, моя честь…» Команда «Пли!» оборвала его на полуслове. Мишель Ней упал в грязь с одиннадцатью пулями в груди – один солдат выстрелил поверх его головы, и пуля раскрошила каменный парапет на аллее Обсерватории. Гвардейский офицер верхом, глумясь, перескочил через труп казнённого маршала, самого популярного из всех маршалов Наполеона. Другой обмакнул свой носовой платок в растёкшуюся по земле кровь и убрал его в карман. «Несчастный, ты уцелел (в заграничных походах), чтобы пасть от французских пуль!» – содрогнётся позднее писатель Виктор Гюго.
Оберштурмбанфюрер СС АДОЛЬФ ЭЙХМАН, который в Третьем рейхе отвечал за «окончательное решение еврейского вопроса», попросил перед казнью красного вина и бумаги, выпил полбутылки, написал жене прощальное письмо и пошёл на казнь довольно уверенно. Ведь он как-то пообещал: «Я сойду в могилу с улыбкой, сознавая, что помог истребить шесть миллионов евреев». Улыбок, правда, не было, но, стоя с петлей на шее, Эйхман, «архитектор холокоста» и автор плана «Мадагаскар» (высылка евреев на этот африканский остров), произнёс с наигранным пафосом: «Да здравствуют Австрия, где я родился! Да здравствует Германия, которой я служил! Да здравствует Аргентина, где я жил! И я благословляю свою семью, с которой вскоре воссоединюсь. Я был вынужден повиноваться закону войны и моему флагу». Израильская разведка «Массад» выкрала Эйхмана из Буэнос-Айреса, где он скрывался от правосудия пятнадцать лет, и Верховный трибунал Израиля в Иерусалиме приговорил его к смертной казни через повешение за преступления против евреев и человечности. Для приведения приговора в исполнение Израиль ввёл на один день смертную казнь. Повешение состоялось в специальной камере на третьем этаже тюрьмы «Рамла», откуда на время были «выселены» все заключённые. Эйхман отказался надеть капюшон на голову, после чего три палача, скрытые за занавесками, нажали на рычаги, один из которых и открыл крышку люка. Это был первый в Израиле смертный приговор. Труп Эйхмана был тайно кремирован, «пепел собран в молочный бидончик, попавшийся под руку», и развеян в нейтральных водах Средиземного моря, в точке, координаты которой до сих пор засекречены. На следующий день Израиль вновь отменил смертную казнь.
Не в пример своим министрам, бесноватый ефрейтор АДОЛЬФ ГИТЛЕР, прежде чем свести счёты с жизнью, буркнул: «Немцы недостойны своего вождя». И это были последние слова, которые нация услышала от своего фюрера. До этого, за тридцать шесть часов до смерти, он обручился с Евой Браун. Церемония проходила в нижнем этаже бункера, под развалинами Рейхсканцелярии, а провёл её совершенно неизвестный человек, некто Вальтер Вагнер, одетый в партийную униформу. После обручения, когда служанка поздравила новобрачную, ЕВА БРАУН сказала ей: «Ты спокойно можешь называть меня фрау Гитлер», отдала ей обручальное кольцо и свадебное платье и вслед за Гитлером проследовала в его личные покои. На новобрачном был новый, с иголочки, полевой мундир с Железным крестом за французскую кампанию в Первой мировой войне. На Еве – вечернее тёмно-синее платье с белыми рюшами и лучшие украшения. В спальне, где на патефоне крутилась её любимая пластинка «Ярко-красные розы», «молодые» присели на диван, Ева, поджав ноги, – с портретом Фридриха Великого и фотографией матери Гитлера на столике перед ними. Молодые только пригубили токайского вина, когда внезапно в коридоре раздался торопливый топот ног – это бежала Магда Геббельс, растрёпанная, с вытаращенными глазами. Она остановилась и забарабанила кулаками в закрытую дверь. Дверь распахнулась, и она ворвалась в комнату с невнятным бормотанием… Гитлер привстал с дивана и указал ей на дверь: «Вон!» Фрау Геббельс постаралась выдавить из себя какие-то торопливые слова. «Вон!!!» – закричал Гитлер опять. И это были его самые последние слова. Вскоре из-за дверей раздался выстрел, прозвучавший в тесном пространстве бункера, но мало кто обратил на него внимание – на верхнем этаже фюрербункера шла беспробудная попойка. Только Харальд Геббельс, который играл с сёстрами в соседнем отсеке, поднял голову и радостно сказал: «В самое яблочко!» И то: Гитлер выстрелил себе в правый висок из личного тяжёлого «вальтера» калибра 7,65 миллиметра. По другой же версии, это Ева Браун, молодая жена, верная и милая супруга, застрелила своего мужа из его же пистолета, однако уже в левый висок, после чего покончила с собой, раскусив ампулу с цианистым калием. По третьей версии, Гитлер выстрелил себе то ли в рот, то ли под подбородок. Так или иначе, это случилось вскоре после трёх часов пополудни, 30 апреля 1945 года. Передовые части Красной Армии находились в пятистах метрах от Рейхсканцелярии, а Знамя Победы уже больше часа развевалось над поверженным Рейхстагом в центре Берлина. Говорят, что, узнав о самоубийстве Гитлера, Сталин будто бы сказал: «Как вор, как проигравшийся игрок, сбежал он от суда народа». И всё же мечта Евы о великой любви осуществилась. Не совсем так, как она мечтала, но её конец соответствовал всем тевтонским легендам о романтической любви: молодожёны умерли в один день и вместе.
Адмирала, сэра УОЛТЕРА РЭЙЛИ, который был славен дерзкими пиратскими налётами на колонии испанцев в Америке и который завёз табак в Англию (это ему сказала королева Елизавета Первая: «Я видела многих мужчин, обративших своё золото в дым, но вы первый, кто обратил дым в золото», а Яков Первый приговорил его за это к смертной казни); так вот, сэра Уолтера Рэйли рескрипт о смертной казни застал ещё в постели. Он доспал, неторопливо оделся и, как всегда, подтянутый и собранный, вышел из дому. В дверях его встретил брадобрей Питер: «Сэр, мы ещё не завивали вашей головы сегодня». – «Пускай её причешет тот, кто её возьмёт. А ты поторопись занять удобное место у эшафота, так как там будет сегодня полно народу. Что касается меня, то я себе место там уже обеспечил». Поднявшись на помост, он попросил палача в красном колпаке дать ему потрогать лезвие топора и с улыбкой обратился к толпе зевак: «Лекарство, которое мне сейчас дадут, острое на вкус, но зато помогает от любой болезни». Потом положил голову на плаху, но палач сказал, что голова повёрнута не так. «Не беда, как лежит голова, – ответил ему Рэйли. – Было бы сердце повёрнуто правильно». «И где это мы найдём ещё такую голову, чтобы снести её с плеч?» – громко крикнул кто-то из курильщиков табака в толпе. Палач стоял на эшафоте, вальяжно опершись о топор, дымящийся от крови отсечённой головы.
«Отец мой, так ли я держу голову?» – спросил у исповедника фаворит Людовика XIII АНРИ де СЕН-МАР, замешанный в заговоре против первого министра двора, кардинала Ришелье. Минутой ранее он взошёл на эшафот на площади Терро в Лионе, по доброй воле встал на колени перед плахой, крепко обхватил её руками и положил на колоду голову. И, обратившись уже к палачу, который стоял рядом, но ещё не вынимал топор из мешка, спросил того: «Чего же ты ждёшь, почему медлишь?» Лёгкую, игристую весёлость французов не омрачал даже эшафот.
Убийца, поджигатель и вор по имени ТЭПНЕР поднялся по лестнице на эшафот с виселицей на нём, взглянул на лондонского палача низшего разряда Рукса, который дрожал не меньше самого приговорённого к смертной казни (ему ещё не приходилось никого вешать), и тихо спросил у помощника шерифа: «А сумеет ли он как следует сделать своё дело?» – «Будьте спокойны, – заверил его помощник шерифа. – Ещё как сумеет!» И тот действительно сумел – он вешал несчастного Тэпнера целых двенадцать минут!
«Герберт, причешите меня сегодня получше, хотя голове моей недолго оставаться на плечах, – сказал своему слуге сорокавосьмилетний английский король КАРЛ ПЕРВЫЙ СТЮАРТ. – Сегодня день моей второй свадьбы, и я хочу выглядеть, как жених. До наступления ночи я буду обвенчан с Иисусом Христом. И оденьте меня понаряднее». Во вторник, 30 января 1649 года, в Лондоне было морозно, и, одеваясь, Карл велел подать ему две рубашки: «А то стану дрожать от холода, а они ещё подумают, что это от страха. А я смерти не боюсь. Она для меня не страшна. Я готов». Около десяти утра за ним пришёл полковник Геккер: «Ваше величество, пора. Завтрак подан». – «Я не хочу есть», – ответил король. «Но не умирать же на пустой желудок», – удивился полковник. «Ваша правда». Карл выпил на дорогу стакан красного вина, заел его куском ржаного хлеба и сказал полковнику: «Идите, я следую за вами». Обитый чёрным сукном свежесрубленный эшафот был покрыт белоснежным слоем выпавшего за ночь снега (цвет невинности?). Карл ступил на него так, словно оказывал великую милость двум палачам. Оба, в матросских костюмах, масках на лице, париках и с бутафорскими накладными бородами, стояли у плахи с воткнутым в неё топором. Один из них попросил короля убрать под шапочку развевавшиеся на ветру седые волосы. Карл повиновался: «Оставляю сию тленную корону ради обретения нетленного венца от Бога за правду». Потом снял камзол, отдал епископу Джексону свои карманные часы и звезду ордена Подвязки и обратился к толпе: «Я ухожу из продажного царства в царство неподкупное, где не будет тревог… тревог… тревог… никогда на свете…» Потом сказал палачу с седой бородой: «Поставьте плаху потвёрже, чтобы мне не было больно. И рубите по моему знаку», после чего опустился на колени и положил голову на колоду таким образом, чтобы собравшиеся ротозеи увидели его в профиль, как на золотых гинеях и соверенах с его изображением. «Remember!» (Запомните!) – крикнул он своим подданным, «доброму народу Англии», одинаково равнодушному и к его судьбе, и к судьбам страны. В толпе смеялись, говорили о делах, о погоде, о холоде, о ценах на хлеб. Топор упал, голова короля отлетела с первого удара. Палач поднял её и прокричал: «Вот голова государственного преступника!» Люди бросились к эшафоту, чтобы смочить свои платки кровью: это приносит счастье, согласно поверью. Назавтра роялисты пришили голову короля к туловищу и погребли его в склепе Виндзорского замка. На гроб прибили серебряную пластинку с простой надписью: «Король Карл. 1649». В соседней таверне «Телячья голова» пили по этому случаю красное вино из телячьего черепа. На полях своей книги «Eikon Basilika» («Королевский портрет») Карл оставил последние рукописные слова: «Уж коль скоро мне суждено принять мученическую смерть, подобную смерти Нашего Спасителя, то это ничего более, как рядовая смерть, коронованная мученичеством». Король-мученик, Карл и искал мученичества. Своей смертью он спас монархию.
Кое-кто слова Карла Первого запомнил. Герцог ДЖЕЙМС МОНМУТ, непутёвый незаконнорождённый сын другого английского короля, Карла Второго, обращаясь на эшафоте к палачу, сказал: «Вот тебе шесть гиней и постарайся не рубить меня, как котлету, как ты это сделал с лордом Расселем». Палач деньги взял. Первый удар его топора нанёс Монмуту только легкую рану. Он оторвал голову от плахи и с упрёком посмотрел на палача. Тому понадобилось ещё семь ударов топора, чтобы покончить с несчастным герцогом.
Такое, впрочем, случалось и в нашей истории. Трое из пяти повешенных декабристов во время казни сорвались с петель, тяжестью своих тел проломив тонкие доски эшафота и провалившись в глубокую яму. «Божий знак! – закричали люди из толпы. – Тут перст Божий! Надо их помиловать! Простить их нужно! Нет такого закона, чтобы вешать сорвавшихся! Царь таких завсегда милует!..» Один из сорвавшихся, поэт КОНДРАТИЙ ФЁДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ, поднявшись на ноги, весь в крови, гневно закричал генерал-губернатору и жандармскому шефу Павлу Кутузову: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы будем умирать. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполнилось. Видите, мы умираем в мучениях! А ведь ещё скажут, что мне ничто не удавалось, даже и умереть!» – «Вешать их, вешать их скорее снова!» – скомандовал генерал Кутузов, стараясь перекричать оркестр Павловского пехотного полка, игравший марши и «разные штучки». «Подлый опричник, тиран! – вновь закричал Рылеев. – Дай же палачам твой аксельбант, он крепче верёвки!». Да что там верёвки! Даже подходящих палачей в Петербурге тогда не оказалось, так их, двоих, из Финляндии вызвали!
Другой сорвавшийся с петли, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ, в сердцах воскликнул: «Проклятая земля! Бедная Россия! Здесь не умеют ни составить заговор, ни судить… Даже повесить у нас порядочно не умеют!». Ладно, принесли новые верёвки из ближайшей москательной лавки и повесили в другой раз. Уже порядочно – с разломанными горловыми хрящами и вывихнутыми позвоночниками… Ночью трупы погрузили в лодку и отвезли на пустынный остров Голодай на Неве, где хоронили только самоубийц и закапывали скот. Победу царя Николая Первого над пятью декабристами отметили торжественным молебном. Посреди Кремля митрополит Филарет возблагодарил Бога за убийства. Вся царская семья усердно молилась, около неё сенаторы, министры… Пушки гремели с высокого Боровицкого холма. Никогда ещё до этого виселицам на Руси не оказывались такие почести. Один лишь священник Пётр Мысловский, настоятель Казанского собора, в чёрном одеянии, захлёбываясь слезами, служил панихиду по убиенным мужам – Сергею, Павлу, Михаилу, Кондратию и Петру… А палачи, пользуясь людской глупостью, бойко торговали снятыми с виселицы верёвками – на счастье. Благо их теперь было много… А в мятежной Варшаве польские повстанцы служили мессу о пяти казнённых декабристах.
Известный английский пират КАПИТАН УИЛЬЯМ КИДД на эшафоте был груб и несдержан: «Какое же вы ветреное, праздное и вероломное поколение!» – во всю глотку закричал он в толпу перед повешением. Кидд был в изрядном подпитии: пока его вели из тюрьмы Ньюгейт к месту казни на окраине Лондона, сердобольные англичане подавали ему чарку-другую. И добавил: «Если убьёте меня, то никогда не найдёте мои сокровища». Палач накинул ему на шею петлю и столкнул его в люк, но удача вроде бы улыбнулась капитану: верёвка, на которой его вешали, оборвалась под тяжестью его тучного тела, что случается не так уж и редко. Однако палач честно отработал свой хлеб: принёс другую верёвку, покрепче, и та уж не оборвалась, и «последний из настоящих пиратов», Кидд был вздёрнут под крики ненависти и плевки «праздной и ветреной» толпы. Его тело было вымазано дёгтем и выставлено на Темзе, где провисело более двух лет в назидание и устрашение всем другим пиратам. Сокровища капитана Уильяма Кидда до сих пор не найдены.
Дважды вешали и главного шпиона Германии ВИЛЬГЕЛЬМА КАНАРИСА, обвинённого в заговоре против Гитлера. Первый раз шефу абвера дали лишь «ощутить вкус смерти», а уж потом молодчики Мюллера повесили его по-настоящему в концентрационном лагере Флоссенбюрг, неподалёку от Вейдена, в Верхнепфальцском лесу. Свои последние слова «старый лис» передал «перестуком» соседу по кирпичному бункеру, подполковнику Лундингу: «Это, я думаю, был последний допрос… Ужасный… Сломали кости носа… Я думаю, моё время вышло… Если выживете, расскажите всё моей жене и дочерям …» В понедельник, 9 апреля 1945 года, около шести часов утра с Канариса сняли наручники и кандалы, раздели догола, как и всех других выводимых на казнь, а когда из канцелярии бункера раздалась команда «Пошёл!», «загадочного адмирала» вывели на тюремный двор, где он ещё успел сказать: «Я умираю за своё отечество с чистой совестью… Я лишь исполнил долг перед своей страной, когда пытался противиться преступному безрассудству, с которым Гитлер ведёт Германию к гибели… Всё было напрасно, и теперь я знаю, что Германия погибнет… Я знал это ещё с 1942 года». После Канариса в его камере № 22 остались Библия и томик стихов Гёте.








