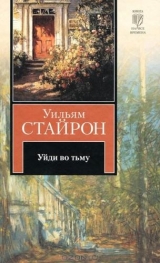
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
Лофтис заглянул через его плечо.
– Знаешь, эти паккардовские моторы странные какие-то, – услышал его Барклей. – Действительно странные. У меня в тридцать шестом был однажды «паккард». Теперь я люблю «паккарды» – у меня теперь «олдс», – я люблю «паккарды», они о’кей. Но мне пришлось чертовски туго с механизмом подачи. Я, по-моему, пять раз возил ту машину к Притчарду, прежде чем ее выправили.
– Да, сэр, – сказал Барклей. Он наливал воду в радиатор, высоко держа канистру, чуть не задевая локтем лицо Лофтиса.
– А «олдс» мне нравится из-за своего механического хода – точно скользит по воде. Ну-ка дай я тебе помогу. – Он взял канистру и оттеснил Барклея. – Я повыше тебя, – сказал он с легким смешком.
Вода стала выплескиваться на мотор, и Барклей подумал: «Черт, надо сходить принести еще».
– Есть люди, которые не любят чересчур быструю езду. А я люблю. Пикапы ездят медленнее – это правда. Но когда ездишь по городу столько, сколько я, то важнее скорость. – Он поставил на землю канистру. – Моя дочка вечно приставала ко мне, чтобы я купил машину с откидывающимся верхом, – ей всегда хотелось иметь такой «паккард». Я хочу сказать: для себя. Ты знаешь, как молодежь с ума сходит по машинам. – Он посмотрел на Барклея. – Сколько тебе лет – двадцать? Моя дочь была на несколько лет старше тебя, ей было… – Он взглянул на свои руки. – У тебя есть что-нибудь, чем я мог бы вытереть руки?
Барклей протянул ему тряпку, подумав: «Бедняга». Он видел, как дрожали руки Лофтиса, словно у парализованного, когда он усиленно вытирал их.
«Бедняга!» – подумал Барклей, недоумевая: что может сказать мистер Каспер, чтобы ему стало лучше?
Тут Лофтис перестал тереть руки, бесцельно посмотрел вокруг, словно решая отправиться в город. В лице его не было ни боли, ни страха. «Лицо у него, – растерянно подумал Барклей, – совсем ничего не выражает». Он стоял так, зажав тряпку в руке, лицо в каплях пота спокойное, как у дьякона. «Я должен был бы сказать, – подумал парень, – я, наверное, должен был бы сказать…» Но кожа у Лофтиса вдруг стала белой как мел, невероятно белой – такой, подумал Барклей, она не бывает даже у трупа, не то что у живого человека, – лицо по-прежнему спокойное, ничего не выражающее, но бесцветное, словно на нем никогда и не было красок, и на глазах у растерявшегося Барклея сухие бескровные губы вдруг зашевелились и произнесли:
– Мне плохо.
Лофтис больше ничего не сказал. Сознавая лишь, что вокруг него что-то происходит: передвигаются люди, несмотря на пыль, звучат удивленные голоса, словно голоса детей, попавших под внезапно хлынувший дождь, – он стоял, небрежно положив руку на крыло машины, а другой продолжая сжимать тряпку. Затем не спеша, словно сомнамбула, выпустил тряпку из руки и пошел, преодолевая пыль. Переходя через улицу, он подумал: «Я не должен здесь блевать. Надо дойти до такого места, где можно проблеваться…» Борясь с тошнотой, жаркими волнами поднимавшейся из желудка, и зайдя в полупустой ресторан, он прошел мимо молчавшего музыкального автомата, мигавшего калейдоскопом цветов – красным, синим, зеленым, и очутился в грязном туалете, где, согнувшись над нечищеным унитазом, стал спазматически выбрасывать из себя все, что мог.
Затем он вышел из туалета и сел на табурет в конце стойки, откуда ему виден был лимузин, – его все еще трясло, но он чувствовал себя уже лучше, поскольку тошнота проходила, и думал: «Я должен взять себя в руки. Я должен быть мужчиной». Таксист, евший в другом конце стойки, поднялся, расплатился и вышел со словами: «До скорой, Хейзел». Лофтис тупо наблюдал за ним в засиженное мухами окно: он прогуливался, посасывая зубочистку, лениво, инертно, с небрежной легкой непринужденностью поглядывая вокруг, – вылитый шофер такси к югу от Потомака. Затем он исчез, скрывшись за рамой окна. И Лофтис, озираясь с отсутствующим видом, обнаружил, что тут никого нет, кроме Хейзел.
– Хайя, что ж это творится-то? – сказала женщина. – Пылища ужас какая.
– Кофе, – сказал он.
– Послушайте, а вид-то у вас совсем больной, – сказала она. – Должно быть, вчера вечером высосали цельник.
Она вернулась к кофейнику. В помещении стоял знакомый кислый запах – не запах чистоты, но и не грязи, – запах жира, застоявшихся помоев, раскисших несъедобных кулинарных изделий, выпеченных много дней назад. Лофтис почувствовал спазм в желудке и подумал, что его сейчас вырвет, да его и вырвало бы, если бы этого с ним уже не произошло. Он решил уйти и уже приподнялся с табурета, но тут женщина вернулась с кофе, говоря:
– Я видела, как вы только что бежали в мужской туалет. Я решила, что вас, наверное, стошнило.
Он, ничего не говоря, стал пить кофе.
– Послушайте, да вас трясет. Надо вам что-нибудь принять.
Он ничего не сказал, думая: «Если я продержусь этот день, может, все и уладится. Я буду в полном порядке, прежде чем ты выйдешь замуж, – время все лечит, должно…»
– Я сказала Хейвусу – это таксист, который только что вышел, – я сказала ему, что вид у вас бледноватый. Я-то сама не пью, хоть и всегда говорю, пользуясь старой поговоркой: что хорошо для гусака, то хорошо и для гусыни…
«И Элен. Я верну ее, вылечу, она выздоровеет, я скажу ей, что наша любовь никогда не исчезала».
– …Господь знает: женщина несет такой груз, что ей иногда тоже хочется пропустить стаканчик. Собственно…
А он думал: «Успокойся, просто помолчи, успокойся», – зная, что в другое время сам завел бы разговор на любую тему, которая может представлять интерес: о погоде, ценах, даже о боге баптистов, – о чем угодно, лишь бы говорить. Будучи юристом, он ощущал потребность в контакте с людьми, а главное, хотел чувствовать, что его воспринимают и те люди, с которыми он ощущает себя не в своей тарелке. Имея дело – пусть самое пустячное – с людьми, чье социальное положение было ощутимо ниже его собственного, он терялся, чувствуя свою вину, но не доверяя им. Прачки, садовники, негры-поденщики, появлявшиеся у его задней двери с умоляющей улыбкой и просьбой пожертвовать старые вещи, – все они вызывали у него легкое смятение. Но уже давно, сознательно предприняв усилия, перешедшие в привычку, он обнаружил, что может избавиться от чувства неловкости, просто разговаривая с людьми. И он разговаривал, всегда первым затевая беседу даже на дико абсурдные темы, – не только потому, что хотел всем нравиться, хотя это было правдой, но и потому, что ему нравилось говорить, потому что ему нравились округлые фразы и потому что боялся одиночества.
Но сейчас эта женщина привела его в смятение, наполнила отчаянием, и он вдруг испугался, поскольку не понял ни слова из того, что она сказала. Казалось, это она была в смятении и страдала от пыли и тошноты – признака всего, что досаждает человеку, когда он больше всего нуждается в мире и покое. Это была высокая тощая блондинка лет сорока, с лицом землистого цвета, выпученными глазами и грубыми, мужскими чертами. Она стояла, небрежно прислонясь к застекленному стенду, полному бритвенных лезвий и завалявшихся сигар, поглядывала отсутствующим взглядом в окно, безостановочно болтая – пронзительно и без вдохновения, словно ей было безразлично, согласится ли кто-либо с ней и слушает ли ее сейчас Лофтис или, раньше, тот отзывчивый, никого не слушающий хор таксистов и железнодорожников, которые, налетая каждый полдень словно мухи, рассеянно мычали что-то между глотками пива ей в ответ, сидя по другую сторону стойки, где стоял гул их праздного разговора.
– Нет, – говорила она, – я лично ничего не имею против выпивки и, говорю вам, не понимаю, почему женщина тоже не может выпить, и ведь известно, что доктора часто прописывают токсины при определенных неполадках, и, ох, у моей невестки было хроническое заболевание матки, так что пришлось ее удалять, и доктор прописал ей пить виски каждый вечер перед сном…
«Пейтон, Пейтон», – думал он: ему удалось на несколько часов забыть обо всем, кроме утраты, и сейчас мысль о ней ворвалась в его сознание как удар кулака. Перед ним на стойку села муха – он понаблюдал, как черный мохнатый хоботок опустился на что-то липкое и отдернулся, радужные крылышки кокетливо взмахнули вверх, вниз. Где-то бесконечно гудел электровентилятор – негромко, но упорно, непрерывно.
– …это сестра моей помощницы, если можно так выразиться… – Она умолкла, и Лофтис, апатично глядя на нее, увидел, как она вдруг поджала губы с издевкой и презрением. – Вы, наверное, не видели его, потому как я редко, а то и вовсе вас тут не видала… малыша, – с издевкой произнесла она, – а она, бедняга, с таким-то грузом…
Пейтон… он видел ее сейчас – ее облик, формы, сущность. От мыслей о ней вдруг заполыхал огонь в груди. Утрачена? Исчезла? Ох, этот момент не должен был наступить, но он не растворится в воздухе как дым. Боже, выпить. Поднимая руку, он услышал легкий звук – словно зашуршала бумага в нагрудном кармане.
– Мужчины, – сказала женщина. – Мужчины! – говорила она.
Слепая, упрямая, она без устали болтала, перекрывая шум электровентилятора, звуки медленно капающей воды. Муха сделала круг и улетела.
Ах да, письмо – он совсем забыл о нем. Прежде чем уйти из дому час назад, он, не подумав, отложил его из страха, и сейчас с таким же страхом, дрожащими пальцами вытащив его из кармана, стал рассматривать конверт – зеленая марка, на которой трехмачтовая шхуна стоит на якоре, в память о чем-то затемненном извилистыми чернильными полосами почтовой печати. На секунду он положил конверт на стойку, подумав: «Я просто не в состоянии». А потом вскрыл конверт, увидел шесть исписанных страниц, знакомый женский почерк… Что-то – словно чьи-то руки – сжало его сердце, когда, дрожа, он нерешительно начал читать…
«Дорогой зайка, сегодня мне исполнилось 22, и я проснулась утром в грозу с чувством, что я такая старая – наверное, просто больная, и тут поступил денежный перевод с твоей милой вечерней запиской (люди на телеграфе, должно быть, думают, что ты мой возлюбленный), и, по-моему, теперь мне стало лучше. Я вышла и купила две кварты молока и концерт Моцарта, и, по-моему, теперь я чувствую себя лучше. И еще я купила прелестный большой будильник.
Зайка, ты и не представляешь себе, как мне тебя не хватает и как много значила для меня твоя большая замечательная телеграмма. Ты пыжишься изо всех сил и стараешься быть современным, а ты безнадежно старомоден. Все равно я люблю тебя, и мне ужасно тебя не хватает. Я чувствовала себя такой одинокой с тех пор, как уехал Гарри (эта новость действительно обошла город? Какой яд распространяли местные всезнайки? Что сказала она?). Дорогой зайка, я подозреваю: ты единственный, кто все понимает и кому это более или менее безразлично, во всяком случае, по части сплетен. В общем, мне одиноко – неприятно такое признавать, но, по-моему, это правда. Когда ты прожил с кем-то какое-то время, в твоей жизни образуется большая дыра, если они исчезают – даже если они невыносимы (это ты так считаешь) или просто ужасны (может, ты и так думаешь). Чувствовать этакую пустоту и тишину вокруг, когда ты прибираешься в квартире или ложишься спать, – это самое скверное, даже если этот человек вернется и ты захлопнешь перед его носом дверь (на самом-то деле нет).
Так вот, зайка, я просто лежала вчера вечером и думала о тебе. В Нью-Йорке летом так ужасно жарко. Я чувствовала себя такой несчастной. Внизу у нас есть бар (ты ведь не видел эту квартиру с тех пор, как я переехала сюда из Виллиджа), где полно невообразимо шумных итальянцев. Музыкальный автомат все время грохочет вовсю, и, конечно, летом становится еще хуже из-за открытых окон. Я положила на голову подушку и начала засыпать, когда Чеккинос (это смуглый усатый латиноамериканец, довольно неприятный молодой человек) ввалился пьяный – их квартирка напротив, в коридоре, – а она закричала как оглашенная и забарабанила в мою дверь. Так что я пролежала без сна, пока не закрылся бар, прислушиваясь к проезжающим автобусам и думая. Думы были не очень приятные, – собственно говоря, они были очень безотрадные, и мрачные, и унылые. Они начали одолевать меня, похоже, в последнее время; у меня бывали такие моменты и прежде, но они никогда не длились так долго, и это абсолютно ужасно. Вся беда в том, что они – эти мысли – четко не очерчены или не имеют ни к чему отношения. Это что-то вроде черного страшного тумана – ты как бы заболеваешь, ты так себя чувствуешь, когда начинается грипп. Я стараюсь с этим бороться, но оно проникает в тебя, и я ничего не могу с собой поделать. Когда думаю о тебе, это немного помогает, но не знаю: кажется, в действительности не помогает ничто. Я как бы плыву, точно я тону в каком-то темном месте, и нет ничего, что могло бы вытащить меня на землю. Тебе может показаться, что это должно быть приятно – тонуть вот так, но это неправда. Это ужасно. Затем, когда я вижу птиц, кажется (что-то вычеркнуто).
Ох, папа, я не знаю, в чем дело. Я старалась стать взрослой – быть хорошей девушкой, как ты бы сказал, но куда ни повернусь, я все больше и больше погружаюсь в страшное отчаяние. Что происходит, папа? Что происходит? Почему счастье так бесценно? Что случилось с нашими жизнями, отчего, куда бы мы ни повернулись – и как бы ни старались, – мы причиняем людям горе?
Я никогда еще не говорила тебе об этом, дорогой. Не знаю почему. Я только хочу, чтобы ты это знал. Пожалуйста, не чувствуй себя неловко.
Это правда. Все мы были такие недобрые. Я была такой недоброй к людям. Это (тут что-то вычеркнуто) проходит.
(Позже.) Ненавижу этот город, зайка. Все тут такое фальшивое, и жестокое, и уродливое. Но может, дело во мне – я ведь так любила его вначале. Энтузиазм, ученики в школе… знакомство с Гарри. Он на днях заходил забрать кое-что из своих вещей. Все было так напряженно, когда он вошел, – я была в полной панике. Я удивлялась: как я могла полюбить его? А ведь я его любила, очень любила. Возможно, это я оказалась недоброй и разрушила наш союз? Однако же я не могла этого признать – просто не могла. День был жаркий, и, наверное, мы оба плохо себя чувствовали, так что под конец стали ссориться. Я ужасно обозвала его и выбежала из квартиры, хлопнув дверью. А когда позже вечером вернулась домой, его уже не было, и я готова была умереть. Значит, я все еще люблю его, папа? Все еще люблю? Не знаю. Знаю лишь, что со мной происходит что-то ужасное. С тех пор как я ушла с работы, я почти ничего не делаю, поздно встаю, чувствуя, как это жутко жаркое солнце светит мне в лицо. Я сажусь и читаю и время от времени отправляюсь пройтись. Вот и все. Ну не ужасно ли рассказывать тебе такое? Но я хочу, чтобы ты знал.
Иногда я вижу Лору – ты ведь помнишь ее? Мы в тот вечер вместе ходили в „Вэнгард“. Она очень нудная, но я ей почему-то завидую. Может, это и есть ключ к счастью: быть тупицей, не искать никаких ответов.
Я думаю о Моди. Почему она должна была умереть? Почему мы должны умереть?
Ох, мне так тебя не хватает, папочка! Мне бы хотелось увидеть тебя, поговорить с тобой и услышать от тебя что-то приятное. Мне бы хотелось приехать домой! Птицы до невероятия не дают мне покоя. Такие бескрылые…»
Там было еще много написано, но он больше не читал – все стало безумным и непонятным. Он тихонько опустил письмо и взглянул вверх, где чудовищный дневной мотылек, обалдев от света, дико кружил вокруг висячей электрической лампочки.
– Что такое, мистер? – спросила Хейзел.
Лофтис не отвечал.
– Что такое, мистер? – повторила Хейзел. – Я ничем не могу помочь?
Он поднял на нее глаза.
– Моя дочка, – произнес он с безнадежной мольбой.
– Ах, бедный вы человек, – сказала Хейзел.
Он понимал: теперь ничего уже не изменишь. Он опустил голову на стойку и закрыл глаза. «Элен, вернись ко мне».
– Ах, бедный вы человек, – повторила Хейзел.
2
Долли Боннер осторожно, боком спустилась со ступенек станционного дока, словно боялась, что может упасть из-за высоких каблуков и узкой трикотажной юбки, если будет неосторожна, и заспешила к Барклею, все еще возившемуся с мотором.
– Ты видел мистера Лофтиса? – спросила она. – Где он?
Парень вскинул глаза и испуганно повел рукой, указывая на ресторан. Долли напугала его.
– Вон там. Вон там, мэм, – сказал он.
И с грохотом захлопнул крышку, поскольку только что увидел мистера Каспера, который, стоя у багажного вагона, где находились останки, подал ему знак подогнать катафалк. Пыль рассеялась, хотя в воздухе все еще крутились небольшие водоворотики и завихрения; сквозь одну из этих тучек Долли прошла к ресторану, стряхивая с юбки пыль. Она услышала громкие скорбные звуки гитары; защитив от света глаза, вгляделась в пыльное стекло. Внутри Лофтис сидел за чашкой кофе, а женщина за стойкой быстро и беззвучно открывала и закрывала рот. «Бедный дорогой Милтон!» По ресторану ходила радуга цветов музыкального ящика – вечно меняющийся красивый спектр; мужчина с низким печальным голосом пел: «Возьми меня назад, и сделаем еще одну попытку». Обычная народная песня, однако исполненная настоящего тихого горя. Бедный дорогой Милтон.
Она смахнула платком пыль с лица, попудрила нос и поглядела на себя в оконное стекло. Она была смуглая и хорошенькая и, пожалуй, могла бы быть красивой, если бы не слегка срезанный подбородок, отчего ее лицо казалось не безвольным, а скорее капризным, как если бы ее челюсть и губы могли, как у девочки, задрожать в любой момент от горя. Ее много рекламировали в связи с общественной деятельностью – в Красном Кресте, Женском клубе и тому подобных организациях, – и ее фотография, снятая вскоре после свадьбы, появлялась в местных газетах по крайней мере дважды в месяц в течение более двадцати лет, пока даже она не почувствовала неуместности шляпы-колпака и челки, что вызывало откровенные и скрытые насмешки в городе. И тогда она не без сожаления заменила фотографию другой, более новой, где у нее уже не было молодой улыбки, зато точно обозначались маленькие мешочки под глазами и складки на шее, дряблой и слегка сморщенной. Сейчас она в последний раз любовно провела пуховкой по носу и вошла в ресторан.
Она нежно положила руку на плечо Лофтиса.
– Дорогой мой, нам уже пора. Все готово и…
– Когда наступит великий судный день, – ровным голосом произнесла Хейзел, – вы с ней вместе выйдете на золотые улицы. Не волнуйтесь, мистер. Так сказано в большой книге. Евангелие от Иоанна, восемнадцать – тридцать шесть: «Царство мое не в этом мире…»
Лофтис тяжело вздохнул и поднял на Долли испуганные глаза.
– Ты говоришь, все уже готово?
– Да, дорогой. Пойдем.
– Это долина слез, – продолжала Хейзел, – будто входишь в гущу тумана…
– Сколько я тебе должен? – спросил Лофтис.
– Это будет пять центов.
Лофтис положил монету на стойку.
– Я всем сердцем с тобой, мистер. Право дело.
– Спасибо, – пробормотал Лофтис.
И машинально открыл для Долли дверь. Они вместе вышли на улицу, где уже исчезла пыль и теперь ярко светило солнце. Музыкальный ящик печально пел им вслед: «Возьми меня назад – давай еще раз попытаемся». Вдали уголь с элеваторов плюхнулся в море, сотрясая землю. «Давай еще раз попытаемся».
Они как раз готовились сесть в лимузин, когда Элла Суон, с трудом спустившись из дока, молча залезла на заднее сиденье; катафалк тоже тихо и величаво подъехал с печальным звуковым сигналом; пешеходы, освобождая ему дорогу, словно пчелы устремились к тротуару. Долли вошла в лимузин, за ней – Лофтис; поезд, который должен возвращаться в Ричмонд, издал печальный свист, и мистер Каспер вылез из катафалка и с кротким видом остановился у дверцы лимузина, словно епископ, собирающийся что-то освятить.
– Та-ак, – сказал он, заглядывая на заднее сиденье. – Все готовы? – Он слабо улыбнулся. – А-а, вижу. Все в порядке, можно ехать.
Итак, они наконец двинулись в путь: Долли и Лофтис рядом, Элла Суон – на откидном сиденье, прямая как палка, в черном шелковом платье и кружевах рококо, голова склонена то ли в раздумье, то ли в горе. Она молчит, и мистер Каспер на переднем сиденье включает мотор. Лофтис видит в маленьком зеркальце его веснушчатый лоб и рыжие волосы. Однако они проехали следом за катафалком не более ста ярдов, как вдруг катафалк свернул к обочине, остановился, и Барклей, высунувшись со встревоженным видом, поманил мистера Каспера.
– О Господи, – сказала Долли, – о Господи.
– Что случилось… – начал было Лофтис, нагнувшись вперед, но мистер Каспер уже остановил лимузин, вышел и прошел к катафалку, где завел над мотором беседу с Барклеем. – О великий Боже, – произнес Лофтис, не обращаясь ни к кому персонально. – Неужели не достаточно того, что на меня все это свалилось, чтобы еще что-то забарахлило? – Он уткнулся головой в свою руку. – Иисусе! Я этого не вынесу!..
Долли положила руку ему на плечо.
– Мужайся, Милтон, – сказала она.
Он молча поднял голову и уставился на катафалк. И отвернулся, словно получил удар, поскольку в этом затененном шторками полумраке увидел гроб, где лежала его любовь, которая – он вдруг с ужасом понял – должна сегодня исчезнуть навсегда. Право же, подумал Милтон, это больше, чем он способен вынести. Он отвернулся от катафалка и, выгнув шею, стал смотреть на залив. Долли прошептала что-то нежное, успокаивающее, безобидное и невнятное; он пропустил это мимо ушей, подумав: «Господи, как она действует мне на нервы». А впереди мотор катафалка зловеще громыхнул, слабо запульсировал и астматически задохнулся – с минуту голубой дымок витал по лимузину и растаял в воздухе. «Иисусе, – подумал Лофтис, – этого мне не вынести». Возле дамбы, куда он обратил взгляд, осматривая залив, был маленький клочок земли с травкой и платаном – поддеревом цветной мальчишка и его девчонка мутузили друг друга. Она, смеясь, схватила его – большой ее рот был широко раскрыт, округлен от восторга. «Попалась!» – крикнул мальчишка, и они покатились под тощий кустик и там замерли. Лето. Солнце безмятежно освещало залив. Группа суденышек для ловли устриц стояла на якоре вдалеке – они, точно коровы, смотрели все в одном направлении и, как коровы, почти незаметно повернулись: переменился ветер. Вверху, на небосводе, вспыхивал бледный свет – он появлялся яркими продолговатыми вспышками на фоне облаков, недвижно громоздившихся на горизонте. Свет был яркий и неприятный, несущий какую-то угрозу, – он наполнил Лофтиса чувством бури, опасности и предстоящего разрушения. «О Господи, – подумал он с легкой дрожью, – чем я завтра займусь?»
Должно быть, он при этом бессознательно вздохнул, издал какой-то звук, – возможно, поскольку снова почувствовал на своей руке мягкую, обтянутую перчаткой руку Долли, и ее голос нежно произнес:
– Я с тобой, дорогой. Я тут. Не волнуйся: я с тобой.
Он посмотрел на нее и попытался улыбнуться.
– Я не очень хорошо себя чувствую, – сказал он. Он вспомнил сцену в ресторане, и желудок его забунтовал. – Ничего хуже со мной еще не случалось.
– Дорогой мой, – сказала она, – надо мужаться. – Глаза ее сочувственно блестели, в них было искреннее, безграничное обожание – знакомое выражение, которое постоянно появлялось у нее, когда она была рядом с ним.
– Мне было плохо, – сказал он.
– О Господи! – воскликнула она. – О, мой дорогой.
– Меня вырвало. С желчью. Я бы слег. В любой другой день.
– Ох, бедный ты мой!
Она снова взяла его руку, и он намеренно раздраженно ее отдернул. В прошлом он жадно наслаждался бы ее чувством, купался в этой теплой атмосфере преданности. Последние годы он опирался на то, как она с неизменной любовью и желанием смотрит на него, – возможно, сам того не сознавая, опирался как на подпорку или костыль вместе с виски и с Пейтон; это поддерживало его, помогая жить, несмотря на немыслимое убеждение, что жизнь его не богата событиями, что нет в ней цели и вознаграждения. Это лицо, этот взгляд, это обожание во взгляде были уже достаточной ему наградой. Долли была покорной и боготворила его, и поэтому он ее любил. Так повелось с самого начала: он говорил – она слушала, а под этой своеобразной смесью достоинства и самоуничижения бежал ручеек чувства, которое они оба вынужденно именовали любовью.
Однако сейчас – как не раз бывало в последние несколько месяцев – ее присутствие начало раздражать его, угнетать; каждое произнесенное ею слово нервировало. Он жалел, что взял ее с собой. Только трусость, размышлял он, побудила его пойти к ней в то утро, когда Элен отвергла его. Он просто хотел, чтобы кто-то был с ним: ему было так необходимо с кем-то разговаривать.
– В чем дело, дорогой? – спросила Долли.
Он взглянул на нее. Она выглядела обиженной – обиженной, потому что он отнял у нее свою руку.
– В чем дело? – переспросил он. – О Господи, да право же… – И отвел глаза.
– Да, – мягко произнесла она. – Да, дорогой. Конечно. Я понимаю. Хотела бы я найти такие слова, от которых тебе стало бы легче. – Она порылась в сумке в поисках носового платка и промокнула глаза. – Но в такое время слова бессильны.
Он молчал. В лимузине стало отчаянно жарко. Элла Суон молча провела рукой по лбу. В воздухе удушливо пахло солью и дегтем, напоминая о море, о жаре, о загнивании. Лофтис скрестил ноги, развел их и непонятно почему чихнул – неужели они никогда не починят этот мотор? Раздалось слабое позвякиванье – он увидел торчащий под капотом катафалка зад мистера Каспера, обтянутый блестящей черной материей.
– Все, что пытаешься сказать в подобное время, – добавила Долли, – звучит так неуместно. – Она помолчала. – Почему-то.
«Да успокойся же. Просто помолчи».
Из-за угла выскочил огромный грузовик и, тяжело сотрясаясь, промчался мимо них к станции. На боку у него были большие красные буквы:
СКЭННЕЛЛ
Бочки с табаком высоко подпрыгивали в воздухе. Грузовик исчез позади них, оставив за собой слегка едкий запах табака. Мистер Каспер распрямился и вытер руки. Барклей залез в катафалк и включил мотор – тот издал громкий кашляющий звук, словно пес, выплевывающий с кашлем кость, и заработал; зонт голубого дыма вознесся в небеса, а Барклей отважно помахал из окна рукой. Мистер Каспер повернулся с расстроенным видом и залез на переднее сиденье. Катафалк поехал.
– Мне ужасно неприятно, – сказал мистер Каспер. – Ужасно. В такой день…
Речь его перешла в неразборчивый, еле слышный шепот, и лимузин тоже начал двигаться. По обе стороны дороги тянулись поля, заросшие болотной травой, шуршавшей в знойном воздухе; первые приземистые неприглядные городские дома замаячили впереди. По лимузину гуляли порывы воздуха, жаркого, насыщенного запахом мертвой рыбы и гниющей травы. Лофтис слышал доносившиеся с судостроительной верфи, находившейся недалеко, за болотом, звуки падающего металла, клепальных молотков, свисток поезда. Они проехали мимо маленького цветного мальчика, дувшего в жестяной рог, – он вытаращил глаза, глядя на катафалк, большие черные зрачки так и шныряли от удивления. Лофтис заерзал, взглянул на часы, снова скрестил ноги, думая: «Ну разве не достаточно чувства раскаяния? Неужели никак нельзя все это исправить? Неужели недостаточно этого горя? Сколько еще это продлится? Что я могу сделать?» Его по-прежнему преследовал призрак отца, слова, сказанные много лет назад, – старик, у которого неясность выражений часто походила на торжественную манеру речи и торжественную мудрость, но который тем не менее – несмотря на смесь догматизма и дезинформации, пробивавшуюся сквозь жалкие архаичные эдвардианские усы в виде скромного протеста непонимающего человека миру, давно ушедшему вперед, оставив его позади, – умудрился сказать если не действительно мудрые вещи, то по крайней мере долговечные общеизвестные истины, прошедшие проверку временем…
«Сын мой, никогда не позволяй страсти руководить тобой. Взращивай надежду, как цветок на голой земле беды. Если любовь разожгла пламя твоего богатого воображения, страсть сгорит в этом пламени, и лишь любовь выстоит… Послушай, сын мой…
Поверь мне, мальчик, у тебя хорошая женщина».
Лофтис заморгал, снова чихнул. Старик исчез с призрачной улыбкой благодушия; висячие неухоженные пятнистые усы перестали шевелиться, растаяли как дым…
В юности Лофтис относился к отцу терпимо и с плохо скрытым раздражением. Старик не отличался умом и – пришел к выводу Лофтис – был безусловно неудачником. Возможно, поэтому Лофтис никогда не воспринимал всерьез его советы. Но он, конечно, знал в день своей женитьбы четверть века назад, что у него «хорошая женщина». Что же до остального – до этих предостережений, о которых он вспомнил сегодня с чувством, что свершился рок, – он все это быстро отбросил, хоть и со смутным возмущением, возможно потому, что чувствовал: они могут сбыться. А что до любви… в самом деле, что можно сказать о любви? Страсть давно сгорела в том пламени, но тогда он забыл о предсказании отца и решил, что и любовь исчезла. Это было не так. С приливом нежности и тепла он понял, что любовь никогда не исчезала.
Внезапно он почувствовал жуткую боль в груди – словно вдруг вспыхнуло пламя. Пейтон. Она мертва. Это сказал ему Гарри. Он вспомнил ее безумное, дикое письмо. Смерть от падения. Птицы. Птицы?
А теперь он не мог вспомнить, когда эта страсть улетела, оставив его поглупевшим, и растерянным, и сбившимся с пути, – может такое быть с человеком?
* * *
Однажды весенним утром много лет назад, когда с травы почти исчезла роса, Лофтис, напившись кофе, сидел развалясь в садовом кресле, просматривая «Сандей трибюн» Порт-Варвика, и глядел, как утреннее солнце наползает на его частный пляж; из этого состояния его вывел шорох шагов сзади потраве и тоненький голосок, объявивший пылко: «Папа, папа, а я – красивая».
Он повернулся и с нежным вниманием, с каким отцы относятся к юным дочерям, наблюдал за Пейтон, а она, девятилетняя девочка, стоя в траве рядом с ним, произнесла, глядя в зеркальце: «Я красивая, папа!»
И это врезалось ему в сердце. Она была действительно красивая. Возможно, от первой сигареты, выкуренной утром, или от кофе, но у Лофтиса кружилась голова. Так или иначе, он навсегда запомнил этот момент на лугу – как он вдруг подхватил Пейтон в поистине диком приступе любви, прижал к себе и слегка сдавленным голосом прошептал: «Да, моя девочка – красавица», – с удивлением и легким смятением воздавая должное этой прелестной частице его, в которой жизнь будет биться бесконечно долго.
– …красавица, – говорил он, неуклюже прижимая ее к груди.
Ее длинные каштановые волосы закрывали ему лицо, превращая в слепца. Она хихикала, колотила его по спине, и зеркальце, которое она держала, выпало из ее рук в траву.
– Но не надо быть такой тщеславной, – сказал он.
– Нет, – сказала она.
– А ну давай вставай на ножки.








