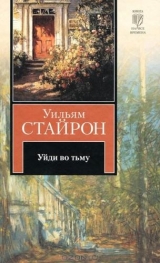
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
– Привет!
Эдвард, прищурившись, посмотрел вверх, приподнял стакан.
– Привет, старина. Пора вылезать из кроватки!
– Я уже вылез. Не холодно на улице пить пиво? Я думал, вы уже должны были уехать в Вильямсбург.
– Я оставлен надзирать. Элен поехала сама. Она сказала, что лучше мне быть здесь, помочь. Ха! – Он глотнул пива, оставив на губе кружево пены. – Ха! Ну как израненный в боях ветеран способен помочь на свадьбе? Это дело женское.
Эдвард выжил в боях под Гвадалканалом, получив раны в шею и, как он называл, «тум-тум», и не очень старался скрыть это. Он накануне вечером поздно приехал из Кэмп-Ли, но Лофтис не желал, чтобы его отвлекали.
– Когда она уехала?
– Около часа назад. Она заберет Пейтон и того парня из дома той девушки, где они остановились и должны были позавтракать, прежде чем приехать сюда. Элен звонила им по телефону. Спускайтесь, старина, и давайте выпьем накоротке. Откроем празднество и…
Лофтис снисходительно улыбнулся:
– Нет, спасибо, старина. Я не спешу.
И он опустил окно, поскольку холодный утренний воздух начал проникать под его пижаму. Упоминание о выпивке пронеслось мрачным облачком в его сознании, поскольку среди принятых им решений первым номером значилось решение о воздержании. Но мысль о выпивке прошла – достаточно было того, что приезжает Пейтон, – и он поскреб себя в ванне под звуки собственного безыскусного тенора, а пел он песню Кола Портера и думал о том, сколь многое обещает жизнь, о дисциплине и об исполнении желаний. Он плескался по-детски, выпуская воздушные пузырьки из мочалки и устраивая мыльную пену на волосах живота. И самое замечательное, подумал он, самое замечательное то, что Элен не только снова стала женой, матерью, hausfrau[22]22
Домохозяйка (нем.).
[Закрыть], не только стала вместе с ним заманивать Пейтон в лоно семьи, но и добровольно согласилась сделать первый шаг, приняв ее. Вчера вечером, вернувшись с концерта, Элен нервничала и была встревожена, так что Лофтису пришлось ее успокаивать.
– Вы думаете, она будет злиться и злобствовать, Милтон? Как вы думаете, что она скажет? Должна ли я… сделать первый шаг? Ну, вы понимаете: поцеловать ее? Скажите же мне, Милтон! Ох, я так волнуюсь… Скажите мне, дорогой: если она уже не злится, почему она сидит в Вильямсбурге, вместо того чтобы приехать домой? Почему…
Он осторожно взял ее за плечи и снова все повторил: она, конечно же, не будет злиться. Разве ее письма, адресованные им обоим, не доказывают этого? Разве она сама, Элен, не убедилась в этом месяцы назад – после всей переписки между ними, сначала неприветливой, с бесконечными заминками, а потом ставшей нежной, без слов прощающей, такой, какими были их письма в былые дни? Да, письма, конечно, не окончательное доказательство, но разве они не являются достаточным признаком, разве они не дают шанса? Не глупите, Элен.
Таким образом, она постепенно успокоилась и согласилась с ним. Собственно, он так преуспел убедить ее в добрых намерениях Пейтон, что она сделала совершенно удивительное предложение. Лофтис не поедет. Это она поедет с Эдвардом в Вильямсбург за Пейтон и Гарри, тем самым показав девочке, что она всего лишь хочет приветствовать ее как мать – одинокая, любящая, без Лофтиса, который своим присутствием может только развеять впечатление, какое она хочет произвести, – впечатление женщины, одиноко появившейся под октябрьским солнцем, одновременно кающейся и прощающей, и в силу своего одиночества являющейся символом смирения и раскаяниями теплой материнской любви. Лофтису это показалось немного театральным, но он знал, что Элен бывает иногда не чужда позерства, и сказал:
– О’кей, Элен, делайте так, как считаете лучше.
Что же до того, почему Пейтон и Гарри провели ночь в Вильямсбурге (в доме давней подруги из Суит-Брайера), то у Лофтиса на этот счет было свое мнение: возможно, Пейтон до сих пор немного боится своего дома и пытается облегчить свое постепенное возвращение домой, но он не поделился этой мыслью с Элен.
Элен тогда легла спать. Был еще ранний вечер. Лофтис остался один, и хотя был рад тому, что Пейтон наконец возвращается домой, он не мог по какой-то непонятной причине определить, чему он, собственно, радуется. Он прошелся по комнатам, поправляя картины, вытащил букашку из наполненной водой вазы для цветов – такие вазы были расставлены по всему дому для свадебных букетов. Он прошел на кухню, где за столом сидели Элла и Ла-Рут вместе со Стонволлом, сыном Ла-Рут. Элла и Ла-Рут готовили закуски, а четырехлетний Стонволл был занят поеданием их. Это был тощий маленький мальчик, бледнокожий, как белый человек, произведший его на свет, и глаза у него были как орешки, плавающие в двух лужицах молока. Когда Лофтис вошел, он обратил к нему эти глаза с любопытством и страхом, и Ла-Рут тихонько шлепнула его по пальцам.
– Не мешайся со своей рукой – убери ее отсюдова! – крикнула она. – Плохой мальчишка.
– Вы только посмотрите на нас, – весело произнес Лофтис. – Как мы поживаем?
Стонволл нырнул под стол.
– Мы – замечательно, спасибо, – жеманно произнесла Ла-Рут, нависая всей своей массой над чашей, полной резаных оливок, – радуемся жизни здесь, на кухне, готовясь к свадьбе. Бог ты мой, да тут же и сыр, и зеленые оливки, и черные оливки, и цветная капуста, и маринады «Хайнц», и икра селедки…
– Ты, наверное, имеешь в виду осетровую икру, – прервал ее Лофтис.
– Нет, – продолжала Ла-Рут, – я совсем не про то. Мама сказала мне…
– Заткнись, – сказала Элла. И посмотрела на Лофтиса со смущенной кривой улыбкой. – Клянусь, счастливы вы, правда? Клянусь, душа у вас радуется, верно?
Он согласился, жуя кусочек сельдерея, что это радует его душу, и направился к холодильнику за пивом, но тут Элла, сморщившись, в порицании сказала:
– Ну а теперь не стыдно вам?
– Всего одну бутылочку, Элла? Последнюю, перед тем как у меня отберут мою крошку. Одна бутылочка не повредит, Элла.
Она нехотя дала разрешение легким кивком и с сердитым видом наклонилась над сковородкой, полной хлебных мякишей, а Ла-Рут тихо хихикнула.
– Вылезай оттуда, Стонволл, – сказала она. – Он тебя не укусит.
– Не говори мисс Элен, – сказал Лофтис и направился на заднее крыльцо с холодной, вспотевшей бутылкой пива в руке.
«Это будет надолго моя последняя», – подумал он. Было очень тихо на воде и холодно, и луна, висевшая бледной лампой над заливом, казалось, проливала лишь холодный свет на скопление выцветших, пыльных звезд. Пьяный пилигрим, земля катилась сквозь сонмы астероидов, и падающие звезды, угасая в ночи, летели вниз, словно раскрошившиеся стекла. В своей замаскированной и озадачивающей радости Лофтис мог бы даже и всплакнуть, а также в благодарность за состояние спокойствия, в достижение чего – годы назад – он никогда не поверил бы.
Элен была права. Простое касание руки восстанавливает все, и кто знает, когда пальцы сплетаются и сжимают друг друга добела, до невидимых костей, какая возникает химическая реакция? Нам свойственна порядочность, и это пожатие, возможно, лишь укрепляет ее. Он сдержал обещания, которые дал Элен, и она, хоть и не давала никаких обещаний, озаренная светом его трансформации, раскрылась, как цветок, от которого откатили затенявший его камень, и он расправил под солнцем нежные лепестки благодарности. Все это нелегко далось ни ему, ни Элен. Он должен был кое-что в ней излечить, а поскольку она была сопротивляющимся пациентом, постаравшимся вскормить свои страдания, его лечение осуществлялось насильственно, круто и очень эмоционально. Вспоминая день, проведенный в Шарлотсвилле, он с ума сходил от чувства вины, от того, что видел, как гибнут их жизни, и ничто не казалось ему слишком жестким, если уметь сохранить равновесие. Даже его любовь к Элен, честная и глубокая, была подчинена этой цели. Он упал к ее коленям в байроническом раскаянии, дико вращая глазами, плача, с волосами на глазах, прося ее простить его за все – за Долли, за то, что из него не получился хороший юрист, за пьянство – и понимая – чувствуя, как пары виски забивают ему ноздри, а она встает и молча уходит, что все это достойно сожаления, что он сможет убедить ее, лишь прекратив заниматься тем, что позволяло ему быть таким величественно-скромным и кающимся. Дом был пуст. Моди из него ушла и Пейтон – тоже. Элен не выходила из своей комнаты и спала, убаюканная нембуталом; Элла приносила ей на подносе еду, Элен никого не видела, только читала старые журналы – «Джиогрэфик» и «Лайф». В церковь она больше не ходила.
Серым ветреным январским днем – специально, как она потом сказала ему, – она приняла немного больше, чем нужно, таблеток, и пришлось срочно вызывать доктора Холкомба, и он наложил стетоскоп на ее слабо бьющееся сердце и сделал ей укол. Когда Элен ожила, доктор ушел, осторожно, конфиденциально сказав Лофтису, что ему следует поместить ее куда-нибудь для лечения. Поскольку это был человек старый, подозрительно относящийся к прогрессу, он употребил термин «психиатр, удостоверяющий вменяемость», и это выражение, исходившее от человека, который, по мнению Лофтиса, должен знать, о чем говорит, наполнило его сверхъестественным и особым страхом. Он вернулся наверх – туда, где Элен сидела у окна, завернутая в одеяла. Он взял из ее пальцев зажженную сигарету.
– Он сказал, чтобы вы не курили.
– Да, я знаю.
Он сел рядом с ней на стул и, вздрогнув, обнаружил, что под ним оказалась бутылка с горячей водой, которую он тотчас вытащил. Элен позволила ему взять ее за руки.
– Элен, – сказал он, – мужчине нужно немало времени, чтобы научиться верить в жизнь. То есть некоторым мужчинам.
– Да, и… – начала было она.
– Что, милочка?
– Ничего.
– Мне, по-моему, потребовалось много времени. Когда я был мальчишкой – даже потом, когда стал старше, – я считал, что живу. Я кое-что узнал только недавно. Я думаю, с тобой должно произойти что-то ужасное, чтобы ты узнал, насколько ценна жизнь.
Он впервые употреблял такие слова; он сознавал их неполноценность, и он – человек, который всю свою жизнь швырялся словами, – впервые так остро ощутил неполноценность слов. Поэтому он сильно сжал ее руку, погладил пальцы, чтобы возместить недостачу.
– Посмотрите, какой я трезвый, – сказал он.
Такое было впечатление, будто ее хватил удар и она на всю жизнь осталась немой. Он помнил: была статуя женщины, которая стояла одна где-то в лесах его детства, – он запамятовал, где именно, – там было болотистое место, заросшее папоротником и лаврами, и сказочными кольцами росли поганки. Время не уничтожило ее красоты в такой мере, как дождь, поскольку она была из плохого камня, и так жаль, что она не могла говорить, потому что при всех дефектах – испорченных глазах и пострадавших от непогоды волосах – она жаждала, несмотря на монументальное безголосье, спеть песню или сказать слово: ее приоткрытые губы стремились что-то произнести, у нее было живое горло. Лофтис помнил, что он смотрел на Элен. Пытается ли она сказать что-то? Он не мог определить, поскольку свет угасал в комнате. Она прочистила горло, губы ее дрогнули, но она продолжала молчать.
– Вы понимаете, лапочка, что я имею в виду? Скажите, что понимаете. То, что я пытаюсь вам сказать.
А на дворе нельзя было отличить море от неба; там, где залив встречался с океаном, был покрытый пеной риф, буруны разбивались о серый камень – белые и бесшумные как снег. Лофтис снова с любовью в голосе сказал ей, как много она для него значит, как после всех своих ошибок он наконец понял, что его существование бессмысленно, если ее не будет с ним: Долли ушла из его жизни, и ради нее, Элен, он одолел свои слабости – ну, разве этого не достаточно? Он выложил ей все это подавленным голосом, со страстью и отчаянием. По мере того как он говорил, на ее красивом лице с каждой секундой появлялись следы болезненного и решительного отказа понимать его, а по тому, как она стиснула челюсти, он понял, что она по крайней мере слушала его. Он заметил, что в ее волосах молочными нитями заблестела седина.
– Неужели вы не понимаете, что я имею в виду? – снова повторил он, сжимая ее руку, а она – с этими глазами, словно защищенными, как часы, хрустальным стеклом, в котором все еще отражались осколки порожденных нембуталом снов, казалась воплощением «нет», безосновательным и безгласным. Он встал: терпение покинуло его.
– Вы больны, и я сожалею об этом, – с горечью произнес он. – Ну да поможет мне Бог: что еще я могу сделать? Я предлагаю вам себя, и это все, что я могу предложить. Я говорю, что есть вещи, которые могут помочь нам найти путь, – только это и ничто другое, и у меня такое чувство, будто я говорю с чертовым ветром. Вы больны. Конечно, вы горюете, но не одна вы горюете: я тоже внес в это свой вклад. Почему вы считаете, что только вы можете позволить себе роскошь жалеть себя и ненавидеть себя? Почему, Господи? Элен, я предельно выложился, чтобы вы поняли, как мне это важно. Настолько важно, что я готов сделать все, что умею, чтобы вы увидели, что я не сломлен и не такая уж неисправимая развалина, какой вы меня считаете. Я не гордился этим или толком этого не сознавал. Я считал, что наряду со всей дрянью, с которой вам приходилось мириться, я проделал свою долю безобразий, и я готов повесить замок на свой рот по поводу того, что я о некоторых вещах думаю, если только я мог бы изменить ваш образ мыслей. Если вы могли бы понять, что, признавая себя никаким не великим, я полагаю, я по-прежнему готов сделать все, чтобы начать по-хорошему. Великий Боже, Элен, простите меня за то, что я так говорю, если вы настолько больны, как я считаю, но что вы хотите от меня – мое мужское нутро, и мои яйца, и душу? Что, Христа ради, вы хотели получить? Я предлагал вам все, что имею…
Он умолк, поскольку, опустив глаза, обнаружил, что она немного повернулась к нему. Ее лицо утратило жесткость, и он предположил, что, должно быть, наконец пробудил что-то в ее сознании – какое-то воспоминание или признание, ибо что-то рассыпалось в ее глазах. Губы ее снова зашевелились, но она не произнесла ни слова.
Он снова с надеждой склонился над ней.
– Вы не все утратили, лапочка. Я по-прежнему ваш, если вы хотите меня. У вас есть Пейтон. Она любит вас. Мы вместе напишем ей, скажем ей, что все теперь о’кей. Она может вернуться и в будущем году окончить школу, как и следует. Лапочка, если вы только осознаете, что люди любят вас, вы поймете, что впереди у вас многие годы – Господи! – с внучатами… – Погруженный в свою безнадежность, он на секунду увидел роскошную картину чадолюбия, где были дети, десятки детей, розовых игрунчиков на вечно зеленой траве. – Неужели вы не понимаете, Элен? Пейтон не ненавидит вас. Она самое понимающее дитя на свете. Мы с вами должны только довести до ее сознания, как обстоят дела, и тогда все будут счастливы. Элен, вы все, что есть у меня, а я – все, что есть у вас. Если вы мне поверите – да Господи, лучшие годы жизни у нас еще впереди. Говорю вам, Элен, мы сможем побороть страх и горе, и все остальное, если вы только поверите мне и полюбите меня опять. Лапочка, мы никогда не умрем…
Каким-то образом это сработало, его убеждения тронули ее, и сейчас – накануне свадьбы Пейтон – он поражался этому не меньше, чем тогда, год назад. Залив застыл, словно вода в чаше, и на его поверхности, будто соскобленное с луны, небрежно лежало серебро. Она была почти призрачной, эта тишина, и если бы Лофтис бросил через дамбу бутылку пива и она с громким всплеском разрезала бы воду, тишина была бы нарушена не менее внезапно, чем когда он наконец сумел достучаться до Элен. Он мог лишь до сих пор удивляться тому, что он сказал, какое магическое слово побудило ее подняться и, сбросив одеяла, подойти к нему с закрытыми глазами и все еще болезненно-бледными и серыми щеками, словно этакая легендарная, прелестная средневековая дама, поднятая всесильной магией из могилы, и обвить своими невесомыми руками его шею и пробормотать: «Ох, дорогой мой, вы, оказывается, так хорошо меня понимаете».
Нет, он никогда ее не понимал, но в этот момент не было и нужды в понимании: она снова принадлежала ему, они были вместе, иона ему верила. Такое было впечатление, словно он своим самоуничижением снял все беды с ее плеч, и потом, только когда жажда виски становилась невыносимой, он начинал, хмурясь, думать, что он попал в чертовскую ситуацию.
– Дорогая, – сказал он ей в тот день, – дорогая, дорогая, вы поняли, верно? Вы поняли, что мне нужно, верно? Вы поняли. Я верю. О да, будучи вместе, мы никогда не умрем!
А потом ему стало трудно каждый день сохранять хладнокровие, зная, что он добровольно и покорно позволил ей восторжествовать. Его гордость порой отчаянно бунтовала, но он подавлял ее, думая о том хорошем, что еще будет, – о жизни, прожитой трезво и честно, принимая, однако, участие в пристойных и полезных развлечениях – по-прежнему гольф и беседы с добрыми друзьями; приезд домой Пейтон – с трагическими думами и трагическими событиями, надежно оставленными позади, как это бывает в умах настоящих виргинских джентльменов. Он надавал Элен диких опрометчивых обещаний, и это была борьба, но он не считал, что она рассчитывает, будто он их сдержит. Он был осчастливлен, когда она однажды сказала: «Не глупите, дорогой, меня не трогает, если вы пьете, лишь бы вы соблюдали немножко осторожность. – И с легким смехом добавила: – Господи, Милтон, неужели вам понадобилось столько лет, чтобы понять, что я вовсе не пуританка?» И он начал пить – не много, осторожно.
Долли, конечно, могла быть и в Тибете. Он лишь дважды видел ее после смерти Моди. Первый раз, когда он однажды вечером – через неделю после примирения с Элен – с опасениями и страхом вышел из дому и отправился на квартиру к Долли. Он намеревался изложить ей ситуацию возможно более честно, но отвратительно справился с этим. Как бы мало у мужчины не осталось под конец чувств к женщине, если они долгое время были вместе и близки, у него отложилась определенная терпимость к ее маленьким недостаткам, и он с таким же снисхождением вспоминал грязные тарелки в ее раковине, ее третьеразрядные книги и странный вкус в музыке, треснувшее зеркало, которое она так и не починила, как вспоминал ее губы и бедра. Вспоминая все это в связи с Долли, он расслабился к тому времени, когда подошел к ее двери, и после кофе с тортом, собравшись уходить, смутно пообещал ей скоро увидеться. Когда же она, взглянув на него с дурным предчувствием, спросила: «Когда, когда?» – он ответил лишь: «Скоро, скоро», – и вышел, преследуемый ее взглядом, который говорил: «Ох, ты же бросаешь меня».
Но он дал слово. Подумай он хотя бы минуту об этом предательстве, он понял бы, что погиб. Он старался забыть ее, и преуспел: она исчезла из его сознания подобно этим несчастным людям, замурованным в цементе, которых выбрасывают за борт, и они летят на дно моря. Хотя она его не забывала. Как раз когда он выбросил ее из головы, она начала звонить ему, и поскольку он неизменно вешал трубку, она стала слать ему записочки, написанные бледно-лиловыми чернилами, полные тоски и мольбы, надушенные и с приложением унизительных сувениров: роз, сорванных ими во время Недели садоводства в Вестовере, открытки, которую он купил ей на «Поездке в Небо», двух палочек от эскимо, которые они с осознанным легкомыслием ели на ярмарке в Ричмонде. Эти записочки стыдили его, возмущали; именно такие вещи, о чем он однажды рассказал Долли, говоря об Элен, – липучие сладостно-горькие памятки, доводившие его до исступленного раскаяния; наделав столько бед, сумеет ли он когда-либо зажить настоящей жизнью?
Однажды вечером Долли навестила его. Это был безрассудный поступок, но ей повезло, поскольку Элен на неделю уехала к своей невестке в Пенсильванию. Это была ужасная сцена. Долли ворвалась в дом с сильного дождя – мокрые волосы ее змейками налипли на лицо, она неуклюже пригрозила ему канделябром, ее вырвало на ковер, она поскользнулась и упала в лужицу, где и осталась лежать в беспамятстве. Лофтис впервые видел ее пьяной, и потому не знал, как с ней держаться. Он привел ее немного в порядок и отвез к ней на квартиру, где осторожно уложил в постель и какое-то время подержал за руку, слушая, как она бормочет, мешая фантазии с воспоминаниями. «Упокоенные в алебастровых гробницах, – эти строки он однажды прочел ей из книжки стихов, принадлежавшей Пейтон; строки, которые он забыл и не мог понять, как Долли могла их помнить, – спят кроткие участники воскрешения». И она опустилась на подушки словно Камилла и наконец благополучно забылась, а он, вытирая пот со лба и с болью сожаления в сердце, воздал Богу или кому-то свою первую в жизни честную молитву.
Больше она его не беспокоила. Из-за этого инцидента он еще сильнее постарался ее забыть. В конце апреля они с Элен сели на поезд и отправились на три недели на курорт под Эшвиллем, и там, среди затянутых туманом холмов, в прохладном, насыщенном ароматом папоротников воздухе, где небо над ними казалось бездонным озером, они оба успокоились. Он постепенно вернул ее мысли от Моди и заботливо заставил делать то, что полезно для здоровья, – плавать и ездить верхом, ходить по вьючным тропам. Лицо у нее было усталое и в морщинах, но в новом купальном костюме тело все еще выглядело теплым и способным воспринимать любовь. Он трижды занимался с ней любовью – сам акт ему не особенно понравился, но потом – когда она мирно дремала возле него – он был рад и горд, что находится тут, а не в постели с отдыхающей разведенной из Атланты, которая усиленно завлекала его и у которой была такая идеальная кожа, что казалось, хорошенький молодой овал ее личика покрыт лаком и рассыплется от прикосновения. Он с грустью подумал о Долли. Но!.. «Я люблю вас, мой дорогой, – снова и снова говорила ему Элен, – как могли мы потерять столько времени? Простите меня, – говорила она, крепко вцепившись в его руку, словно отпусти он ее, и они снова поплывут в разные стороны, – простите меня, простите, простите, я была такой дурой». И когда Элен говорила такое – совсем как в кино, с таким убеждением, он был не в состоянии решить, кто же из них был все-таки дураком – он сам или Элен.
Вечерами они пили слабое пиво военного времени с членом клуба «Ротари» и его женой из Лондона, что в Онтарио. Мужчину звали Малкольм Макдермотт; он появлялся в шотландских юбках и с изогнутой палкой, и слушать его было все равно что слышать, как вода с грохотом льется в старую ванну. Вопроса не было, как понимал Лофтис, кто носит юбки в семье, ибо он был из тех мужчин, при чьих высказываниях жена кротко присутствует подобно волнующейся горничной, и если она заговаривала, то с таким видом, словно только что застенчиво вбежала в комнату, чтобы стряхнуть крошку, и тотчас снова отходила к стенке. Ей было немногим больше пятидесяти, и у нее было пухлое лицо канадки с блестящими глазами. Когда Элен упомянула, что в их семье недавно произошла смерть, пухлые губки Кэти приобрели трагическое выражение, и она сказала Элен, что тоже перенесла потерю ребенка, но что она нашла чем себя отвлечь, и брякнула что-то насчет золотых рыбок.
– Кэти, девочка моя, – прогремел Макдермотт, – ну что мужику делать с золотыми рыбками в доме? Одно беспокойство!
– Для нее, Малкольм, – пропищала она.
– Золотые рыбки?!
Тема эта тут и сгинула, но она придала разговору интереснейшую окраску, ибо скоро Лофтис, к своему удивлению, услышал, как Элен заговорила про Пейтон.
– Моя дочь, – сказала она, – моя младшая дочь изучает искусство в Нью-Йорке. Она такая душенька, хотя я, наверное, пристрастна как мать. Она уже довольно долго не была дома, ну и вы знаете про обои – я говорила вам прошлым вечером, какой мы купили рисунок? Ну, понимаете, я и не думала отделать ими комнату, не показав предварительно ей, – у нее все так хорошо в Нью-Йорке…
Лофтис чуть не рехнулся, а потом, в своих комнатах, первым делом попросил Элен, пожалуйста, повторить то, что она сказала Макдермоттам.
Элен выглядела уставшей, но в глазах ее было высокомерное удовлетворение, чуть ли не облегчение, когда она подошла к нему и, положив голову на плечо, сказала:
– Ну не отчаянная же это была ложь, дорогой? – Она вздохнула. – Пейтон. Ведь мы почти ни слова не говорили о ней, а теперь я сказала. Ох, дорогой, я так хочу, чтобы она вернулась домой – хотя бы ненадолго, я так хочу ее увидеть. Вы ведь верите мне, верно, дорогой? Подскажите, как мне написать ей… подскажите… – Она хихикнула. – Такие смешные эти Макдермотты. Подскажите мне, дорогой. Давайте вернемся в дом…
Он тоже опустил голову, мягко, а вокруг них синий вечер, казалось, таял и умирал, и вместе с его затуханием в тумане возникло с десяток звуков, которых Лофтис прежде не слышал: сверчки и шустрая возня детей, шаги в коридоре, тихие пожелания спокойной ночи и биение их сердец, колотившихся как барабаны. Это был – по любым мерилам – самый приятный момент на его памяти, и вечером накануне свадьбы Пейтон Лофтис вспомнил его – как бились в унисон их сердца в победоносном и диком экстазе. Мужчина столь неодаренный, рассуждал он, мог достичь того же, что и великие люди, будь у него терпение и искорка удачи, хотя его собственная дорога идет под откос к горькому роковому концу. Ветер, гнавший ночь по промерзшим акрам звезд, вдруг пронизал Лофтиса холодом, и его жизнь показалась ему случайностью; тем не менее был у него свой взлет, своя минута славы перед последним спуском. Вы знаете о падении этого человека; а вы знаете о его борениях?
Привези снова домой невесту, привези домой триумф нашей победы.
* * *
Приняв ванну, побрившись и причесавшись, надев костюм из твида в елочку и клетчатый жилет, он пересек гостиную, пожав по дороге с полдюжины протянутых с поздравлением рук. Было четыре часа дня, обряд должен состояться через полчаса, и в доме было полно гостей. Они пришли – мужчины средних лет с женами, мужчины помоложе с лысеющими висками и с женами, старавшимися в тридцать пять справиться с легкой полнотой, и самые молодые – юноши и девушки семнадцати, восемнадцати и двадцати лет, которые, всем улыбаясь и держась за руки, старались ни от чего не отказаться, кроме, возможно, мрачных мыслей, поскольку ведь шла воина и кому-то из них предстояло туда отправиться, – все эти люди пришли сюда, чтобы свадьба Пейтон прошла успешно. Многие из них были друзьями Милтона и Элен, а молодежь – друзьями Пейтон из Суит-Брайера и университета, и Порт-Варвика. Настроение у гостей было самое разное, вызываемое свадьбой. Молодые замужние женщины находились в состоянии возбуждения и восторга – лишь порой их ненадолго посещала депрессия, – а их мужья попыхивали трубками – и курили сигареты, и поглядывали на молоденьких девочек, которым еще не было двадцати. Эти молоденькие девушки, с мягкой девственной медлительностью растягивавшие слова, с влажными накрашенными губами и маленькими веснушчатыми грудками, упруго поднимавшимися и опускавшимися от дыхания, стояли кружком и болтали, стараясь выглядеть чопорно, а выглядели лишь все более и более взволнованными, по мере того как приближалось время обряда. Среди седых мужчин царила скука, но хотя они свысока смотрели на молодежь, тем не менее это было всегда по-доброму, а их жены, периодически отправлявшиеся полюбоваться свадебными подарками, теряли дар речи, преисполняясь сентиментальностью и с трудом сдерживая слезы.
Почти все пришли; они растеклись по столовой, по двум коридорам, по обоим крыльцам и – поскольку было тепло – по лужайке. Тут был адмирал Эрнест Лавлейс, военно-морской инспектор на верфи; он два года назад потерял жену в автомобильной катастрофе. Тут были Манси и Кафберты и Хеджерты. Все трое мужчин этих семейств работали менеджерами на судостроительной верфи. Был тут и сам пожилой Картер Хьюстон с женой, продолжавшей в семьдесят лет считаться виргинской красавицей; эти двое сидели в одном из углов, и все уделяли им внимание, поскольку он был начальником на верфи. Были тут Эпплтоны и Ла-Фаржи и Фаунтлерой Мэйо, принадлежавшие к первым поселенцам в Виргинии, а также семейство Мартина Браунштейна – евреи, так давно жившие в Виргинии, что их принимали за виргинцев. Затем была тут группа врачей с женами – доктора Холкомб и Шмидт, и Дж. И. Б. Стюарт, и Лонерген, и Балуинкл, от них всех слегка попахивало эфиром, и был тут еще доктор Плюит Делаплейн, который впервые робко появился на публике после суда над ним, оправдавшего его за преступно сделанный аборт. Был тут и бедняга Медуик Эймс с женой, закатившей истерику, и мастер Стабесс, и капитан первого ранга Филлипс Киндермен с женой.
Среди более молодых людей были Уолкер Стюарт, а также П. Монкьюр Юрти и Джордж и Герда Роде, которые, как все знали, были на грани развода, ну и торговец мужской одеждой по имени Вишенка Пай. Приехали и Блевинсы, и Каппсисы, и Джон Дж. Малони с супругой. А также Дэвисы, и Янгхасбандсы, и Хилл Мэссизы, которые выиграли однажды десять тысяч долларов в конкурсе на лучшую рекламу, и зубной врач по имени Монро Хобби, который хромал. А среди самых молодых – большинство юношей пришли в форме – были Полли Пирсон и Мюриел Уэст, а также стройный как тростинка юноша по имени Кэмпбелл Флит, которого, по слухам, исключили из колледжа Хампден-Сидней за гомосексуализм, и богатые сестры Эббот – это были хорошенькие блондинки, и их отец нажил состояние на кока-коле, а также Джилл Фозерджилл, приехавшая с Дэйвом Тэйлером, и Джеральд Фитцхью. В этой группе были также Эштон Брис и толстяк по имени Чарлз Уинстед, которого отсеяли из Принстона, и Брюс Хорнер. Эти трое были в военно-морской форме, как и Пэкки Чюнинг, лейтенант, получивший Военно-морской крест на Соломоновых островах.
Лофтис обнаружил Пейтон наверху – она сидела одна и листала мировой атлас, выглядела хорошенькой и немного скучающей.
– Где твоя мама, дорогая?
– Она пошла на кухню позаботиться о шампанском. Зайка, ты знал, что во всем штате Делавэр всего три округа?
– Нет. – Он сел рядом с ней и поцеловал ее в щеку. – Крошка, крошка, – сказал он, – у меня почти не было времени поговорить с тобой. Ты не взволнована? Выглядишь ты чудесно. В жизни не видел более красивой и неволнующейся невесты. Что…
– В Виргинии – сто округов.
– Сто?
– Сто округов – так тут сказано. А в Техасе – самое большое количество…
Он отбросил книгу и, подхватив ее, смеясь, прижал к себе и стал беспомощно целовать. Она лежала – нежная и не сопротивляющаяся – на его плече; он вдыхал аромат ее надушенных волос и был ослеплен красотой воткнутой в них гардении, оказавшейся как раз под его левым глазом.








