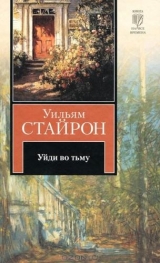
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
4
Всю дорогу, пока его преподобие Кэри Карр ехал к Элен – да, собственно, все утро, – он думал: «Бедная Элен, бедная Элен». Только это и ничего больше – при таком огромном и безнадежном несчастье ни набожность, ни молитвы не помогут; он должен врачевать лишь состояние человека, притом с помощью скромных человеческих возможностей, так что он снова думал лишь: «Бедная Элен, бедная Элен». Он остановился возле обочины, у светофора. Шоссе спускалось вниз, отражая солнечный свет, волны жары, и его машина «шевроле»-купе стала съезжать на пешеходный переход. Поглядев вокруг, Карр нажал на аварийный тормоз. Над стоявшим на углу киоском, торгующим шашлыками под полуденным солнцем, висели неоново-голубые часы. Было половина двенадцатого – он опаздывает.
Кэри Карр носил очки, и у него был подбородок с ямочкой. В сорок два года он все еще очень молодо выглядел – у него пухлые щеки и жеманный рот, однако для тех, кто знал его, это херувимски безучастное и бескровное лицо быстро менялось: все знали, что на этом лице может появиться решимость и бездонная страсть. Совсем молодым человеком он пытался вобрать в себя всю красоту мира, и не сумел. В шестнадцать лет он был поэтом, убежденным, что отсутствие мужественности – это нечто трагичное, даже благородное и порожденное роковой потребностью. Он был единственным ребенком. У его матери, вдовы, были красивые влажные глаза, прелестная кожа, обтягивавшая хрупкие дуги скул, и губы с опущенными уголками, так что всегда казалось, будто она немного скорбит о чем-то. Но она вовсе ни о чем не скорбела. Она была милой, заботливой женщиной с несколько старомодной веселостью, и она любила Кэри больше всего на свете. Она развивала его чувствительную натуру. Когда ему исполнилось семнадцать, она отправила его в Вашингтон и в Ли, где проживал в то время один старый и знаменитый поэт. Но это была ошибка. Уверенный в своей гениальности, Кэри целый год писал по сонету вдень, и наконец, исполненный надежд и окончательно выдохшийся, понес поэту триста сонетов в фиолетовой обложке – не столько для одобрения, сколько для восхищения. Какая это была ошибка! Поэт был вздорный громадный мужчина и решал большинство своих проблем за едой, злобствуя и без конца болтая об учениках, которых он подозревал в извращениях. Он больше не писал стихов, да и вообще стал презирать поэзию, кроме своей собственной, – свои стихи он читал субботними вечерами полдюжине юношей, апатично сидевших вокруг него на полу и попивавших херес. Он попытался проявить мягкость к Кэри, но сумел лишь сказать ему горькую правду: сонеты, как наконец узнал юноша, были отчаянно плохи. Он слишком многого ждал от них, и провал пошатнул его здоровье и разум. С ним произошло то, что называли тогда «нервным срывом», и его мать, жившая в Ричмонде, поспешила отправить сына в горы Блю-Ридж, в санаторий.
Со временем его беспокойная душа обрела силу. По подсказке матери он начал читать Библию. Горы успокоили его; мозг снова заработал, но только в другом направлении: Кэри понял – с тем же пылом, с каким он создавал свои сонеты, – что Господь обитает на этих высоких склонах. Ему явилось видение, которое – казалось ему сейчас – возникало перед ним на протяжении многих месяцев. Его лихорадочное воображение взлетело в неземные высоты, в долины высоко в горах, где дымился дух вечности, – вспышка света обволокла его, и он понял позже, что это было чудо, поскольку этот свет, конечно же, был светом самого рая. Но затем он тихо опустился на землю на волнах света – потрясенный, принесенный в жертву, смутно неудовлетворенный. Он решил стать священником, вернуть то видение, проведя жизнь в тяжелой работе и в молитвах. Мать поощряла его в этом. «Кэри, дорогой, – говорила она, и ее глубоко запавшие влажные глаза становились ласковыми, а уголки губ красивого и печального рта опускались, – твой дед имел духовный сан, и его отец тоже. О, я буду счастлива, если ты так поступишь». Возможно, она считала, что таинства теологии позволят ей даже крепче держать его в руках, сохранить его только для себя. Но тут она тоже ошибалась. Дело в том, что, когда Кэри через несколько лет вышел из александрийской семинарии, это был уже другой человек. Он набрал тридцать фунтов веса и с большим трудом научился плавать и играть в софтбол, а также вообще забыл о своих бабьих слабостях, – обретя эту новую приятную зрелость, он даже завел роман с девушкой, работавшей секретарем в одной из контор семинарии. И быстро женился на ней. Год спустя его мать умерла, рыдая и говоря в бредовом состоянии, что ее всю жизнь обманывали и одурачивали – в чем именно, никто не мог бы сказать, – и умоляя Эдриенн, на которой Кэри только что женился, заботиться о нем и любить его, как это делала она.
Он служил в Порт-Варвике восемнадцать лет помощником пастора, а потом пастором в протестантской епископальной церкви Святого Марка. У него было три дочери, о самой младшей из которых он подумал сейчас, стоя у светофора, поскольку вчера был день его рождения и он чувствовал на своих щеках слабый запах лосьона для бритья, подаренного ею. И вспомнив про девочку, которая на минуту вторглась в его мысли – а то они все утро были уж очень мрачными и полными меланхолии, – он улыбнулся и вдохнул запах лосьона для бритья. Затем он вспомнил Элен Лофтис, и лицо его снова стало серьезным, исполненным все того же молодого неизменного пыла, пыла – хотя он не отваживался так думать, – порожденного частично странным и трагическим сожалением, какое он чувствовал, ни разу не сумев увидеть самого Господа, а частично преданностью – преданностью своей миссии, хоть и не такой большой, но которую он исполнял как мог.
Казалось, красный свет горел на светофоре уже несколько минут. Машина прачечной выскочила из-за машины Кэри, и водитель, мальчишка с голыми тощими руками и отвислой нижней челюстью, с наглой ловкостью поставил свою машину рядом с ним. Они обменялись равнодушными взглядами, и хотя Кэри попытался изобразить слабую улыбку, парень отвернулся и стал с угрюмой сосредоточенностью изучать рекламный щит. Кэри тоже отвернулся, потея, продолжая наблюдать за светофором, по-прежнему горевшим красным светом, и за перекрестком, где медленно двигался пожаре пригородный автобус, направляясь на запад, и исчез, словно проглоченный ядовитыми лиловыми волнами своих выбросов.
Вспыхнул свет: «Проезжай!» – и машина прачечной, раздраженно взвизгнув шинами, рванулась вперед, промчалась мимо него, исчезла за палаткой шашлычника. Он поехал, воздух, овевавший лицо Кэри, немного охладил его, и поскольку было жарко, поскольку необходимо было ехать, он подумал: «Я просто обязан там быть». И поехал по шоссе со скоростью пятьдесят миль в час.
Кэри жил на противоположной от Лофтисов стороне города. Он редко ездил туда, где жили Лофтисы: хотя путь был короткий, дорога не годилась для быстрой езды, и Кэри сейчас в какой-то мере это почувствовал – заасфальтированная дорога была проложена через малые болота, ею не пользовались ни промышленные предприятия, ни обитатели, она была унизана обветшалыми гаражами и киосками, торгующими горячими сосисками, а также намокшими палатками «Мадам Ольга» и «Дорин», принадлежавшими в большинстве своем хироманткам, многострадально балансирующим между посещениями бедных, взволнованных невропаток, сбившихся с начертанного Богом пути, и ежемесячными рейдами окружного шерифа. Кэри увидел сейчас такую палатку – она была расставлена в леске, – и старая незнакомая женщина в переднике и расшитом стеклярусом платке повернулась под соснами и мутными глазами неуверенно наблюдала за ним. Потом она исчезла.
А вот Элен… Что он скажет Элен? Он боялся встречи с ней, однако в то же время понимал, что из всех окружающих ее людей именно от него должна она получить сегодня наибольшую поддержку. Кэри смущало горе. Хотя он был уверен, что чувствует и понимает все так же досконально, как любой человек, он был по натуре консервативен и застенчив и даже после стольких лет своей службы лишался дара речи в присутствии пораженных горем людей. Он чувствовал себя не в своей тарелке как от разнузданной веселости, так и от чрезмерного горя, – особенно от горя; он предпочитал приятно и спокойно плыть по течению, а в данном случае он понимал: произошла небольшая трагедия. Когда ты такой осторожный и замкнутый, как можно надеяться стать епископом?
По сосновому лесу пронеслась тень ястреба – видение, черное как дым; сосны, казалось, сотряслись и задрожали, но ястреб исчез, пролетев над крышей бензоколонки, – сумеречная тень с распростертыми, словно распятыми на кресте, крыльями. Кэри взглянул на свои часы: надо спешить. Он посигналил, безрассудно пошел на обгон, невзирая на то что впереди маячила встречная машина. Сердце у него подпрыгнуло, но маневр удался; шофер третьего автомобиля, оказавшегося пикапом, погрозил ему кулаком, когда они поравнялись, и выкрикнул какую-то непристойность. Весь дрожа, Кэри немного сбавил скорость, думая: «А ведь это могло плохо кончиться». И снова: «Бедная Элен, бедная Элен».
День, казалось, был полон ужаса. О чем он думал? Она никогда не станет плакать. Это безнадежно. Она утратила способность любить или горевать – вот так весну в безводной горной стране иссушает солнце. Это самое скверное. О чем это он думал? «Господи, – думал он, – я должен сделать так, чтобы она увидела свет. Я должен снова соединить их. Господи, дай мне силы». Страстное желание обуяло его, глаза увлажнились слезами. В негритянском квартале, проехав мимо разваливающихся сараев, увитых выросшей за лето жимолостью, где по пыльным дорогам медленно двигалась процессия женщин в передниках, он осторожно притормозил, подумав о святом Бернарде.
– О, любовь, – произнес он вслух, – все, что произносит обвенчанная с тобой душа, отдается в тебе: ты обладаешь ею, сердцем ее и языком.
«Неужели нет способа поднять ей настроение, – подумал он, – помочь ей собраться с силами?» Кэри думал об этом все время, пересекая негритянский квартал. Он продолжал ехать. Эта идея завладела им; раздумывая, он вытер пот со лба, свернул на дорогу, идущую вдоль берега, а там, далеко, сидел на своем ялике одинокий цветной рыболов и загробным голосом старался вызвать ветер: «Жажду, чтоб ты пришел, жажду, чтоб ты пришел…»
Элен пришла к нему, вспоминал он, шесть лет назад вечером, в дождливое октябрьское воскресенье, когда на лужайке у дома приходского священника мокрыми разбросанными кучами лежали листья платанов, принесенные с реки ветром – предвестником холодов, что заставляло его мечтать о новой печке и безнадежно думать о том, чтобы Бог, которому он молился, явился наконец ему в этом году, и предпочтительно – до своего пришествия. Это было время, когда Кэри заглядывал себе в душу и предавался смутной аморфной скорби. Пришла война, и ему трудно было говорить о вере людям, чью веру, в любом случае слабую, унесло грозным ветром «космического катаклизма», как он выразился в то утро, видоизменив свою проповедь. Были у него и личные заботы. Термиты изгрызли большинство балок в подвале, прямо под столовой – он обнаружил это лишь недавно, после беспечно проведенного, беззаботного лета, – и есть в столовой стало неспокойно и рискованно; мысли о том, какие придется оплачивать счета за ремонт, волновали его. А накапливались и другие счета: две его девочки в этом году переболели детскими хворями и по легкомыслию заразились друг от друга – он задолжал педиатру двести сорок долларов. Собственно, встреча с доктором в тот вечер усилила его отчаяние.
Он стоял у своей входной двери – Эдриенн пошла наверх с девочками, младшая из которых, казалось, заболевала.
– Ничего серьезного, – сказал доктор, – не волнуйтесь. – И сошел по ступеням вниз.
А Кэри остался стоять в застекленном тамбуре с рецептом в руке, глядя, как хвостовые огни машины доктора исчезают в темноте, и ему подумалось – как тысячу раз до этого, – до чего же все ужасно: ты идешь по жизни, ожидая, что она улучшится, надеясь, что настанет свободный, ничем не занятый день, когда ничто не будет тебя тревожить, и хотя ты понимаешь, как глупо рассчитывать на такой головокружительно ясный день, продолжаешь надеяться, держась за свои иллюзии. Он пытался дойти до какого-то смысла, но мысль его истощилась, перейдя в прозаическую, путаную молитву, которую он так и не довел до конца. Он смотрел на свою лужайку, на дамбу, на реку за ней. Платаны трясли голыми ветвями; слабый лунный свет, пробившийся сквозь щель в облаках, высветил рыболовецкие неводы, барашки на волнах, мачты и гики парусных шлюпок, вздымавшиеся к небу словно серебряные умоляющие руки. Луна, то и дело скрываясь за облаками, вдруг стала казаться слишком девственной и призрачной для Порт-Варвика, и в этом свете, когда Кэри повернулся было, чтобы уйти, из машины вышла Элен Лофтис, одна, и заспешила к нему по дорожке под дождем.
Он взял ее руку.
– Элен Лофтис, – сказал он, – что заставило вас приехать в такой дождь?
Она как-то напряженно и взволнованно сняла с волос зеленый шелковый шарф, встряхнула его так, что с него посыпались капельки дождя, а войдя под навес, рассмеялась и неопределенно произнесла:
– Ну, я просто решила приехать.
Он был удивлен, заинтригован. Но помогая ей снять пальто, он болтал с ней так, словно появление в его доме человека из его паствы – замужней женщины при этом в одиночестве – вечером, в половине одиннадцатого, – было самым обычным на свете делом, ион волновался, что принимает ее без пиджака.
– Что ж, – весело произнес он, – это очень приятный сюрприз. Эдриенн рада будет видеть вас. Я надеюсь, что она спустится. Она сейчас наверху с Кэрол…
Элен легонько дотронулась до его руки.
– Нет, – решительно произнесла она, но все с той же обезоруживающей улыбкой, – не беспокойте ее. Я ведь хочу видеть вас.
– О-о…
Он положил ее пальто на столик и в окружавшей их тишине смущенно повел Элен в свой кабинет, переделанный из боковой веранды, обитый уродливыми дубовыми панелями, покрытыми темной и блестящей, как ламповая сажа, краской. Он всегда считал это место одновременно аскетичным и уютным из-за умелого сочетания мирского и церковного: на одной стене, например, висела репродукция Веласкеса, а на соседней восседал епископ в красивой раме с автографом. Кэри мог тут работать, уединившись от семьи, или просто размышлять. На его строгом, похожем на коробку столе лежало серебряное распятие, которое он купил в Кентербери много лет назад. Поворачиваясь на шарнирах в своем кресле, он мог созерцать берега реки, бесконечно романтичные ее просторы, темно-синие и мирные, но часто с дикими капризными шквалами. Как распятие, так и река – каждый по-своему, – порой дарили ему чувство удовлетворенности, а порой – мучительные мимолетные представления о другом мире.
Кэри усадил Элен и открыл окно, чтобы выпустить спертый воздух. Он повернулся к ней.
– Не хотите выпить, Элен?
– Нет, – сказала она, – нет, спасибо. – Потом вдруг весело: – Да-да, выпью. Чуточку виски в стакане. Чистого.
Он улыбнулся:
– Хорошо. Одну минутку. Разрешите мне надеть пиджак.
– Не утруждайте себя, Кэри, – поспешила она сказать. – Зачем такие формальности!
В ней было что-то странное – отсутствие целеустремленности, то, как она ерзала на стуле, – отчего ему становилось не по себе, но он рассмеялся и, потрепав ее по плечу, оставил полистать журнал «Лайф», а сам пошел приготовить напитки. На кухне он открыл ящик и стал шарить в груде сбивалок, пестиков для колки льда, ложек в поисках открывалки, и тут, вздрогнув (поскольку до этой минуты, – возможно, потому что он был сонный, – его мозг бездействовал), понял, зачем Элен пришла к нему. Не совсем. Потому что даже если это так, то что ей от него надо, чтобы приехать поздно вечером в таком нервном состоянии, да еще в дождь? Но он подумал, что знает: он слышал все эти разговоры – обрывки фраз, и намеки, и подмигивания, которые заметил на сборищах и которые, как он сказал Эдриенн, возмутили его.
Эти разговорчики начались недавно – слухи насчет Лофтисов, слухи о «другой женщине», – сплетни если и волновавшие его, то не потому, что они касались Лофтисов, которых он в любом случае не слишком хорошо знал, а потому, что они разрушали его представления о человеческой порядочности.
– Ну, в конце-то концов, дорогой, – сказала ему Эдриенн, произнеся это небрежно, раздраженно, бросая слова через плечо и расчесывая на ночь свои красивые светлые волосы резкими взмахами руки, как самоуверенная светская дама, что действительно возмущало его, хотя он никогда бы не осмелился ей это сказать, – ну, в конце-то концов, дорогой, ты же знаешь: внебрачные утехи не совсем уж в новинку для человеческой расы. Если Элис Ла-Фарж проболталась, так это потому, что она вообще слишком много треплется, и, право, ей следовало бы держаться поумнее с клериками, но, в конце концов, почти все знают или, по крайней мере, могут сказать, что Элен Лофтис – это гнездо мелочных ненавистей. Я, во всяком случае, не могу сказать, что очень осуждаю Милтона. Во Франции…
– Эдриенн! – сурово произнес он. – Я не желаю слушать такие разговоры.
А потом, смягчившись, сев рядом с ней на стул у туалетного столика, терпеливо пояснил ей, что он, конечно, понял: она сказала так в шутку, – и это правда: здесь не Франция, и, как он раньше уже говорил, нынешний протестантизм может гордиться своим либерализмом, однако она прекрасно знает, что домашний очаг – это священно и так далее… конечно, она пошутила, они оба посмеялись тогда… и так далее и так далее. Это было несколько месяцев назад – он и забыл об этом, – тем не менее в течение некоторого времени смутные несопоставимые видения посещали его: Кэри видел Лофтиса – красивого, благожелательного, разговорчивого, которого он (несмотря на то что Кэри в течение двух лет уговаривал Лофтиса стать членом церковного совета или хотя бы ходить в церковь) немного недолюбливал, и Элен – да разве они подходят друг другу? Она с самого начала и всегда одна каждую неделю приходила в воскресную школу, приводя двух девочек, на редкость непохожих друг на друга, выглядевших нездоровыми, и несчастными, и холодными. Именно холодными – он подумал о Лофтисе и об Элен, а потом об Эдриенн, которая была такой мягкой, надежной и полной самого жаркого и сладостного пыла. А потом выбросил все это из головы.
Он надел свитер и включил на кухне свет. Неся напитки в кабинет – ржаное виски для нее, немного коньяку для себя, – он устало подумал: «Будь я баптистом, я бы имел дело с черным и белым, я бы выяснил и решил: грех это или безгрешие». А Элен, стоявшая у окна, повернулась к нему. Она выглядела уравновешенной, сдержанной, но Кэри показалось, что она плакала. Он постарался сделать вид, что этого не заметил.
– Садитесь, хорошо, Элен? – спокойно произнес он и сел за письменный стол. – Так чем я могу быть вам полезен? – Не слишком ли он официален? – Речь идет о бизнесе или об удовольствии?
Она вынула из сумочки носовой платок и шумно высморкалась. Затем осторожно и с отвращением глотнула виски. Кресло заскрипело и застонало под ним, когда он откинулся, чтобы закрыть окно, а на дворе порыв ветра налетел на кучу листьев и подбросил их вверх над лужайкой. Наконец Элен произнесла (можно было бы подумать – застенчиво, если бы она не смотрела на него так торжественно; он подумал даже: чуть ли не флиртуя, хотя холодно, мелькнула мысль):
– Кэри, вам ведь неприятно обижать женщин?
– О чем вы, Элен? – произнес он с улыбкой. – Я не понимаю, что вы хотите сказать. Что…
– Я имею в виду, – перебила она, – разве вы не презираете женщин, которые ни в чем не уверены, или глупы, или что-то еще, а может быть, и то и другое вместе, поэтому они вечно мечутся как сумасшедшие, пытаясь найти, за что бы уцепиться. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
– Нет, – сказал он, – я не презираю их. Хотя мне кажется, я знаю, что вы имеете в виду.
– Такого рода женщины, – продолжала она, – всегда женщины обиженные. – Помолчала. – Я их так называю.
Она отвела от него взгляд и стала смотреть в окно. Какое-то время она казалась очень серьезной, спокойно размышляющей, придав лицу приличествующее случаю выражение. Но во всем этом не было ничего мрачного. Она, право, выглядела очень красивой – интересно, сколько ей лет. Около сорока – мужчина-рекламщик изобразил бы такую женщину профессором с невероятно хорошей кожей и безмятежными глазами непрофессионала. Удивительная вещь: она никогда прежде не казалась ему интересной, и ему вдруг захотелось пошутить, но она повернулась и жалобным голосом произнесла:
– Ох, Кэри, не хочу я быть обиженной женщиной. – И, немного просветлев, добавила: – Могу я об этом вам рассказать?
Ее жалость к себе не слишком трогала Кэри – его мать страдала таким же недугом. Тем не менее он сказал:
– Продолжайте, Элен, рассказывайте, в чем дело.
– Мне давно хотелось прийти и увидеть вас, Кэри.
– Элен, вам и следовало прийти, – сказал он.
– Я бы и пришла, но я всего боялась. В известной мере боялась и себя, потому что я так давно ношу это в себе, держусь тихо, храню это в тайне, понимаете, я думала, что если я это из себя выпущу, то каким-то образом предам себя. Ко мне пришло это понимание, и это в своем роде так ужасно. Я хочу сказать – то, что я знаю: вина в этом частично моя. Не полностью, учтите… – Она смотрела прямо на него, и у него снова возникло впечатление, что она в точности знает, в чем ее беда, но ей трудно об этом говорить. – …не всецело, – повторила она, сделав ударение на слове «всецело», – но достаточно, чтобы понимать: если я слишком долго пробуду с этой тяжестью, то сойду с ума. Доктор Холкомб…
Она помолчала, быстро, судорожно поднесла руку к горлу.
– Я не стану называть имена! – сказала она. – Я не стану называть имена!
– Ш-ш, Элен, – предостерег он ее, и Эдриенн в банном халате и с бигуди заглянула в дверь.
– Извините… – И она холодно кивнула Элен. – …Кэрол успокоилась. Я иду ложиться.
– Спокойной ночи, – сказал Кэри.
– Спокойной ночи, дорогой.
– Спокойной ночи, – сказала Элен.
Дверь закрылась.
– Я никого не собираюсь предавать. Абсолютно никого, – взволнованно произнесла она.
Он поднес спичку к ее сигарете – это была третья, которую она закуривала без передышки и дрожащими пальцами поднесла к губам, наклоняясь к нему.
– Не спешите, Элен, – сказал он мягко. – Допейте виски.
Она так и поступила. Он понаблюдал за ней, а потом, когда она поставила стакан, стал слушать. Теперь она была спокойнее. Он отвел от нее глаза и стал смотреть в окно. Дымящийся сильный дождь наполнял ночь. С веток бесконечно одинокими спиралями опадали последние листья. Кэри чувствовал странное сродство с этой женщиной – что это было? Но, слегка приподняв брови, он стал внимательно слушать, что она говорит:
– Я не могла выбросить это из головы – мысли о них, о Милтоне и этой женщине, «миссис Икс» назову ее, поскольку не собираюсь ее выдавать, даже несмотря на ее вину, – я просто не могла выбросить это из головы. От этого можно сойти с ума. Понимаете, я знала про них долгое-долгое время – по крайней мере, шесть или семь лет. Боюсь, всю мою жизнь я была очень чувствительна к тому, что правильно, а что неправильно. Мои родители были люди военные, и в известном смысле это было забавно: они были строги и суровы со мной, но совсем не так, как себе представляют некоторые люди военных. Отец в войну был в штабе Першинга. Его отец был капелланом, и папа был очень религиозным. «Элен, – говорил он мне, – Элен, лапочка. Мы должны твердо держаться добра. Армия Господня уже двинулась вперед. Мы побьем гуннов, а потом и дьявола. Твой папа знает, что справедливо…» И с важным видом принимался расхаживать в своих галифе и с кнутом для верховой езды в руке, и мне он казался просто Богом. Солдаты любили его. Он внушал им страх Божий, сидя на коне (а в ту пору он служил в кавалерии, и никто не ездил на лошади так красиво, не выглядел так внушительно, действительно внушительно). В Форт-Майере были такие красивые леса, а в реке было столько нежных синильников – их можно было увидеть во время вечернего построения. И папа на своем коне – это был серебристый гелдинг, которого звали, я помню, Чэмп. Папа говорил: «Я не потерплю дурного поведения в моем подразделении. Мы маршируем как солдаты, идущие на войну, а не как пьянчуги и греховодники». Его прозвали Ретивым и Иисусом Пейтоном. А я – мне было тогда лет шестнадцать или около того – стояла на плацу и смотрела на него. Солдаты просто его обожали.
Кэри беспокойно поерзал и раскурил трубку.
– И был он суровым и строгим. Но хорошо относился ко мне. Я научилась распознавать, что хорошо и что плохо. Каждое воскресенье, где бы мы ни были, мы ходили в церковь. И когда мы пели псалмы, я краешком глаза следила за ним – он пел так громко красивым благородным баритоном, и усы его при этом так строго и решительно дергались.
О да. Понимаете, какое-то время мы с Милтоном были счастливы. Трудно предугадать. Потом нас стало четверо; мы жили в квартире недалеко от верфи. У нас был старый разбитый «форд», и по воскресеньям мы вчетвером отправлялись на пляж, валялись на солнце, собирали ракушки. Однажды наша машина застряла в песке, когда мы собрались ехать домой, и мы оставили ее там до семи или восьми вечера, асами вернулись, сели на песок с Моди и Пейтон, которым было тогда, по-моему, соответственно пять лет и четыре года, и, попивая шоколадное молоко, смотрели, как садится солнце. Ну разве это не счастье – оставить свою старую разбитую машину в песке, а самим вернуться на пляж и пить там шоколадное молоко?
Но это было не счастьем, а чем-то еще. Я не могла выбросить это из головы. Позвольте мне рассказать вам…
Он уже давно начал пить. Она не представляла себе почему: возможно, у него исчезла потребность в ней, если Кэри понимает, что она имеет в виду, а может быть, дело в Моди, в его огорчении и всем прочем. Жуткая, жуткая история, но именно это – последнее – она подозревала больше всего, хотя, как она уже сказала, могло быть две причины. Что ж (как, должно быть, понимает Кэри), она не ханжа, но Милтон начал постоянно пить и в то же время перестал посещать церковь. О, она очень ясно представляла себе, что будет: в мыслях не укладывается, каково это – тихо стоять и смотреть, как осыпаются кирпичи, которые ты так старательно укладывала, – считала, что они надежные и крепкие, а они вдруг вываливаются. Это начинается медленно, неожиданно и месяц за месяцем понемногу подкрадывается к вам, а в какой-то момент вы озираетесь и обнаруживаете, что все здание, которое вы так старательно строили – и еще не достроили, – начало растворяться, как песок в воде, рассыпалось, обнажив всю свою жуткую арматуру, так что хочется набросить на все это месиво покров – этого жаждет прежде всего ваша гордость, – а потом захочется не столько все скрыть, сколько наспех подобрать эти выпавшие частицы и с помощью хитроумной декоративной кладки починить, починить здание, все время приговаривая: «Ой, прекрати осыпаться, пожалуйста, прекрати, пожалуйста».
То, что он пьет, и то, как он ведет себя с Моди, – ничего явного, Кэри должен понять, – коварно, бесчувственно и совершенно возмутительно. Как он может так поступать? А потом, эта женщина – миссис Икс. Это существо, сказала Элен, сбросило с себя покров приличия и разума, оголилось, обнажив всю свою низость.
В течение шести лет (продолжала Элен) – долгое время после того, как она примирилась с такой жизнью, где ее единственной надеждой было уменьшить каждую потерю, как только она могла, не суетиться, а каждый день поддерживать свой дух новыми подходами, новыми оплотами, новыми надеждами, – шесть лет наблюдала она, как он тянулся к этой женщине, следя, как могла бы следить за мухой, попавшей в паутину, за его дурацким скольжением в пропасть, – все время безразличная, отстраненная и лишь немного печальная: смотрите-ка, они врозь, но поддерживают связь друг с другом как антенны – распутная и целеустремленная женщина и ее бедный Милтон, очарованный ею и тщетно пытающийся вылезти из этой страшной каши. Мухи и пауки, холод подземелья. Все просто: хотя Элен не могла видеть их вместе, она чувствовала, как они дрожат, покорно соглашаются. Их сладостное конвульсивное соитие произошло. Сколько раз – она не может сказать. Победу одержала та, другая, женщина. И – ах! – ее бедный Милтон.
Как можно по-настоящему огорчаться из-за всего этого, когда огорчение отошло в прошлое, осталось только в памяти?
«Так будь они оба прокляты, – сказала она. – Пожалуйста, Боже, прокляни их».
Грешно так думать, но она права, не так ли, в том, что желает им погрязнуть в собственной грязи? Кэри никогда не поймет, как ей больно.
– Почему мужчина не может держаться женщины, которая так любит его? Это же несправедливо. Мне становилось все больнее и больнее – каждый вечер я молилась, чтобы это не прошло им даром. Но грех. А разве я тоже не грешила? Господи, что такое грех? Порой логика жизни настолько расстраивает меня, что я начинаю думать: никакой награды или защиты человек не получает здесь, на земле. Порой я думаю, что жизнь – это лишь одно большое недоразумение, и Бог, должно быть, очень жалеет, что так напутал с последствиями.
– Послушайте…
– Две недели назад мы сидели однажды вечером после ужина на лужайке под ивой. Это было накануне отъезда Пейтон в школу, и я полдня помогала ей укладываться. На следующий день мы вчетвером собирались ехать в Суит-Брайер. Я чувствовала усталость, и мне было жарко: днем я ездила в центр, чтобы купить Пейтон новую сумку и шляпу, и мне пришлось потолкаться в толпе – ну, вы знаете, как это бывает. Потом, когда я выпила чаю со льдом и кофе, мне стало легче. Видите ли, примерно за неделю до этого на танцах, которые я устроила для Пейтон, мы с ней поссорились – это долгое время беспокоило меня, но мы, понимаете, «помирились» и больше уже не сердились друг на друга. Мы, право, очень веселились, пакуя вещи, и обе были так возбуждены предстоящим отъездом в школу, что я была очень счастлива, хотя и чувствовала некоторую печаль, возникающую, когда ты знаешь, что твой ребенок впервые покидает тебя. И вот я сидела и смотрела на корабли, которые уходили в море, и на колибри, летавшие по цветам, – ну и, как вы понимаете, на все подобные вещи. Моди сказала, что у нее болит голова, – я помогла ей подняться наверх, дала аспирин и сказала, чтобы она полежала и позвала меня, когда отдохнет. И она сказала: «Да, мамулечка», – легла на простыни, закрыла глаза и через мгновение заснула. Она так легко засыпает, бедная девочка…








