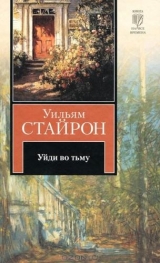
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
– Послушай… – Лофтис повернулся к Баззи. – Послушай, Баззи, ты ведь знаешь Дика Картрайта. Он, видишь ли, с Пейтон. Ты не знаешь, где я могу их найти? – Он храбро улыбнулся. – Господи, не могу понять, из-за чего я сейчас так волнуюсь по пустякам. Я же видел Дика и потом видел Пейтон…
– У Баззи, – сварливо произнес Хьюберт, – всегда была, так сказать, антипатия…
– Одну минутку, Хьюберт, – раздраженно сказал Лофтис, в какой-то мере чувствуя себя так, словно он допрашивает арестанта. – Баззи…
Глаза Баззи вспыхнули, и он нерешительно улыбнулся:
– Ой, мистер Лофтис, я думал, вы знаете. Дики Пейтон сочетались вчера вечером.
– Сочетались? – сказал Лофтис.
– Да, сэр.
– Сочетались?
– Поздравляю, Милтон, старина, – произнес Хьюберте превеликим удовольствием, – теперь у вас будет зять с кучей монет, со связями, а когда вы станете стареньким-стареньким, они, возможно, позволят вам умереть в особняке Гаррисона Картрайта – этакой, знаете ли, старой хибаре.
– Так, значит, они сочетались? – повторил Лофтис.
– Да, сэр.
Лофтис вдруг почувствовал себя стариком – таким он чувствовал себя со времени своего сорокового дня рождения.
– Что ж, – сказал он, – зато теперь у нее есть брат из Капа-Альфа. – Собственно, это не имело значения. С ним совсем не считались, и он осушил свой стакан. – А ты не знаешь, где она, сынок? Не знаешь, где я могу ее найти? Она ведь сейчас разыграла исчезновение.
Баззи обрадовался возможности что-то сказать.
– Ну, мы с Диком ведь живем вместе, и я знаю, он говорил, что они едут на матч. Он сказал, что сначала они должны встретиться с Томми Эймсом в «Виргиниен», и я полагаю, что они сейчас туда поехали.
– Это тот же «Виргиниен» – ресторан на Углу?
– Да, сэр.
– Что ж, спасибо. – Лофтис повернулся к Хьюберту. – Хьюб, думаю, слетаю-ка я на Угол. Хочу увидеть Пейтон – это очень важно. Понимаете…
– Угу, понимаю, Милт. Насчет больницы?
Лофтис повернулся, собираясь уйти, стал надевать пальто. Хьюберт окликнул его:
– Послушайте, Милт… – Он помолчал, презрительно мотнув головой в сторону Баззи. – Поскольку я вынужден идти на матч один, почему бы вам не взять этот билет и не присоединиться ко мне? Я не хочу сидеть там и замерзать в одиночестве.
– Спасибо, Хьюб. Но я не смогу. Я должен вернуться…
– Ну возьмите в любом случае чертов билет.
Лофтис сунул его в карман пиджака. Баззи тихонько ускользнул наверх, и Лофтис тоже ушел, махнув на ходу рукой Хьюберту, который остался стоять один в зале, отогревая ногу у догорающего в камине огня.
Казалось, на каждом повороте он врывался в шум и ликование. Но казалось также, что веселье исчезало, как только он появлялся: толпа молодых людей, словно испуганные дети, выскочила из «Виргиниен», махая флажками, гудя в трубы, и он остался один с чувством тревоги, крепко держа в руке бутылку, слушая, как звук коровьих колокольчиков исчезает, удаляясь по улице, словно крошечные бубенчики, несомые на крыльях китайских голубей. С чувством, что все рухнуло, чего бутылка, сколько бы он к ней ни прикладывался, не могла развеять, он сознавал, что остался совсем один. Он стоял у кассы и смотрел вверх, на часы. Было час тридцать. Еще полчаса, и матч начнется; еще полчаса, и Пейтон тоже будет там, под ручку с Диком Картрайтом, и глаза у нее будут взволнованные (он видел их), и сияющие, и слегка подернутые слезой – скорее всего от холода. И – о Боже! – он думал лишь о том, что снова упустил ее.
Взяв стакан у парня за стойкой, Лофтис сел в кабину, чтобы подумать. Ничего нет более нудного, размышлял он, чем пить в одиночестве, – правда, это приносит и определенное успокоение: он редко выпивает один. «Ах, Милтон, но это же неправда, – говорила его совесть слабым голоском, словно тонущий в половодье виски человек, – ты одинокий пьяница, одинокий человек». Правда? Это была правда? Как такое могло случиться? И, однако, что-то в этом было. Пожалуй. То, как он пил – даже среди толпы, – уходя в себя все глубже и глубже и, вместо того чтобы беседовать, погружаясь в молчание и мрачные раздумья о днях, исчезнувших, как прошлогодние листья. Пожалуй! Не пожалуй! Безусловно. Ты одинокий пьяница. Он сунул монету в музыкальный автомат на стене, жаждя спора, слов. Потом выпил, что-то мурлыча себе под нос и улыбаясь, думая о Пейтон. В этот момент вошла высокая женщина с прелестным беззаботным лицом, следом за ней – Пуки Боннер: он был в хорошем пальто и нес большое знамя конфедератов.
– Милтон!
Лофтис попытался спрятаться, отвернуться, залезть под стол, но было слишком поздно: Пуки уже наседал на него, неожиданно и ожесточенно, рассекая воздух нелепыми приветствиями. Он хлопнул Лофтиса по спине и потряс обе его руки, и в этой сумятице мокрый от дождя флаг качнулся назад и обволок женщину сырыми звездами и полосами.
– Милтон, черт возьми, дружище! – ревел Пуки. – Сколько же времени я вас не видел? Вот ведь проклятие, дружище, прошла целая вечность, а вы, клянусь, ничуть не изменились! Посмотри на него, Хэрриет. Это старина Милтон Лофтис, про которого я тебе говорил.
Хэрриет выбралась из-под знамени и с улыбкой посмотрела на Лофтиса добрыми пустыми глазами.
– Приятно познакомиться, – сказала она.
– Не… не присядете ли? – неуверенно произнес Лофтис. Конечно, это хуже, много хуже, чем встретить отринутую любовь, и он хотел бы быть на месте Пуки. Жестом дружелюбия – слегка поведя рукой – он указал на пустой стул. – Выпейте, – добавил он вялым голосом.
Хэрриет села, улыбаясь, старательно подбирая под себя юбки, и Пуки шумно уселся рядом.
– Нам через минуту придется уйти на матч, – сказал он. – Мы зашли, только чтобы выпить молока. Я теперь держусь этого, Милт. У меня язва.
– Началось все с гастрита, – тихо вставила Хэрриет, – но Слейтер все равно продолжал выпивать. А потом он поехал в Ричмонд, в больницу при медицинском колледже, и там они сделали гастроскопию и обнаружили пептическую язву как раз над двенадцатиперстной кишкой.
– Хэрриет была медсестрой, – вставил Пуки.
– Ну, в общем-то это было не так уж и страшно, – продолжала Хэрриет в своей мягкой небрежной манере. Лофтис снова посмотрел на нее: ей было все сорок, но хорошенькая. – Язва была очень маленькая – не больше, чем крошечное воспаление мембраны. Я не перестаю говорить Слейтеру, что бывают вещи много хуже, особенно в желудочном тракте. Например, колит.
– Угу, это правда, – сказал Пуки.
Наступило непродолжительное молчание, и Лофтис чувствовал, что болезнь замешательства так или иначе распространится и затронет их обоих. Парень подошел к ним, и Пуки заказал молоко для себя, кофе – для Хэрриет, а Лофтис, не сказав ничего, снова выпил – теперь со своего рода неудержимой решительностью привнести в свою тревогу за Пейтон, за Элен и Моди (и в какой-то мере еще страх – страх чего?) отвращение и внезапно возникшее в нем бурное возмущение Пуки и этой противной Хэрриет. Он застенчиво приподнял свой стакан.
– Это – за вас всех, – сказал он.
Пуки, в свою очередь, от души приветствовал его молоком, а Лофтису хотелось чего угодно – укора, упреков, угрюмости, даже ссоры, – чего угодно, только не этой улыбочки Пуки и не взгляда его всеприемлющих, покорных глаз. Он говорил про Ноксвилл, штат Теннесси, где у него контракт на строительство домов возле военного завода, и «ну разве не повезло, Милт, что первый этаж у меня уже готов? Как насчет этого, Милт?»
– Браво, – кисло произнес Лофтис.
И – о Боже! – Пуки говорит:
– Как там Долли, Милт?
– Она… – Как бы он хотел взмыть на три дюйма в высоту. – О’кей, наверное.
– Какая роскошная штучка! – продолжал Пуки. – Знаете, что эта штучка сказала мне, когда мы расстались? Послушайте, Милт. Она сказала: «Между нами нет горечи – только печальные воспоминания». Знаете, что она мне написала? Она сказала: «Куда бы ты ни пошел, я буду думать о тебе, потому что обоим нам предстоит пройти не одну милю, прежде чем мы заснем». Надо же такое сказать!
– Угу.
– Долли. Дешевая стервозная лицемерка.
– Я тоже так считаю, – вставила Хэрриет с неожиданным энтузиазмом. – Она, должно быть, замечательная. Когда мы со Слейтером поженимся, у нас, конечно, не будет ни сожалений, ни горечи. Я думаю, это несовременно. Я очень верю в laissez-faire[14]14
Свобода действий (фр.).
[Закрыть]. – Она рискнула анемично улыбнуться. – Когда мы поженимся, мы надеемся часто видеть вас обоих… – Она вдруг умолкла. Улыбка еще оставалась на ее лице, но блеск исчез из глаз словно рассыпались бусы, и она смотрела на Лофтиса пустыми, извиняющимися глазами, продолжая улыбаться. – То есть, – неуверенно добавила она, – то есть… конечно… если вы поженитесь… – В голосе послышался неприятный смешок. – Ха-ха! Это была faux pas[15]15
Зд.: промашка (фр.).
[Закрыть].
– Да, – сказал Лофтис, – была.
Его высказывание прошло незамеченным – по крайней мере не замеченным Пуки.
А Пуки вдруг произнес:
– Послушайте, Милт, когда увидите Долли, передайте ей мой привет и вообще, и что у меня все по-прежнему. – На лице его появилось какое-то нелепое, застенчивое выражение, он посмотрел вниз, на стол, и стал мять салфетку. – Каждый месяц, посылая чек, я всегда пишу ей, ну, понимаете, чтобы сказать… ну, вы понимаете… но она мне не отвечает.
– Мы со Слейтером верим, – добавила Хэрриет, сжав локоть Пуки, – что многое в жизни объясняется обстоятельствами и многое из этого человек не может изменить. Верно, Слейтер?
– Верно, лапочка, – безразлично произнес он.
Юмор, казалось, вдруг покинул его. Он был красный и дряблый, с синевой там, где побрился, и носом, похожим на бутылку, из которого всегда вытекало немного влаги на верхнюю губу, – Лофтис помнил это и сейчас с жалостью и смущением смотрел на Пуки и со своего рода сентиментальным сожалением слова не мог произнести. Неужели изо всех дней именно сегодня он должен был встретить одного из немногих живых людей, которые могли поставить его в столь неловкое положение? Это что – входит в какой-то план, является частью кошмара? Помещение вдруг куда-то поехало; музыкальный автомат, который до наступившей тишины не был ему слышен, со всхлипом и вибрацией умолк, и флаг Конфедерации, чье древко он поддел, нервно шаркнув ногой, бесславно повалился на пол. Он нагнулся, чтобы поднять его, с состраданием думая о Пуки: бедный Пуки, славный Пуки с этой улыбкой охотничьей собаки и толстым задом – ну что он сделал, чтобы оказаться в таком положении, или что сделал он сам, чтобы оказаться в своем положении? И он быстро понял: он ненавидит Долли. Но это сгладилось, и, придя в себя, он услышал собственный голос, говоривший:
– Я рад слышать, что ты получишь большие деньги, Пуки.
Упомянуть о деньгах – все равно что сказать ребенку о мороженом. Пуки открыл глаза, снова повеселел.
– Ага, Милт. На будущей неделе я еду в Ноксвилл. А в январе туда приедет Хэрриет, и мы поженимся. – Хэрриет, зарумянившись, снова стиснула его локоть. – Какая мне выпала сделка, – продолжал он. – Сборные части по армейским спецификациям, так что я смогу сократить накладные расходы процентов на двадцать…
– Все это – секрет, Милтон, – вставила Хэрриет. Она намеревалась сделать легкий укор Пуки, но в голосе ее звучала гордость. – Совершенно секретно. Включая свадьбу.
– О нет, лапочка, – сказал Пуки, – это не секрет. Я имею в виду сделку. Просто об этом может знать ограниченное число лиц. Генерал сказал мне только, что это не должно попасть в газеты. Во всяком случае, свадьба…
– Во всяком случае, – поспешил прервать его Лофтис, – я горжусь тем, что вы делаете… так что… вот. И мои поздравления вам обоим. – Произнося это, он торжественно протянул через стол обе руки, слыша свой эксцентрично звучащий голос, с чем теперь уже ничего не поделаешь, страшно неискренний – это он понимал, и, забавляясь, посмеиваясь про себя, наблюдал, как в их глазах появились угодливость, безропотное смущение. Они улыбались, молчали. Хэрриет, как он заметил, вовсе не идеальна: за одним ее зубом посверкивало золото. И он сказал голосом, в котором даже четырехлетний ребенок мог бы услышать фальшивую доброжелательность – это, великий Боже, это: – Старина Пуки всегда устраивает все для себя, как оно лучше, верно? Женится на смышленой девице, которая любит его только за любовь, а не за его деньги. Совсем как Долли. Ты знаешь, как она все еще любит тебя – бог мой, Пуки, потому-то мне так и трудно с этой женщиной. Да боже, малый, неужели ты не видишь, неужели не понимаешь, что она даже теперь любит тебя!
Они продолжали улыбаться – мягко и, казалось, немного испуганно; каждый нехотя взял одну из его рук, и он почувствовал своей кожей их влажную и холодную кожу, десять пальцев, нервно передвигавшихся под его рукой словно круглые белые червяки.
– Да ну же, дружище, – беспомощно продолжал Лофтис, – неужели ты не видишь? У тебя есть все, чего мы, остальные бедняги, не имеем. У тебя есть положение, репутация, настоящее положение, успех. Все, Пуки! У тебя есть все, за что готова любить женщина. Ты обладаешь настоящим чутьем. Чего бы ты ни касался, все превращается в золото. Ты совсем как старый царь Мидас. И послушай, Пуки, – он доверительно пригнулся к нему, подмигнув Хэрриет и крепко сжав руку Пуки, – послушай, Пуки, не позволяй никому обманывать тебя. Не позволяй никому говорить тебе, что выходят за тебя замуж ради твоих денег, потому что это не так. За тебя выходят замуж, потому что ты чертовски… великий… мужик! – Он умолк, чтобы выпить, ненавидя себя, но веселясь.
Их руки упали на стол. Пуки продолжал улыбаться своей собачьей улыбкой, а Хэрриет усиленно моргала и выглядела возмущенной.
– Вот уж я – никогда, – сказала она.
Пуки тоже скоро должен пробудиться – даже Пуки, и Лофтис, потягивая виски, ждал этого момента: несчастные ублюдки, если бы они только знали, как одним тем, что они сидят тут, выпуская в воздух, словно мыльные пузыри, банальности (она сейчас говорила: «Слейтер, он так пьян»), они распяли его, ранили прямо в сердце, как два подростка, играющие ножом, несчастные ублюдки, они сказали бы: «Оставим его наедине с его виной, оставим его сейчас, Слейтер, дорогая Хэрриет».
– Милт, черт бы тебя побрал, малый, – произнес Пуки; глазки у него стали маленькими и потемнели от внезапно озадачившей его обиды – такого выражения Лофтис никогда прежде у него не видел. – Черт побери, Милт, не знаю, куда ты клонишь, но я думаю, оставь-ка ты эту бутылку…
Лофтис отнюдь не изящно потерял равновесие, бутылка выскользнула из его рук, упала на пол и разбилась. Виски потекло по линолеуму, и он секунду смотрел на это, потом повернулся к Пуки, который тоже уставился на пролитое виски. Не важно, что произошло с виски – он вспомнил, что у него в пальто есть еще одна пинта, – но это… они же извели его, подвергли пытке, хоть и с этакой детской, глупой наивностью. Они же действительно подвергли его пытке и теперь расплачивались за это. Хэрриет потянула Пуки за рукав, говоря: «Пошли, дорогой!» – и, подняв глаза, Лофтис поймал его взгляд и, пошатываясь, поднялся со стула. «Бедняга Пуки, простак, – думал он, глядя вниз на озадаченное, обиженное лицо. – Ох, Пуки, блаженны будете мягкие и неподозревающие, блаженны плохо информированные, блажен и ты, Пуки, хотя женщина высосет тебя досуха, потому что душа твоя неподкупна и ты унаследуешь землю». Он вспомнил о солнечной веранде и о дожидающейся Элен и содрогнулся, почувствовав беду.
– Пуки, – сказал он, глядя вниз, – ты чертовски великий… мужик. Одна беда с тобой… одна беда в том…
Хэрриет встала со стула.
– Скажи ему, чтоб отстал, Слейтер! – выкрикнула она, но Пуки был загипнотизирован.
Лофтис широко повел рукой, призывая к миру, дружбе и снисходительности, и в эту минуту, прорвавшись сквозь мили опьянения, он вспомнил о своей так и не выполненной миссии. Великий Боже, что он тут делает? О, Пейтон!..
– Единственная беда с тобой, – произнес он сдавленным голосом, – это… а, да черт с ним со всем. – Он повернулся и вслепую пошел вон из ресторана – мимо Хэрриет и огорошенного Пуки, державшего в руках флаг конфедератов, обесчещенный трофей.
Вооруженный тремя сандвичами, купленными у мальчишки возле входа на стадион, сосудом с кофе, программой, которую он купил и которая была ему не нужна, полуторалитровой бутылкой виски, одолженной им подушкой и зонтом, с оранжевым значком на отвороте и с большущим знаменем, свисавшим с его локтя и тащившимся по гравию, Лофтис еле передвигался. Со скамей в воздух поднялся крик, но он все еще был за барьером и ничего не мог видеть.
– Ваш билет, пожалуйста.
Лофтис спросил парня, кто выигрывает; парень был краснощекий, с наушниками для защиты от холода, хотя день был не такой уж холодный, и он рявкнул:
– Мы им влепили с одиннадцати ярдов!
Из рук Лофтиса выпали подушка и программа – они не могли не выпасть, поскольку билет находился где-то в одежде, глубоко запрятанный в кармане среди рецептов, старых писем, расписания поездов. Со скамей прозвучал еще один крик, и оркестр, удручающе фальшивя, сыграл победный гимн, а вокруг Лофтиса, словно падающий снег, завихрились конфетти.
– Уже? – пробормотал он. – Уже сравнялись?
Но парень исчез.
Лофтис неловко спустился по цементным ступеням, нашел свое место – оно было наискосок от сектора, где сидели студенты и где, как он надеялся, он может увидеть ее. Место его находилось в середине ряда, и, усаживаясь, он потеснил своей подушкой соседей. Снова ввели мяч в игру. Лофтис сел. Передним возникла стена людей в серых пальто и с флажками – и позади, и с обеих сторон. Откупорив свою бутылку и положив все свои причиндалы на пустое место Хьюберта Макфейла, он понял, что ему тоже – по существующей традиции – надо встать. Он посмотрел вдоль ряда, ища Пейтон, и, встав, повернул голову к сектору студентов.
– Садись, модник! – крикнул позади него мальчишка.
Он повернулся, чувствуя, как ощетинились волоски на шее, и обнаружил, что стоит только он. На поле был таймаут: кто-то пострадал в последней игре. Все сидели, кроме него. Кто это назвал его «модником»? Он опустился вниз, наполовину сев на ноги молодой женщине с выступающими вперед зубами, которая, как и он, была весьма навеселе и, обвив рукой его шею, назвала его «Офицер-пехотинец».
– А это мой муж Эрвин Ли Брокенборо, – прокричала она, перекрывая шум, поскольку позади них кто-то затрубил в гигантскую трубу. – Ну разве это не имя смельчака? – И она ткнула в бок моряка – старшего унтер-офицера, загорелого и мускулистого, который, подперев обеими ручищами жевавшую резинку челюсть, смотрел на поле и явно игнорировал их. – Эрвин Ли, познакомься с Офицером-пехотинцем!
– Почему вы меня так называете?
– Потому что именно так вы выглядите! Или нет? Зависит от того, как посмотреть.
– Как Мак…
– Именно, прямо как он, малыш! Дайте выпить. М-м-м! Нет, я, право, не думаю, что вы такой.
Лофтис взял у нее бутылку, поднял в веселом приветствии флаг, который держал в другой руке.
– Салют, миссис Брокенборо.
– Зовите меня просто Фрэнсис!
– О’кей, Фрэнсис.
Она улыбнулась – на одном из ее крупных зубов была помада.
Они выпили. Атмосфера была очень компанейская, и вскоре он стал нуждаться в ней, как в друге. Он рассказывал ей свои беды, когда в игре наступал перерыв и суматоха спадала, если не считать коротких вскриков, доносившихся из сектора для студентов. За их спиной сверху летела бутылка, перескакивая с одного ряда на другой, и наконец рассыпалась у них под ногами.
– О-о-о, – произнесла она, вцепившись ему в локоть. И набросила край своего одеяла на его колени.
– Моя дочь, – сказал он, – она вон там, в больнице.
– О-о, – сказала она, – бедный Пехотинец. Худо дело?
– Нет-нет, нечто совсем не опасное, иначе, понимаете, я был бы там, а не тут.
У нее отвисла нижняя губа, наступило долгое молчание, сочувствие без слов.
Серый свет катился по стадиону. Вверху, в небе, висел самолет, почти неподвижный. Школьный оркестр, расцвеченный перьями, вышел торжественным маршем на поле, и никто не смотрел на него или не слушал. На другой стороне поля скамьи выглядели празднично, расцвеченные одеялами и флажками, поднятым лоскутным одеялом. Где-то взвыла и замерла сирена, а на краю поля вдруг сгрудился народ – драка, но прибежали два толстых полисмена, размахивая палками, и зрители разбежались. Это был напряженный момент, даже мрачный, хотя драчуны поквитались, – к игре же это не имело никакого отношения. Просто казалось, что эти тысячи людей одновременно вдруг оцепенели – придя сюда, в перерывах в игре они сидели праздно, сейчас главным у образом молча, словно в плену у своей скуки, и казалось, были тут с незапамятных времен и будут сидеть так вечно. Лофтис жевал насквозь промокший бутерброд с сыром, разделив его с Фрэнсис. Эрвин Ли ушел добывать горячую сосиску.
– Возможно, вы понимаете, как трудно мне вести поиск, – сказал он, смахивая крошку, – какое это испытание быть таким пьяным, когда… то есть когда… когда трезвость должна быть паролем, или, скорее, лозунгом.
– Правильно, Пехотинец, – сказала Фрэнсис, – вся эта чертова штука – настоящее испытание, если хотите знать мое мнение. Эрвин Ли с ума сходит по футболу – он играл в средней школе имени Томаса Джефферсона, и теперь таскает меня сюда, чтобы я отморозила себе главную мою гордость…
– Ну, только не это, – перебил ее Лофтис. – Я люблю футбол. Просто это… это…
– Это испытание, вот что. Бедный Пехотинец. А жена у вас красивая?
– Моя жена – самая замечательная женщина на свете. Моя семья… Моя дочь…
– Да, бедняжка. Она очень больна?..
– Нет, она не больна. Она тут. Где-то…
– Кто, милый мой Пехотинец? Вы же говорили…
– Пейтон. Моя дочь.
Такое было впечатление, точно его осторожно разбудили после долгого сна. Уголки его рта опустились, словно размякшие и парализованные, и в сером свете этого мягкого, новорожденного сознания он прежде всего понял (порядок, порядок, – взмолился он), что должным образом не произносит слова. Да, это, несомненно, было самым важным. Это отсутствие ар-ти-ку-ля-ции. И повернувшись к Фрэнсис, – глядя на игроков, снова выбежавших на поле, и встававших перед ним людей, – он, тщательно выговаривая слова, отчетливо произнес:
– Это ее я должен найти. Мою девочку. Я люблю ее.
Он не расслышал ее ответа из-за возобновившихся криков и снова заигравшей позади них громко, презирая всех, трубы; Фрэнсис поморгала и улыбнулась, крикнув что-то ему, и положила холодные тонкие пальцы под одеялом на его ногу. Медленно приходя в себя, он заметил, что кто-то утащил его флаг Конфедерации и размахивал им победоносными кругами в воздухе, а его сознание, выплывая из темных глубин дня, подсказывало ему, что это правда: сидя тут, избегая всех, скрывая свою личность среди людей, которым это было совершенно безразлично, он совершил непростительное преступление. И совершил он его не по команде и не по недомыслию, а по наихудшей смеси того и другого – по апатии, по скотскому преступному бездействию, и казалось, что, если он сию минуту не встанет, не протрезвеет, смело не нанесет удар, не поступит как мужчина, – казалось, если он всего этого не сделает, об его невероятном преступлении будет громогласно возвещено, словно взовьется знамя, и все эти тысячи людей повернутся на своих скамьях, оркестр умолкнет, игроки на поле остановятся и будут мрачно смотреть на него, даже разносчики напитков застынут неподвижно в проходах между рядами, все будут молчать, не шевелиться, не мигать – лишь смотреть на него с презрением и отвращением. Даже Фрэнсис. Она сжала пальцами его ногу, отчаянно хохоча, и потянулась за его бутылкой. Лофтис взглянул на нее без улыбки, наслаждаясь этой последней минутой нарушения своего долга, и подумал, не очень соображая, о Пейтон. Не для того чтобы уберечь ее от Элен, от катастрофы, которая ожидала их всех сегодня, он впустую провел эти последние полтора часа, а лишь готовясь к тому, чтобы снова увидеть дорогое милое лицо, лишь для того, чтобы встреча, когда она произойдет, получилась из-за долгой отсрочки более радостной. А теперь хватит об этом. «Ах чтобы во мне пробудился мужчина – тот мужчина, каким я являюсь, должен перестать существовать. Этому принципу следовал мой отец.
Пейтон, крошка, мы с тобой через день должны стать старше, мы должны держаться вместе».
Он дал Фрэнсис бутылку, встал, пошатываясь, и поклонился.
– Вам, – громко произнес он, – солнце, луна, звезды и эта ценная, нормированная бутылка «Олд кроу».
– Спасибо, Пехотинец, – сказала она.
– Прощайте, – сказал он.
– О-о, возвращайтесь, Пехотинец!
Он проскользнул мимо нее.
– Я вернусь, – сказал он, взял под козырек и, обращаясь к Эрвину Ли: – Извините, шеф.
– В путь, Пехотинец, – грубовато сказал Эрвин Ли.
Лофтис охотился за Пейтон до конца игры, взбираясь и спускаясь по ступеням сектора для студентов, говоря: «Вы знаете Пейтон Лофтис?» Одни показывали в одну сторону, другие – в другую, и он шел в указанном направлении, стараясь не сталкиваться с людьми. В какой-то момент он пробормотал, наткнувшись на испугавшуюся девушку и ее спутника в розовых очках: «Я должен найти ее, прежде чем Моди умрет», но быстро взял себя в руки и отвернулся от них. В глазах у него были слезы, и до него донесся замирающий голос девушки: «Сумасшедший», поглощенный ревом, вызванным длинным пасом нападающего, когда мяч, казалось, бесконечно долго летевший на фоне облаков, был пойман, прежде чем упасть. Лофтис купил горячую сосиску и эскимо и трижды отклонил предложение выпить, когда ему в сутолоке протягивали серебряные фляжки. Дважды он стоял навытяжку и почтительно слушал, когда играли «Alma Mater» – университетский гимн, а вот количество набранных очков он уже не помнил, да это было и не важно – в таком он был отчаянии и горе. Наконец, когда игра окончилась, он увидел ее далеко внизу, на поле, в окружении юношей и девушек, и крикнул: «Пейтон! Пейтон!» – но толпа все выталкивала его вверх и он потерял шарф. А Фрэнсис продолжала сидеть на скамейке, только теперь рука ее обнимала чью-то другую шею. Лофтис повернулся, чтобы снова окликнуть Пейтон, но она уже ушла. Он потерял ее. Потерял также свое знамя, свою подушку, свою программу, свой шарф, но на выходе кто-то протянул ему красный шар.
Виргиния потерпела поражение, но не всели равно? Они возвращались толпой по двое, по трое, обезумевшими четверками в общежитие братства или ехали в автомобилях, медленно скользивших домой в мрачных сумерках. Некоторые пели; другие продолжали выпивать; тех же, кто падал, не оставляли лежать, а двое друзей из братских чувств тащили между собой. У общежитий цветные ребята разожгли большие костры, и юноши стояли там, громко обсуждая игру, а девушки, слегка устав, раскрасневшиеся, подносили руки к огню и подергивали носом, поскольку некоторые из них уже простудились. Было пять часов дня – передышка. В доме Капа-Альфа высокий стройный молодой человек, проспавший мертвецким сном весь матч, сошел совершенно голый вниз, чтобы спросить, не пора ли ввести мяч в игру, и убежал среди визгов и криков, тщетно пытаясь накрыть себя занавеской. До наступления темноты двойняшки Бойнтон, дочки преуспевающего методиста-фермера, выращивающего табак в Чэтеме, в этот самый момент тихо уснули в своих креслах, и их уложили в кровать наверху, – все удивлялись тому, что они так упорно держались своего статуса сестер. В пять тридцать бар снова открылся, юноши стал и дольше обнимать девчонок, теперь уже решительнее, и смех и игривые голоса смешивались с пульсацией саксофонов, с виски, светом, исходившим от поленьев, отчего пламенели все щеки.
Пейтон сидела на стойке бара, скрестив ноги, потягивая бурбон[16]16
Бурбон – кукурузное виски.
[Закрыть] с содовой.
– Дики, мальчик? – сказала она и взъерошила его волосы.
– В чем дело?
– Я чувствую себя очень испорченной.
– Почему, лапочка?
– Я не выгляжу здесь интересной.
Он пальцами коснулся ее волос.
– Ты здесь красотка, дорогая. Ты выглядишь на миллион долларов.
Она подавила зевоту, отчего глаза ее увлажнились.
– Ты знаешь толк, – лениво произнесла она, – только в деньгах.
– Перестань мне докучать, – сказал он со вздохом.
Появились две пары, выплескивая виски и веселье. Все стали здороваться – рукопожатия, тосты, и один из юношей, низенький толстяк из Джорджии по имени Баллард, чмокнул Пейтон в щеку.
– Спасибо, Александер, – сказала она.
Он принялся рассказывать длинную историю – в основном малопонятную: во всяком случае, выкрикнул он, его дед воевал с Мосби[17]17
Джон Синглтон Мосби – конфедерат, командовавший в Гражданскую войну группой авантюристов.
[Закрыть] в Долине, и если где-нибудь появлялись проклятые янки, он вспарывал им животы большущим боевым топором.
– Я люблю тебя, дорогой! – взвизгнув, произнесла одна девица, и Баллард, обняв ее, посмотрел через ее плечо, ища одобрения.
– Не будь таким шовинистом, – сказала Пейтон голосом всезнайки, но на губах ее была улыбка, и Дик снял ее со стойки, и они, прижавшись друг к другу, стали танцевать, а оркестр играл «Звездную пыль».
– Я хочу куда-нибудь пойти, – небрежно произнесла она.
– Куда же, лапочка?
– О, я не знаю. Куда угодно. Здесь все такие пьяные.
– Я знаю. Куча лоботрясов.
– О нет, они чудесные, – сказала она, – все эти ребята. Но, по-моему, все слишком рано начали сегодня пить.
– Да.
– Я люблю выпить, но…
– Но – что?
– Ничего.
– Мы можем съездить на ферму, лапочка, – сказал он.
– М-м-м-м.
– Что значит «м-м-м-м»?
– Я хочу сказать…
– Тебе не хочется съездить на ферму с мальчиком Дики?
Она немного отодвинулась от него, посмотрела ему в глаза.
– О-о, лапочка, безусловно хочется. Просто… я ведь говорила тебе. Мне там нравится. Мне нравится этот старый дом и твои родные. Мне все это так нравится… – Она призадумалась. – Ох, Дик, просто я думаю, что нехорошо ехать туда, когда твоих там нет. Кроме того…
– Что – кроме того? – осторожно спросил он.
– Да только то, что я думаю: это нехорошо.
– Какая благонравная, – сказал он. – Сколько стаканов ты сегодня выпила? Я-то считал тебя интеллектуалкой из Суит-Брайера с современными взглядами.
– Не будь ослом, – снисходительно произнесла она. – Если я сегодня слишком много выпила, то благодаря тебе.
– Ты любишь меня?
– М-м-м-м.
Он остановил ее на середине спуска, прижал к себе, губы их почти соприкасались. Мимо провели девушку с некрасивым бледным лицом и большой грудью, которая плакала и жаловалась на оскорбления и на так называемых джентльменов Виргинии, и в помещении раздался буйный грубый смех. Они едва ли обратили на это внимание.
– Ты любишь меня? – в упор повторил он.
Она подняла глаза – они были расширены от удивления.
– Вон там папа. Ой, у него течет кровь. Он ранен!
Заблудившись, уйдя с матча только для того, чтобы бесцельно бродить по боковым улочкам, немощеным, мрачным дорогам, которые после всех лет, проведенных в юности в Шарлотсвилле, он должен был бы помнить, но не помнил, Лофтис считал, что все это происходит во сне: его поиски, Пейтон, даже его страх и муки – все это часть немыслимой иллюзии. Он немного протрезвел таким сильным, таким незнакомым ему усилием воли, что это даже напугало его. И шагая, пошатываясь, в холодном сером сумраке под застывшими от безветрия деревьями, слыша все слабее доносящиеся издалека звон колокольчиков и гудки автомобилей, вялую перекличку усталых разъезжающихся, он понимал, что, как ни странно, идет не в том направлении, удаляется от Пейтон, удаляется от Моди и Элен и больницы, удаляется от своей колоссальной ответственности, – он слышал также какие-то слова, донесшиеся по воздуху, и понял, что это его собственный голос. Это звучало как песнопение: «Я буду сильным, я буду сильным», – перекрывая скрипучий звук его шагов по лишенным плоти, опавшим листьям и шум крови в голове, пульсирующей упорно, уныло, ритмично – не от страха, а от трусости. Собственная трусость явилась для него неожиданностью. Потрясла его. И вот тогда, продолжая бормотать: «Я буду сильным, я буду сильным», – он сделал разворот, словно услышал зов трубы, и пошел в темноте назад, вверх по холму, к общежитию. Он неуверенно преодолевал изрытую колеями дорогу. Эта часть пути заняла у него немногим больше получаса, и в конечном счете это было хорошо для него. Он значительно протрезвел. По крайней мере он в известной степени уравновесил свой рассудок, если не тело. Стало почти совсем темно. Он находился в Ниггертауне. Появились разные запахи, и вокруг возник хор собачьего лая, захлопали сетчатые двери, и из них возникли темные тени, послышалось: «Заткнись, Тиж», или: «Заткнись, Бо», – поскольку они тоже понимали, что собаки учуяли белого человека. Теперь он уже не чувствовал себя совершенно потерянным. Он чувствовал себя спокойным, даже способным действовать, впервые за сегодняшний день он владел собой, и хотя он боялся за Моди, все еще действительно боялся за них всех, он прощал себя за то, что днем ничего не чувствовал. Странные произошли вещи; у него были странные мысли. «Боже, если ты там есть, прости своего дурака сына…» В этот момент он упал в кювет, по которому текла вода.








