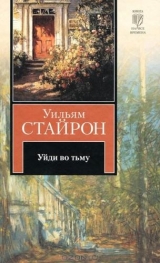
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
– Нет.
– Нет – что? – сказал он.
– Нет, спасибо, дурачок.
– Разве хорошо так говорить? Да ну же, вставай на ножки.
– О’кей, – сказала она.
Теперь она слезла с него, стояла босиком, расставив ноги на траве, и строила ему гримасы.
– Не надо так делать, – сказал он. – Знаешь, ты можешь озябнуть. И всю жизнь будешь выглядеть злой ведьмой.
– Ну и что? – сказала она. – Дай мне посмотреть комиксы.
На его коленях лежали беспощадно скомканные страницы, на которых отпечатались маленькие грязные следы. Он сделал вид, что не замечает этого, зевнул, посмотрел вверх, на голубое весеннее небо, по которому плыли пухлые облака, рассекаясь по краям в дым. Залив словно застыл, от него приятно пахло солью. Лофтис смотрел с намеренно серьезным выражением мимо Пейтон, на сад – сад его жены, весь в буйстве несказанных красок: розы, анютины глазки и как их там еще звать – он не знал. Где-то игриво защелкал пересмешник, сверчки застрекотали на клумбах, сильный запах травы наполнял его ноздри резким сладким ароматом – словом, весенний день в Виргинии. Лофтис снова зевнул, посмотрел вверх.
– Похоже, пойдет дождь, – рассеянно произнес он.
– Да, – сказала Пейтон. – Похоже. Дай мне комиксы.
– Не говори «дай мне».
– Тогда – разреши мне посмотреть.
– Это, детка, уже лучше, – сказал он. – Я дам тебе комиксы при одном условии. Видишь там розовый куст? Пойди сорви розу и принеси мне. Осторожно – не поцарапайся о шипы.
Пейтон покорно побежала, и через минуту вернулась с большой красной розой, на которой дрожала роса.
– Спасибо, детка, – сказал он. И подумал: как это будет галантно – солнечным утром подарить жене розу.
– Разреши мне посмотреть комиксы, – сказала Пейтон. И не произнеся больше ни слова, взяла комиксы и, растянувшись на лугу рядом с ним, принялась читать, пальцами ног выдергивая травинки. И лениво, словно эта мысль только что пришла ей в голову, произнесла: – Большое тебе спасибо.
Он опустил на нее взгляд.
– Дети, – буркнул он, – должны с уважением относиться к родителям.
Пейтон молчала, с бесконечной медлительностью переворачивая страницы, а Лофтис прилег, разбросав ноги, и стал читать новости: мэр признает, женщина отрицает, что-то про NRA[3]3
Администрация по экономическому восстановлению – крупная бюрократическая структура, созданная в соответствии с Законом о возрождении национальной промышленности, принятым в июне 1933 г.
[Закрыть]… «Рузвельт», – подумал он. Что ж, он голосовал за Рузвельта, но одному Богу известно, что он в конечном счете натворит. Всюду голубой орел, распростерший крылья. Скорее всего он хороший человек, демократ, но надо следить за ним. Парадокс: моложавый, состоятельный барристер Милтон Стюарт Лофтис планирует, возможно, сделать карьеру в суде, а возможно, станет младшим сенатором, президентом (нация приветствует первого со времен Вильсона главу страны с Юга). Вопрос. Сенатор, как вы относитесь к простому человеку? Ответ. А-а, поскольку я демократ… Вопрос: Благодарю вас. А как вы относитесь, господин президент, к простому негру? Ответ. А-а, поскольку я южанин… Вопрос. Благодарю вас. А к социальному обеспечению? Ответ. А-а, что ж… Благодарю вас, благодарю. (Сын мой, как ни парадоксально… будучи южанином, и виргинцем, и, конечно, демократом, ты обнаружишь, что находишься в уникальном положении: тебе надо сделать выбор между (а) теми идеалами, которые, считаясь правильными и надлежащими, заложены со времен Иисуса Христа, а наверное, и раньше, в каждом человеке и особенно в виргинцах, и (б) идеалами, заложенными в тебя социоэкономической культурой, на которую ты никак не можешь повлиять; следовательно, я усиленно призываю тебя, сын мой, всегда быть настоящим демократом, а также, если сможешь, быть хорошим человеком…)
Парадокс… но это было так давно и к тому же… да черт с ним. У Лофтиса появилось странное желание выпить виски – приятно, глубоко пробирает. Но это, право, смешно – не должен он пить: он ведь не из тех, кто пьет по утрам… Тут, слегка повернувшись, он увидел Элен: она шла по большой, уходящей вверх лужайке, ведя за руку Моди. Он спрятал розу под газету. Они медленно приближались – мать с дочерью; Элен вела Моди терпеливо, осторожно по живописной, заросшей травой лужайке, пока они не подошли к каменным ступеням, ведущим с маленькой насыпи вниз, и Элен спустилась первой, затем повернулась и, взяв Моди за локоток, помогла ей сойти по ступеням, и они снова вместе пошли по лужайке – две красные ленточки на их одежде взлетали под внезапным порывом ветерка. Моди шла, прихрамывая, и казалась на таком расстоянии очень маленькой и хрупкой, а Элен терпеливо и нежно смотрела на нее.
– Папа, – ни с того ни с сего спросила Пейтон, – что такое «контрабанда»?
– Это значит… – начал он, но тут Элен и Моди появились в кружочке кресел, расставленных на лужайке, и Элен помогла Моди опуститься на траву, а сама тяжело села рядом с ним.
– Милтон, на ковре прожженное пятно от сигареты. Вчера вечером… – сказала она.
– На каком ковре? – спросил он.
– На тебризском.
– О Господи. Ларри Эллис.
– Нет. Долли Боннер. Невыносимая женщина – ее никуда нельзя приглашать.
– Папа, – прервала ее Пейтон, – что…
– Замолчи, Пейтон, – сказала Элен, – мы…
– Одну минуту, дорогая, – сказал Лофтис. – Детка, нельзя прерывать людей. Контрабанда – это… ну, в общем, это что-то незаконное, что-то, что полицейский имеет право конфисковать…
– Конфис… – повторила Пейтон, глядя на него.
– Давай не все сразу, – мягко произнес он. – Начнем с контрабанды. Что это ты читаешь? Ладно, скажем так: в США есть закон, запрещающий иностранцам ввозить в страну духи или оружие…
– Или виски, – докончила фразу Элен с холодным смешком. И сунула руку в карман блузы в поисках сигареты. – Виски может быть контрабандным.
Он дал ей прикурить.
– Виски?
– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала Пейтон с видом знатока и вновь обратилась к комиксам.
Элен передвинулась в своем кресле.
– Это вроде того, как я прошу твоего папу не пить, – сказала она, – когда приходят Эпплтоны, а он идет и покупает еще одну бутылку. Это можно назвать контрабандой.
В нем вдруг вспыхнуло возмущение – кровь прилила к лицу и отхлынула, в то время как он краешком глаза наблюдал за Элен, когда она произносила: «Это можно назвать контрабандой». При этом изо рта ее вырвался дымок, голубой в солнечном свете и на фоне травы, незаметно заклубился и улетел.
– Вот что… – возмущенно начал он, но подумал: «Пропусти мимо, пропусти», – а в эту минуту Элен, почувствовав его раздражение, легонько, почти неощутимо похлопала его по руке, пробормотав:
– Все в порядке, дорогой. Не горячись, не горячись.
Сейчас она даже не смотрела на него – он это чувствовал, – а с улыбкой глядела на Моди, сидевшую на подушке на траве, – худенькую, смотревшую безо всякого выражения в небо прелестными безразличными глазками.
Возмущение прошло. Он тоже наблюдал за Моди, и чувство сострадания охватило его, слегка смешанное с горькой болью. «Сейчас, – сказал врач, добрый старик в Ричмонде, нерешительно, шепелявя, – она знает ровно столько, сколько когда-либо будет знать; это очень плохо, но никогда ведь заранее не знаешь – таинство рождения».
«Великий Боже, неужели это вина? Ну а чья же? Что?
Ну-ну, не расстраивайся. Нет, нет, конечно. Таинство рождения…»
Трагедия… такое случается с кем угодно, в лучших семьях. «Успокойся, – говорил он себе. – Мы ведь любили ее, заботились о ней!» – так говорили люди. «О-о, – говорили ему с сочувствующим, мечтательным видом старые друзья – печальные, унылые, бесхитростные женщины с серыми лицами, – о-о, Элен – святая, она так хорошо относится к девочке. Вам так повезло». Точно Моди, с горечью думал он, в своем недуге была им в тягость, а не в радость. И тем не менее она тревожила его. Он любил ее, жаждал ответной привязанности, которая никогда не могла появиться, но эти глаза – порой он не мог их выносить. Пока не родилась Пейтон, мрачное сомнение жило в нем. Он разглядывал тело жены с подозрением и собственное – с бешеным чувством вины. Таинство рождения… Бедное дорогое нежное дитя. Теперь он всей душой сострадал ей. Но порой она, безусловно, делала его ужасно несчастным.
Элен встала, опустилась на колени и принялась расчесывать волосы Моди – она нежно подперла рукой подбородок девочки, очень осторожно, словно это хрупкая фарфоровая куколка, повернула ее лицо, все время издавая нежные звуки, тихо посмеиваясь, приговаривая: «Вот так, видишь!» – или: «Красиво!» Лофтис поднялся и присел возле них, с улыбкой протянул Элен розу.
– Любовь моя, – сказал он, – как красная-красная роза.
А Элен, занятая своим делом, повернула голову и, метнув на него взгляд, произнесла с легкой улыбкой:
– О-о! – И положила розу на землю. – Спасибо.
И снова повернулась к Моди. Она едва ли заметила подношение. Ее веселое, благостное настроение развеялось и исчезло. «Какого черта», – подумал он. Лофтис поднялся на ноги; проходя мимо Моди, он нагнулся и погладил ее по голове.
Она подняла глаза, серьезные, безучастные, карие и большие, как круглые семенные коробочки, что падают с платанов.
– Доброе утро, папа-папочка.
– Просто «папа», милочка.
– Папа-папочка.
– О’кей, – сказал он.
И пошел вверх по склону, слегка задыхаясь, чувствуя, как покалывает в боку. Вчерашняя вечеринка – он, как всегда, перепил. Долли Боннер… Он выбросил все это из головы. Вокруг него сверкало солнце. Траву, зеленую и душистую, только вчера скосили, и она пружинила под его ногами. Маленькие насекомые шныряли вокруг, кузнечики пускались вскачь от него, а когда он обратил взгляд на дом, тот замаячил перед ним, свежевыкрашенный, солидный, приглашающее открытый дню. Дом был большой, в виргинском колониальном стиле, элегантный дом, – правда, слишком просторный для четверых людей. Они построили его благодаря матери Элен, соизволившей умереть два года назад, за двадцать тысяч долларов. В груди Лофтиса поднималась огромная волна гордости, по мере того как он приближался к дому. Черепица на крыше красиво блестела; побег плюща начал взбираться по водосточной трубе рядом с самшитами, посаженными вокруг цоколя. Покачиваясь на солнце, плющ, казалось, придавал дому характер постоянства, возможно даже – традиции. Лофтис вдруг преисполнился восторга: еще не стерлась новизна собственничества.
Он остановился в тени террасы с навесом, от подъема слегка кружилась голова, – это что, Элен зовет его? Он повернулся – пейзаж перед глазами развернулся как по часовой стрелке: деревья, лужайка, серая полоска воды и далеко внизу стоящая Элен, которая кричала вверх:
– Церковь!
Церковь! О да. Черт побери.
– Никакой церкви! – крикнул он в ответ. – Отведите девочек в воскресную школу! Возьмите машину!
– Что…
– Никакой церкви… – начал он снова.
– Что… – Она что-то говорила, но слова ее унесло ветром.
Он безнадежно повел рукой, повернулся. В гостиной он налил себе виски из графина, стоявшего на серванте, – почти полстакана. Затем бросился на кухню, где Элла Суон, склонившись над столом, молча чистила картофель. Лофтис посражался с подносиком для льда в холодильнике, ободрал себе большой палец, но наконец извлек оттуда два кубика и бросил их со звяканьем в виски.
– М-м-м! – произнесла Элла со вздохом подозрения и упрека: этакий первозданный грех, особенно по воскресеньям.
Он слышал такое раньше, он снова это услышит. Их целая банда – старые негритянки-поварихи, и няни, и прачки, от рождения до смерти вздымающие вверх глаза с осуждением и уверенностью в своей правоте, а по субботним дням в гостиных – с бессильным упреком, в воскресенья на кухнях – сквозь угар. Он весело приподнял стакан, предвкушая выпивку.
– Это глядя на тебя, Элла, – сказал он. И сделав большой глоток, ощутил приятную теплоту.
– Хм-м-м, – произнесла Элла. И нагнула к картофелю лицо – черное и похожее на лицо гнома, всё в складках и морщинах. – Никто на меня не глядит, – прогнусавила она, – и уж никак не сегодня. Правда, знаете, кто смотрит на вас? Господь Бог смотрит сверху. Он говорит: «Я – истина и путь и жизнь». Вот что говорит Господь…
– Хорошо, Элла, – сказал Лофтис. – Отлично. Отлично. Никаких проповедей. Уж никак не сегодня… ради Христа, – добавил он осторожно и улыбнулся.
– Это Сатана так говорит. Так и вижу копыта и дьявольские глаза. Стыдно вам должно быть, славьте благое имя Господа.
А он, притулившись к холодильнику, глотнул еще виски – почувствовал, как его, словно одеялом, окутывает удовлетворение. Кухня – подобно всем комнатам, всем сценам – начала очень медленно и так сладостно видоизменяться: стол, блестящая плита, Элла, безликие белые стены – все это, словно медленно, неземным путем продвигаясь к конечной истине, начало приобретать идеальные очертания. Даже утреннее солнце, затоплявшее пол яркими пятнами и лужицами, казалось, было частью этого удивительного дома – его дома.
Лофтис вышел на маленькое крыльцо, примыкавшее к кухне, и постоял там, озираясь. С этой стороны дома по границе его собственности, спускавшейся к заливу, стояли в ряд кедры. Земля под ними была голая, без травы, затененная, казавшаяся прохладной, – на него, как прежде, накатила ностальгия. Столько прошло времени – ведь такие же кедры были в школе, куда он ходил мальчиком, – в школе Святого Стефана, где выцветшие кирпичные здания смотрели на болото. А дальше была река – гладкая, и широкая, и синяя, на мили лишенная по обоим берегам жизни, если не считать одинокой школы, так что иногда, стоя под кедрами, вдыхая запах соли и вечнозеленых деревьев, он смотрел на холодную реку, на бесконечные мили ив и кедров на другом берегу и словно в трансе представлял себе, что это вовсе не Тайдуотер, а эти кедры, да и все это девственное, холодное, залитое солнцем пространство находится совсем в другой стране. Возможно, в России – на просторах Арктики, о которых он читал в книгах по географии, где Лена и Енисей (представлялось ему) вечно стремятся к слепящему солнцу Северного океана среди безлюдных берегов, усеянных кедрами и ивняком, где вечно царит холод и тишина. Однажды он пришел именно к таким кедрам – было это в его последнюю весну в школе, когда в приступе самоанализа, редко с тех пор повторявшегося, он взял на кухне печенье и книгу – поэзию Китса? Шелли? – и, растянувшись в утренней тени, стал в полудреме читать, а со всех сторон неслись сельские звуки: мычали коровы, пронзительно кричали в болоте морские птицы, крикнул мальчик, – пока лениво не прозвучал звонок, сзывающий к утренней службе, и он вместе с другими мальчиками направился в часовню, нехотя оглянувшись на то место, где он лежал, и нареку, и на кедры, встревоженный чем-то – утраченной красотой или, возможно, тем, что одна яркая минута его юности будет почему-то навсегда связана с невидимым и мимолетным запахом кедров.
Он вдохнул сейчас запах кедров: этот запах принес с собой осознание времени, всего, что ушло, – того, о чем он больше не хотел думать. Столько прошло времени!..
Часовня. Церковь. Он мрачно поиграл с мыслью о приличии. Если он не пойдет в церковь, Элен устроит скандал. Нет, она никогда не устраивает скандалов – просто затихает, становится ужасно неприятной. Что ж, он не пойдет – и все. Забудем об этом…
Он повернулся.
– Элла, – сказал он игриво, – не выпьешь со мной?
– Кто? – Она была явно шокирована. – Только не я. Даже за миллион долларов. Вы можете грешить сколько хотите. Мне-то какое дело…
Мрачные обвинения летели ему вслед, пока он шел в столовую к серванту и наливал себе виски. Оттуда он прошел на террасу, где вдруг увидел Элен и двоих детей, поднимавшихся снизу. Почти автоматически он хотел было спрятать питье, но, передумав, остался стоять в дверях со стаканом в руке.
– В левой руке – первый за сегодняшний день, – произнес он с неуклюжим юмором. «Черт побери, – подумал он, – как неловко…»
Элен не произнесла ни слова – лишь бросила на него осуждающий взгляд. Поднявшись на террасу, она направила детей к двери.
– Пейтон, – быстро произнесла она, – отведи Моди наверх и помоги ей одеться для воскресной школы.
– Пошли, Моди, – мягко произнесла Пейтон. – Пойдем наверх. Да ну же, Моди.
Они исчезли в гостиной – слышен был стук ноги Моди: звук постепенно таял, прекратился, снова зазвучал на лестнице над ними, опять прекратился. Элен повернулась.
– Это что еще за выдумка? – сказала она. Милтон пристально наблюдал за ее лицом, напряженным от сдерживаемого гнева. – Какой черт вселился в вас?
– Ой, послушайте, Элен… – Он неопределенно повел рукой. «Совсем как она, – подумал он. – Убрать детей, а потом злиться, устраивать ад. Ведь было так мило…»
Он глотнул виски с легким вызовом.
– Выпьете? – спросил он и тотчас пожалел об этом. «А теперь… О Боже», – подумал он.
Лицо ее смягчилось, в глазах появилась застенчивость, усмешка, игривое, почти нежное выражение. Она дернула его за рукав, направляя к дивану.
– Присядьте, дорогой, – сказала она. – Послушайте, – мягко начала она, садясь рядом с ним в тени; она выглядела такой красавицей, какой была в свое время десять лет назад, – бледные щеки, не тронутые возрастом, лицо девушки без единой припухлости, или морщинки, или провала, снова прекрасное, хотя, может быть, дело тут в виски… – Послушайте, – говорила она, – вы же знаете, что нельзя так пить все время. Вы знаете, что испортите себе здоровье. Дело не в морали и не в том, что это аморально, дорогой… просто вы же не можете везти девочек в воскресную школу в таком состоянии… а вы знаете, что мы должны идти в церковь… мы же обещали… вы это знаете, дорогой…
Вы знаете, вы знаете. Больше он уже не слушал. Все та же старая песня. Иисусе Христе, это ужасно. Зачем она стала разыгрывать из себя мать? Почему не признаться, что она презирает его за то, что он пьет, вообще за все? Вместо этого ее постоянного холода, молчания, горечи – доведенная до отчаяния мать, явный наигрыш. Почему она хоть раз не устроила сцены, скандала? Тогда он мог бы взорваться, выбросить наконец все из себя. Ох, до чего же это ужасно. Ужасно. Иисусе Христе, как ужасно!..
Но он не слушал ее. На миг настроение приподнялось и быстро растаяло. Он смотрел мимо ее щеки на залив, застывший в парном штиле. Лениво кружили несколько чаек. Где-то невидимо зачихала моторка, заглохла. Зимой, подумал он, залив будет серым и замерзшим, обрамленным по берегу снегом, – акры холодной соленой воды, а в доме будет тепло, рядом с ним Пейтон, они смогут смотреть на плавни, на чаек, описывающих круги, на небо, полное наводящих уныние облаков цвета сажи. Он и Пейтон… они будут вместе в теплом доме, но это случится зимой, и он будет старше и даже скорее всего не на пути к тому, чтобы стать сенатором… нет, судьей.
Он громко рыгнул. Элен появилась перед ним, плывя на облаке алкоголя, наполняя его вдруг возникшей невыносимой досадой.
– Послушайте, дорогой, вы же знаете, что вы не должны… вы так давно обещали…
Так давно.
Он поднялся, глядя вниз, на нее.
– А теперь послушайте вы, дорогая, – сказал он, стараясь, чтобы в голосе не звучало злости, – вы могли бы уже знать, что я буду вести свою жизнь так, как мне – черт побери – нравится. – Она заговорила было, в горле ее рос протест. – Подождите минутку, – продолжал он, – я вовсе не хочу быть мерзким. Я просто хочу, чтобы вы знали несколько вещей – в том числе то, что мне нравится праздно проводить воскресные дни, и, во-вторых, то, что мне нравится выпивать.
Она вскочила с дивана.
– Эгоист…
– Потерпите, – сказал он, глядя в пол, почему-то боясь смотреть на нее. – Подождите, черт побери, минутку. Ничего эгоистичного в этом нет. И я не хочу развращать кого-либо. Я буду ходить в церковь достаточно часто, чтобы избиратели знали, что я не атеист. Я давно говорил вам о моей вере или отсутствии ее. Я устал от того, что мои воскресные дни портят банальности, которые нанизывает Кэри Карр… этот…
Не произнеся ни слова, она направилась к двери, затем, повернувшись, пробормотала:
– Избиратели. Это же смех. – На минуту она умолкла – тишина на грани слез. – Ох, Милтон, Милтон, – сказала она безнадежным голосом и вышла из комнаты.
Он с теплым чувством посмотрел в небо. Вот он и сказал ей.
Однако что-то нарушило его умиротворение. Отвратительное чувство вины наползло на него. Не следовало ему говорить… «Ох, Милтон, Милтон», – сказала она. Похоже, требуется загладить вину, принести извинения. Но с чувством всего лишь усталости он понимал, что слишком поздно. Да черт с ним! Он глотнул виски, услышал голос. Выглянул из-под навеса: Пейтон стояла наверху, у окна, в нижнем белье и с улыбкой смотрела вниз.
– Привет, глупенький.
– Как дела, мое прекрасное дитя? – спросил он, поднимая стакан.
Элен позвала ее, Пейтон умчалась, окно с грохотом закрылось.
То давнее воскресенье случайно подвело Лофтиса к пониманию кое-чего – возможно, себя. В тот день при благодатном солнечном свете на лужайке лежали призраки осуществленного и погубленного. Повернись он достаточно быстро, он мог бы увидеть их и испугаться. Но когда он повернулся, было уже поздно: настал вечер, и момент узнавания был навсегда утерян.
А сейчас:
– Будь так добр, – весело произнесла Долли Боннер с другого конца залитой солнцем лужайки, казалось, величиной с акр, – налей мне еще, Милтон-лапочка!
Вдали церковный колокол пробил три раза. Тени на траве стали длиннее.
Как она это сказала – «лапочка»…
– Да-да, конечно. Буду счастлив, Долли, лапочка.
Лофтис неловко поднялся с кресла – он напился, слишком напился, так что надо осторожно нацелиться и пройти. Перебираясь через ноги мужа Долли, Слейтера (обычно произносят «Слоутер», а вообще он известен как «Пуки – Злой Дух»), он на секунду воспользовался коленями Пуки в качестве опоры.
– Извини, Пуки, – сказал он и направился к стулу Долли, с улыбкой и легким намеком на поклон взял у нее стакан и продолжил свой путь вверх по склону, чувствуя, какой стакан липкий и приятно теплый от ее руки. Пройдя несколько шагов, он повернулся, посмотрел на стаканы Пуки и Элен: в своей спешке он забыл про них. Но стаканы были наполовину полны – Пуки с Элен беседовали, не обращая на него внимания. Он снова повернулся, Долли подмигнула, улыбнулась – все это указывало на скрытое, озадачивающее, однако слегка возбуждающее понимание. Он все еще видел ее улыбку, когда повернулся, и дом наверху без усилия с его стороны встал на свое место.
Дикое, шальное возбуждение обуяло Лофтиса. Хотя ум его был, возможно, затуманен лишним стаканом виски, но он почти пять часов пребывал в состоянии счастливого блаженства. Омерзительная утренняя атмосфера дома изменилась после ухода Элен и еще одного стакана виски и приняла истинное значение, исполненное очарования одиночества. В безопасности своего туманного Эдема он бродил по дому: кружевные занавеси взлетали бледными воздушными шарами, – и услышал бурю, устроенную гравием на подъездном пути, когда отъезжала Элен; просигналил клаксон, вдали засмеялась Пейтон, потом тишина.
Оставшись один, он включил радио – новое и великолепное, «Этуотер Кент», которое он купил полгода назад за триста долларов. Внезапно загремели атмосферные помехи – он бросился к кнопке. Хор воскресной школы зачирикал фальцетом «Иисус любит меня». Наверное, методисты. Он почти видел их: ряд кленовых стульев, молодые женщины с дурным запахом изо рта и полукружиями пота под мышками, какой-то подвал, пахнущий протухшей сочащейся водой и заплесневелой религией. Печальное, затененное место, где бесконечное бормотание притч и заповедей переживает взросление и увядание, как и пыльный, благочестивый косой луч воскресного солнца на потертых сборниках церковных гимнов, и на поломанной электрической арматуре и на оплетенных паутиной бетонных стенах. Методисты. Они ненавидят красоту. О Господи… Он зевнул, глотнул виски, выключил радио.
Погруженный в свои мысли, он посмотрел на пол, увидел на ковре черное подпаленное место, где упала сигарета. Долли Боннер. Пожалуй, можно это подправить. Долли Боннер. Да. Бледные руки прошлым вечером делали тап-тап-тап по сигарете – пепел посыпался вниз, на ковер. Он принес ей пепельницу, чертовски приторно умасливая ее. «Долли, стыдно вам – всего пять минут». – «Ох, Милтон. – Ее бледная рука легла на его плечо. – Элен. Тебриз. Мне так жаль». Лицо тоже бледное, с опущенными уголками нежных губ, слегка влажных от последнего, изящно проглоченного глотка виски с содовой. Бледное. «Почему вы такая бледная?» – спросил он. «Ох, Милтон, лапочка, я никогда не бываю на солнце. Я так восприимчива к солнцу». От кончиков ее пальцев по нему пробежала пульсирующая волна наслаждения, подобно тому как шутники, орудуя электромагнитом, вызывают шок в твоей руке. Затем ее смех, почти неслышный, слегка встряхнул ее грудь – застенчиво выступило бледное полукружие груди.
Он откинулся на спинку дивана. Комнату прорезали солнечные лучи. Вдалеке залаяла собака, мужской голос: «Ровер!» – и лай растаял в приятной тишине воскресного дня.
– Доброго вам утра, миста Лофтис.
Руфь, дочь Эллы Суон, зашаркала по комнате с мокрой тряпкой. Это была огромная неряшливая негритянка в очках со стальной оправой, постоянно чем-то удрученная. Она приходила по воскресеньям помогать матери.
– Доброе утро, Руфь, – сказал он, поднимая в приветствии руку. – Как твоя спина?
Она неуклюже прошла мимо, бормоча что-то насчет мучений, преодолевая ступени лестницы с унылым звуком, какой производит человек, ходящий вперевалку, этакая больная женщина-громадина, постанывающая и охающая.
«Значит, Долли, – подумал он. И откинулся на спинку дивана. – Значит, Долли…» Он резко поднялся и подошел к телефону.
А теперь, балансируя серебряным подносом с бутылкой виски, льдом и чистыми стаканами, он направился назад на лужайку с намерением ничего не пролить. Кто-то – возможно, дети – включил радио: фрагмент Брамса – безбрежный печальный вздох нарастал за ним и рассеялся в воздухе. Под кедрами играли дети. Он поднял голову и широко улыбнулся, и они дружно помахали ему. Пейтон крикнула: «Можно нам имбирного эля?» Он кивнул, продолжая улыбаться, и Пейтон с Мелвином, сынишкой Долли, понеслись на кухню, оставив Моди уныло сидеть под деревьями.
Когда Лофтис подходил к садовым креслам, Пуки вскочил и направился к нему.
– Разрешите вам помочь, старина, – крикнул он с навязчивым пылом. Он был маленький и лысеющий, в зеленоватой шелковой спортивной рубашке, сквозь которую проглядывал отливавший розовым цветом дынеподобный живот. Быстро приближаясь к Лофтису, он шел по траве короткими неслышными шагами собственного изобретения, как человек, неумело катающийся на роликах. Он был уже совершенно пьян – для этого всегда хватало одного-двух стаканов. Лофтис презирал его.
Он вежливо отмахнулся:
– Все в порядке, Пуки… – и поставил поднос рядом с Долли. Краешком глаза он увидел Элен. Она явно все еще злилась на него – лицо ее раскраснелось и было опущено к вязанью, которым она занималась.
– Милтон, – произнесла Долли, – я сказала Элен, что, если бы смогла найти для Пуки такие фланелевые брюки, как у вас, мне пришлось бы беспокоиться, не уведет ли его какая-нибудь девчонка. – И захихикала.
Лофтис склонился над Долли, наливая в стаканы виски. Он чувствовал запах ее духов.
– Дело вовсе не в штанах, дорогуша, – сказал Пуки, садясь, – а в моей личности.
Его смех, взорвавшийся в воздухе, звучал дико и приводил в уныние, и последовавшее молчание – поскольку никто больше не рассмеялся – было ужасно. Долли заполнила брешь суровым высказыванием по поводу размера Пукиного зада, Элен промолчала, склонившись над своим вязаньем.
– О-о, любимая, – произнес Пуки.
Долли повернулась в своем кресле – неожиданно крутанула бедрами, туго обтянутыми черным. Даже весной этот прекрасный черный цвет… Лофтис помешал напитки в стаканах и взглянул на Пуки. Как она смогла так долго прожить с подобным ослом? Пуки был агентом по недвижимости. Ему везло: во время земельного бума перед обвалом рынка он получил достаточно комиссионных, чтобы ездить на «бьюике», получить доступ в самые лучшие дома и нанять молодого стильного декоратора из Ричмонда. Лофтис считал себя человеком достаточно обеспеченным, чтобы сделать несколько смелых, но тщетных попыток вступить в Загородный клуб, и всегда думал, что навязчивая дружба с ним Пуки является плохо скрытым стремлением побудить его замолвить несколько добрых слов членам комитета по приему. Они с Долли были баптистами. Уныние и квакерство. Лофтис презирал его. Презирал, потому что Пуки был крикливым и никогда не учился в колледже, а кроме того… Потому что, кроме того – Боже, это ведь правда, внезапно шокированный, подумал он, – с тех пор как женился, Долли была первой женщиной, с которой он подумывал вступить в связь.
Он раздал напитки. Элен, оказалось, не хотела больше пить: она вообще пьет только за компанию, пояснила она со слабой улыбкой в сторону Долли. Вино с ней не ладит.
– Я знаю, как это может быть, милочка, – многозначительно произнесла Долли.
Элен вернулась к своему вязанию. Какое-то время они все разговаривали ни о чем. Долли лениво болтала о стеганых одеялах и матрасах, и легких покрывалах, и о маленьком городке Эмпория, где она жила ребенком, а Лофтис, погрузившись в свое кресло, беспечно ковырял парусиновое сиденье. И он знал: ему бы все до смерти наскучило, если бы Долли, что-то прошептав, всякий раз не скрещивала ноги так, что ему становилось жарко от желания. Все было очень просто, и Лофтис не спускал глаз с ее ног, а мозг свой с бессознательным увлечением занимал покрывалами, и стегаными одеялами, и «забавным маленьким старым городком арахиса», из которого ее вызволил Пуки. «Есть в ней что-то простонародное, – подумал Лофтис, когда она замолчала, чтобы глотнуть виски, – но есть и определенная наивность; по уму она маленькая девочка, которой не трудно будет овладеть при одном условии – не быть с ней слишком долго». Он подумал о некоторых возможностях: можно как-нибудь вытащить ее в Ричмонд – никто об этом не узнает…
Но о чем это он думает? Великий Боже, ему никогда не приходили в голову подобные мысли. Его глаза виновато перекинулись на Элен, потом снова на ноги Долли. Он выпил. Над заливом образовались длинные, вытянутые по диагонали облака. Солнце по-прежнему было над кедрами – безупречный медный диск. Пересмешник, чирикавший весь день, улетел, и никакой звук не нарушал тишины – на лужайке не слышно было ничего, кроме легких взрывов и спадов разговора, кружившего над креслами как шмели, да раздерганных клочьев Брамса, которых никто не слушал и которые летели вниз по склону, печально тая в послеполуденном воздухе.
Он выпил.
Улыбающееся лицо Пуки возникло словно красноватый ирреальный шар.
– А как насчет «Нового курса»… – Он прошел мимо них, шелестя брюками, к виски; колени Долли исчезли за ними, снова появились. – …собираются отдать все деньги людям, которые никогда их не зарабатывали, собираются отдать все деньги своре ниггеров, которые и считать-то не умеют.








