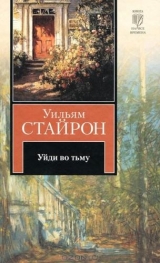
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
Кто это горит теперь?
Долли спала. Лофтис отвернулся от моря, проснулся; в голове стучало, и он сел на край кровати. Он отвел взгляд от простыней, от белых разбросанных рук и стал смотреть на залив. Дождь так и хлестал. Сирены предупреждающе ревели вплоть до мыса Генри, и прожектора прорезали темноту – в ночи полно было испуганных глаз. В бараках, стоявших на поле, спали солдаты. Лофтис уткнулся головой в руки и стал думать о войне и времени, о кострах на мысе и о великих людях, а также о том, как стыдно родиться для такого позора.
Он мог бы умереть, если бы рядом с кроватью не зазвонил телефон и девушка из «Вестерн юнион»[10]10
Телефонная компания.
[Закрыть] не прочитала голосом усталой служащей:
– «МОДИ БЕЗ СОЗНАНИЯ. ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО».
Даже осенью, в сезон угасания, время приносит забвение смерти, утраченной любви и утраченных надежд. Мужчины (как, например, Лофтис), чьи отцы двадцать лет пролежали во тьме, часто благодарны времени за то, что оно даровало им возможность бесстрастно смотреть на скрытые кости, бесплотную ухмылку, лишенный волос череп, оплетенный корнями и ползучими растениями. Лофтис мог найти прибежище в течении времени, предающем все забвению, также легко, как находил это в виски – собственно, комбинация этих двух факторов: несколько неосмотрительных прикладываний к бутылке, прежде чем он доехал до Йорктауна, и мысли о том, что, как бы ни было плохо, это скоро пройдет, не дала его нервам разойтись на протяжении поездки. Смерть была в воздухе: он недолго подумал об отце, о Моди, но разве осень не сезон смерти, а вся Виргиния не умирающая земля? В лесах горели странные, чем-то даже удивительные костры; день был сер, хотя дорога все еще блестела от прошедшего ночью дождя, и плыл серый дым, забивая ноздри Лофтиса запахом горящего леса и листьев. Призраки Рошамбо[11]11
Граф де Рошамбо (1725–1807) – командир французского отряда, присоединившегося к армии Вашингтона в 1781 г., участвовал в осаде г. Йорктаун.
[Закрыть] и Макклелана[12]12
Джордж Макклелан (1826–1885) – американский генерал.
[Закрыть], старые костры прошлых осеней, дым от которых был таким же голубым, как этот, таким же роковым. Лофтис вспомнил о другом: о том, что в прошлом августе он произвел два неплохих задела, вспомнил отрывок песенки – на каком же это было сборище, какой танец? Он глотнул виски.
На заре он отвез Долли домой, с несчастным видом поцеловал на прощание. Она сказала:
– Ой, позвони мне, когда ты туда приедешь. Когда выяснишь, как там все.
Он ответил коротко:
– О’кей, котеночек. Прощай.
Заря была унылая, необычная – она отбрасывала бледный отраженный свет на западную часть неба, и было похоже больше на сумерки, чем на утро. У Лофтиса болела голова, он думал о Моди. «Боже, – думал он, – всю жизнь я так мало думал о ней. А теперь это…»
И он быстро забыл о ней, с благодарностью вытолкнул ее из сознания, – новое видение явилось ему, наполнив чувством облегчения и мгновенно возникшего удовлетворения: Пейтон. Какое-то время он почти не помнил о чудесном, замечательном моменте, а сейчас память вернулась к нему, принеся такое же удовольствие, какое испытываешь, обнаружив в унылом конце вечеринки четыре спрятанные бутылки пива: Пейтон ведь тоже будет в Шарлотсвилле. Ему придется поохотиться за ней: она будет с этим парнем – Картрайтом. «Вот видишь, Боже, это закон компенсации: за мой испуг ты дал мне эту прелесть. Пейтон, дорогая моя… Благодарю тебя также за карточку: нам обоим хватит запала (даже и на Картрайта хватит, если он хочет приехать с тобой), чтобы подняться в горы, в Афтон».
«Прощай, папашечка». О Иисусе. Он налил себе из другой бутылки и выпил. Мимо промчался старенький автомобиль с молодежью, размахивавшей флажками, бутылками, сиявшей праздничными улыбками. «Ну конечно, – подумал Лофтис. – Футбол». Девушка у приспущенного окна повернулась, улыбнулась и подмигнула ему, и подняла вверх бутылку. Он улыбнулся в ответ и поднял свою бутылку над приборной доской, но девушка исчезла за поворотом, резко качнувшись, обхваченная рукой мужчины в куртке. В унылом округе за Ричмондом – таком бедном, помнил Лофтис, что пролетающей над ним вороне пришлось бы запасаться пищей, – стебли кукурузы стояли ободранные и бурые. Гучленд? Флюванна? Какие смешные названия. Он снова глотнул виски – от отчаяния. В хвойных лесах за негритянскими хижинами среди деревьев вился сносимый на землю дымок – над ним кружили канюки, взмывали выше и выше, словно возвращающиеся ангелы, и исчезали над Лофтисом. Один раз он услышал звук выстрела, далеко, и увидел крестец запаниковавшего оленя. «Только не дай ей умереть, пожалуйста, – молил он неизвестно кого, снова прикладываясь к бутылке, – ради всех нас оставь ее живой, даже…» За Шарлотсвиллем мимо с ревом промчался мотоцикл – мужчина и женщина в ковбойских костюмах и самолетных кепи, и женщина обратила на Лофтиса голубые, как у младенца, глаза и вздернула нос. Задыхаясь от ярости, Лофтис помчался за ними со скоростью семьдесят миль в час, но потерял их, и когда в одиннадцать часов он остановился у больницы, то был весь потный, никак не мог найти места для парковки и еле сдерживал тошноту.
Он бесцельно шагал по коридору наверху под надменными взглядами медсестер и с возрастающей слабостью вдыхал знакомый больничный запах. Затем в испуге наткнулся в углу на Элен. Он глупо заморгал, глядя на нее, вдыхая ее духи – медицинские запахи поглотил аромат синтетических гардений. Он взял ее под локоть. Она выглядела ужасно и повела его на застекленную террасу, где они сели и она стала рассказывать про Моди. На террасе было чисто и неприятно тепло и паршиво. В кресле, в котором сидел Лофтис, ему в мягкое место впивались пружины, и по коридорам неслись хлюпающие звуки, издаваемые где-то радиатором. Лофтис был очень напряжен, и по мере того как Элен говорила, наполняя его уши песнопением из медицинских терминов слишком быстро, слишком сбивчиво для понимания, он сознавал, что приличнее было бы оставаться трезвым – по крайней мере в это утро. Ноябрьский свет, серый и удручающий, накрыл террасу. Его глаза – что это она говорит: остео-что-то, туберкулез чего? – ненадолго перешли с лица Элен на кипу журналов, а теперь он перевел расплывающийся взгляд на территорию колледжа, на лишенные листьев деревья вдоль дорожек, по которым спешили юноши в пальто, и на голубые высокие холмы. Он рассеянно взял руку Элен. «Да-да, – говорил он, – я понимаю», – и снова окидывал взглядом террасу: почти безлюдная, она походила на мавзолей; у окна сидел, сгорбясь, старик в халате и пощипывал свои старые голубые вены на руке.
– Врачи говорят, что ей удастся выбраться, – сказала наконец Элен хриплым и несчастным голосом.
– Отлично, – сказал он, – отлично…
И эти его слова, должно быть, показались Элен странными, даже пока он произносил их, поскольку она с любопытством, не мигая, приоткрыв рот, смотрела на него. А он думал: странно, что его мысли сейчас о Долли – ничего конкретного, что-то сказанное ею (позвонить ей по телефону, так? Да, но не насчет Моди, а просто чтобы поговорить) застряло в его сознании, и он тотчас подумал: как поразительно, как поразительно, казалось, завладела она его жизнью, так, пожалуй, исподволь, но всецело.
– Отлично, – тихо повторил он не подумав, и в эту самую минуту почувствовал, словно его огрели кирпичом по голове, что они оба, право, лишились рассудка. В сером свете его сознание, казалось, сфокусировалось, и, быстро повернувшись, он увидел испуганные глаза Элен и почувствовал пот под мышками. – Я хочу сказать, – произнес он слишком громко, – я хочу сказать, Элен, что, черт возьми, происходит? Когда вы уезжали, ничего дурного, особенно дурного, с Моди не было. Что-то случилось здесь? Что же случилось, Элен?
Она с минуту смотрела на него. Глаза ее расширились, веки покраснели, и было ясно, что она не вполне понимает услышанное. Потом она закрыла глаза и медленно покачала взад-вперед головой, словно не могла вынести идиотизма его вопроса.
– О-о, – простонала она, – о Боже!
Позади них, на фоне прямоугольника холодного света, старик сидел, согнувшись над столом, и, копаясь в куче журналов, чесал другой рукой промежность; Лофтис тряхнул головой, стремясь обрести свет и разум. Он увидел, как шея старика вдруг вытянулась, точно у индейки, адамово яблоко подскочило, и он уставился – безо всякой видимой причины – на холмы. «Я протрезвею», – подумал Лофтис.
– Я хочу сказать, Элен… ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вы говорите, доктора говорят, что у нее есть шанс, и все…
– Милтон, – перебила она его, – мне кажется, я больше этого не вынесу. Не вынесу видеть вас таким. Я просто не могу. С меня хватит. Неужели вы не видите, что происходит?
Он смотрел на нее, ища сочувствия, внезапно расстроившись, и вдруг подумал, что отдал бы все свое состояние за один момент трезвого искупления.
– Элен, я понимаю…
– Не говорите ничего. Просто не говорите. Ваша дочь так больна, а вы даже не в своем уме – да, недостаточно в уме, чтобы уразуметь, что происходит. Вы…
Внизу, среди звона коровьих колокольчиков, ревели гудки в канун Дня Всех Святых, а позади них старик инвалид вдруг задохнулся, страшно и непристойно, с таким звуком, точно по трубе стекали, булькая, остатки воды. Они оба обернулись – мужчина поднял на них глаза, вполне совладав с собой. Его нос с ободранной кожей походил на большую турецкую саблю, а глаза были так глубоко посажены, что показались Лофтису бильярдными шарами, застрявшими в лузах. К удивлению Лофтиса, на теле мужчины вообще не было волос. И презрев условности, что является привилегией одиноких стариков, он не представился, а лишь уставился на них двоих из пещер своего черепа и протянул тощую, лишенную волос руку к холмам.
– Что ж, буду откровенен, – сказал он. – Я приехал сюда умирать. Приехал, чтобы умереть рядом с мистером Джефферсоном[13]13
Джефферсон, Томас (1743–1826) – третий президент США.
[Закрыть]. Он – там, – и он указал в направлении Монтичелло, – там, на холме. В ясные дни видно отсюда. Да, сэр, я сижу здесь днем и смотрю на холмы, и мне становится много легче при мысли, что я нахожусь недалеко от мистера Джефферсона в такое время, когда пришла пора сбросить эту смертную шкуру. – Голос его зазвенел, тонкий, дрожащий и старый; Лофтис увидел, как тоненький кусочек кожи слетел с его носа, но теперь на щеках его появился легкий румянец, довольно болезненный. – Я приехал с Восточного побережья провести последние дни здесь, и я думаю, мистер Джефферсон, будь он жив, оценил бы это. Он был джентльменом. Он был…
В помещение проник солнечный луч, и в то же время появилась услужливая медсестра.
– Мистер Дэбни! – сказала она. – Вы же знаете: вам не разрешено вставать из кресла. Плохой мальчик! А теперь – назад, в постель.
У мистера Дэбни не было возможности даже попрощаться. Он сказал только:
– Да, мэм, – и покорно побрел за медсестрой, оставляя позади легкий запах спирта для протирки.
– Я достаточно трезв, Элен, – спокойно произнес Лофтис, повернувшись к ней. – Я трезв. И я прошу меня извинить. Могу я теперь увидеть ее?
– Нет, – сказала Элен, – она сейчас спит.
– О-о. – Он помолчал. – Что ж, что мы собираемся делать?
Она уткнулась лицом в руки.
– Мы просто должны ждать.
Это было мучительно, но они стал и ждать, не разговаривая друг с другом. Внизу, на улице, непрерывным потоком ехали к стадиону машины, увешанные вымпелами и флагами Конфедерации. Элен курила сигарету за сигаретой, просматривая «Ридерс дайджест». Лофтис пытался думать о Моди, но мысли его почему-то были смутными: что, ну что человек в такой момент должен чувствовать? Неужели после двадцати лет не любви, а лишь своего рода грусти, легкой нежности, ты чувствуешь не страх и не горе – просто тоску, потребность, чтобы тебя оставили одного? Жестоко не любить или не чувствовать, как полагалось бы. Это был ад. А теперь еще более жестоким было ощущать страстное желание сказать успокоительное слово, зная, что ты окончательно стал неудачником в глазах Элен и что она сочтет твои утешения непристойными или фальшивыми, а возможно, и то и другое. Тем не менее он протянул ей руку, говоря:
– Элен, не волнуйтесь, все будет в порядке, не волнуйтесь. – И слегка удивившись, почувствовал, как она кончиками пальцев взяла его руку, глядя на него чуть ли не с добротой печальными глазами, словно на этот раз – только, пожалуй, на этот раз – она снимала с него вечный сокрушающий груз своего осуждения.
– Побудьте со мной, – сказала она.
– Да, – сказал он. – Да, я буду с вами, Элен.
– Побудьте со мной, – повторила она.
– Да, – сказал он.
– Я никогда в жизни не испытывала ничего подобного.
– Все в порядке, лапочка, все будет в порядке. Просто постарайтесь легче к этому относиться.
Она отняла у него руку и произнесла монотонным голосом:
– Вы же видите: произошло то, чего мы всегда ожидал и. Вы ведь видите, верно? Я говорила вам, как всю жизнь боялась этого. Помните, что сказал нам тот доктор в Ричмонде много лет назад? Притом, в каком она состоянии, все может повернуться к худшему. И теперь вот… – Она помолчала. – Но я знаю, – продолжала она монотонно, – я знаю. Я знаю, что произошло. – Она снова помедлила и продолжила более взволнованным голосом: – Да, я знаю, Милтон. И только я это знаю. Только если это случится, я вам скажу. Вы понимаете, что я имею в виду?
– Нет, – ответил он, – нет, Элен, я просто не вижу…
Слушая ее, он мог бы поклясться, что она на какой-то момент потеряла рассудок, но сейчас она, снова схватив его пальцы, спокойно произнесла:
– Побудьте со мной, Милтон. Побудьте сейчас со мной. Побудьте со мной, Милтон.
– Да, Элен, но что же случилось, что не так…
Все та же кряжистая медсестра появилась в дверях, суетливо шурша одеждой и неся поднос с градусниками, и Лофтис подумал, что она похожа на Лагардия, мэра Нью-Йорка.
– Миссис Лофтис, – сказала она, – Моди все еще спит, а доктор Брукс хотел бы видеть вас на минутку.
Элен быстро встала.
– Я на минуту, Милтон.
Он поднялся со стула.
– Хорошо, – сказал он. – Вы не хотите, чтобы я…
– Нет, – сказала она. – Все в порядке. Доктор Брукс, он… он знает меня и…
Лофтис неуклюже взял ее за локоть.
– Не волнуйтесь, милая, – сказал он. – Она будет о’кей. Мы все…
Но она уже ушла. Он подошел к окну, думая о женщинах в своей жизни. Ему хотелось выпить, и он с тоской подумал об отделении для перчаток в машине. Снизу донесся вой клаксонов и какой-то слабый печальный звук, похожий на звон далеких бубнов, и люди гуляли под безлистыми деревьями. На фоне холмов взмыл в небо большой синий воздушный змей и сник. Четверо молодых людей проехали с песнями в открытой машине, махая оранжевым флагом, и исчезли, а за спиной Лофтиса вместе с запахом лекарств возник женский голос, звавший доктора Холла: «Доктор Холл, в операционную». Тяжел скальпель того, кто режет, тяжел нож, тяжела вина. Профессионалы вроде него – они знают силу показного знания. Он облизнул губы – они были сухи. Немного удивился, почувствовав, как дергается нерв под одним веком. Что имела в виду Элен, говоря о Моди? Или что-то внутри ее все-таки лопнуло? «Бедная маленькая Моди, – подумал он, – только не дать ей…» Воздушный змей взмыл в сером небе, испуганно устремился вниз и зацепился хвостом за дерево. Два мальчика полезли за ним, шаря среди веток, но потом плюнули, и воздушный змей продолжал уныло висеть среди самых верхних ветвей – синее пятно, словно сойка, застрявшая в жимолости. Под ним была дорожка, дома, выстроившиеся в ряд, и дача – убогая, насколько помнил Лофтис, но уже тогда, тридцать лет назад, облагороженная дикими розами, которые обвивали вход, совсем как в романе Джин Страттон-Портер. Они назвали дачу Домом отхода ко сну – сообразно лексикону восемнадцатилетних влюбленных, а ускользать от отца его подружки, который работал тормозным кондуктором на железной дороге и презирал университетских студентов, было волнующе опасно. Поздняя осень, и папаша уехал в Уэйнсборо, или в Стонтон, или еще куда-то, и они лежали в темноте, обнявшись; она заплакала, говоря: «Ох, лапочка, я просто не выдержу. Если папа узнает, что произошло, он убьет меня, убьет меня…» И храбро, решительно, хоть и не без испуга, и чувствуя даже в тот момент, как желание словно дым клубится между их телами, он произнес: «Не волнуйся, Одри. Не волнуйся, лапочка, никто не узнает, я найду доктора или что-то… я знаю одного малого… кое-где…» Как походил страх, который он испытывал сейчас, на тот, – как же давно это было! Лофтис прижался лбом к стеклу, пытаясь вспомнить. «Бог мой, Одри… как же ее фамилия?» Но ему тогда повезло, в том возрасте так просто быть жестоким – ведь у восемнадцатилетних нет сердца.
Ей тоже повезло, сказала она ему потом. «Со мной теперь все в порядке, лапочка. Я, наверное, просто протряслась пару дней от страха». И попросила, чтобы он поцеловал ее, как раньше. «Нет, – сказал он. – Нет, я сейчас уезжаю». И как она зарыдала тогда, как страшно, задыхаясь, зарыдала. «Я покончу с собой». Испугавшись, он сказал: «Валяй, мне-то какое дело», – и вышел в насыщенный ароматами майский вечер, ожидая услышать выстрел, крик; ни того ни другого не произошло, и он разочаровался в любви – впервые за много последовавших раз. В этом возрасте у него была достаточно ясная голова, чтобы понимать, что он не одинок в мире неудачных страстей: другие предавали и были преданы и уставали любить. Но он был в душе романтиком и, хотя больше никогда не видел Одри, жалел ее и презирал себя (немножко) за свое недостойное поведение. Однако если бы он сейчас был даже настолько сознателен, это было бы прекрасно – ведь он мог бы стать большим человеком, известным юристом, поэтом. И глядя на застрявшего на дереве воздушного змея, он попытался раздраженно проклясть себя, но не смог и обнаружил, что проклинает вместо этого упрямую женскую плоть, разрушившую его сознание больше, чем это делает время, и приведшую его к этим лихорадочным дням и беспорядочным вечерам. Он подумал об умирающей Моди и Элен, и его замутило от страха и горя. Воздушный змей задрожал на ветру, упал на другую ветку и замер. Вытянувшиеся в ряд дома казались серыми и холодными, убогими. Это было столько лет назад – сейчас ей около пятидесяти, это женщина, давно разжиревшая, с плохими зубами и домом, где до сих пор пахнет скорее всего керосином. Он поднялся бы по ступеням, постучал в потертую сетчатую дверь, глядя на тополь, полный листьев весной, а сейчас голый и порыжевший, дрожавший от ветра, – теперь он, наверное, стал выше, крупнее, протянул над домом тяжелые ветки. Она подойдет к двери – неряха, одетая в тряпки (почему, удивился Лофтис, он с таким снобизмом изображает ее такой?), пахнущая молоком своих внуков, – и спросит, возможно, даже мило, что ему надо и кто он такой.
Он ей скажет и тут же добавит: «Почему ты предала меня, девочка? Почему не сказала мне, что такое любовь? А ты ведь знала, знала. Ты обладала тайной. Та беда, что случилась, должна была связать нас, а меня она только сделала заносчивым и жестоким. Ты ведь знала, что такое любовь, ты могла бы сказать мне. Ты предала меня». А она скажет: «Ах нет, милый, это я была предана. Я открыла тебе тайну, и это было в последний раз. Твоей последней любовью была я, а ты так и не понял этого. Я пыталась сказать тебе, что любовь не гнездится в мозгу, или в сердце, или в теле, это нечто такое, что появляется так же просто, как утро, и никогда не покидает тебя. Ноты боялся – даже тогда…» А он быстро вставит: «Но я был тогда молод, и хотя я, наверно, проявил жестокость, я был более совестлив, чем сейчас. Прояви немного милосердия…» Но она скажет: «Милосердия, милый, – не говори о милосердии. Ты не можешь повернуть время вспять. Возвращайся в свою жизнь, перестань думать о том, что не вернешь, и помни, как легко приходит любовь, словно…»
«Да разве ты не понимаешь? – воскликнет он. – Разве ты не понимаешь? Я хочу узнать тайну…»
Тут она уйдет, дверь закроется, и он останется один на крыльце. Он попытается позвать ее, но голос подведет его и он тоже уйдет. Он навсегда оставит позади тополь, оголенные высохшие виноградные лозы, переплетшиеся, стремясь выжить, – плоть этой женщины никогда не станет реальностью, она останется лишь в памяти, и та любовь будет лишь звуком, взмывшим, как воздушный змей, в той давней темноте, – словом, смехом, вздохом, чем-то таким, и стоном продавленных пружин, и стуком наполовину закрытых ставен.
Он отвернулся от окна – руки и лицо, кроме бровей, которые были прижаты к оконной раме, стали мокрыми от пота и лихорадочно пылали. Застекленная терраса казалась ему невыносимо гнетущей, и он чувствовал, что надо отсюда убираться, пойти куда-нибудь, куда угодно, – куда угодно, чтобы обдумать все. Он вышел в коридор. Там никого не было. Металлический ящик – одна из этих посудин, в которых обрабатывают ножи и другие подобные им предметы, – шумно кипел, выбрасывая облако пара. Лофтис был абсолютно трезв, но глаза у него слезились, голова болела и он был напуган. Если бы он только мог добраться до машины, если бы мог куда-то поехать, сконцентрироваться и обдумать все…
– Милтон!
Он обернулся. Улыбающийся Хьюберт Макфейл быстро шел к нему с другого конца коридора – во всяком случае, настолько быстро, насколько мог, учитывая его хромоту. Хьюберт был юристом в Шарлотсвилле и выходцем из братства Капа-Альфа, и имел хороший шанс стать федеральным судьей, если только умрет Гарри Бёрд. Он нравился Лофтису, но не вызывал восторга, а сейчас при виде него Лофтис страшно обрадовался и схватил руку Хьюберта.
– Хьюберт, – сказал он, – что это с вашей ногой?
– Я встал на чертов ролик, – сказал он. – Он оказался ржавым, и некоторое время думали, что придется отнять эту мою чертову ногу. Я уже неделю сижу на сульфаниламиде… – И так далее.
Они немного посидели на скамейке, чтобы дать отдых ноге Хьюберта. Это был крупный восторженный мужчина с темно-желтыми мешками под глазами и еле намеченными усиками, которые выглядели так, словно их набрызгали. Лофтис всегда с ним ладил – правда, он помнил, что когда Хьюберт выпивал, то становился самоуверенным и агрессивным. Они продолжали держаться за руки, и Лофтиса это смущало. И огорчало. Хьюберт спросил его, что он тут делает, Лофтис рассказал и почувствовал, как глаза наполнились слезами.
– Это… это худо? – осторожно осведомился Хьюберт.
– Нет, нет, – ответил Лофтис, – не совсем худо. Я так не думаю. Врачи… – Голос его дрогнул. Он не любил сочувствие, но в то же время отчаянно хотел, чтобы Хьюберт побыл с ним.
– Это ужасно тяжело, Милтон, – сказал Хьюберт, покачивая головой.
– Да, – сказал Лофтис.
– Ей-богу, ужасно тяжело.
– Да.
Хьюберт хлопнул Лофтиса по колену.
– Послушайте, – сказал он, – поехали в наш дом и выпьем. Ребята согреваются там для игры. Нам обоим станет лучше.
– Нет, спасибо, Хьюберт. Я должен ждать Элен. Она сейчас у доктора.
Лофтис, нервничая, оглядел коридор. В нем было душно и пустынно. В ближайшей комнате застонал мужчина, и толстая немолодая женщина вышла оттуда, промакивая носовым платком глаза и слабым голосом зовя медсестру. Лофтиса охватила паника, и он вдруг подумал о Пейтон… наконец, наконец подумал о Пейтон. Он повернулся.
– Угу, угу, – произнес он, – поехали, только на минутку. У вас есть машина? Я поеду следом за вами.
Хьюберт хлопнул его по спине и поднялся.
– Приободритесь, старина, – сказал он. – Мы еще сумеем одолеть эту чертову штуку.
В доме братства Капа-Альфа в полдень царило невероятное веселье. Молодежь толпилась на крыльце, в вестибюле и в общем зале, и все очень громко перекликались: «Эй! Как поживаешь?» Хотя было слишком рано для танцев или выпивки, все понемногу предавались и тому и другому под звуки труб и саксофонов, и лица девушек порозовели, стали взволнованными и хорошенькими, – каждая девушка была уверена, что этот день предназначен для нее одной. В затемненном баре стояли юноши и девушки и пили горячий ром из мейсенских кружек, а один из братьев, весь в поту, весело бренчал на рояле импровизацию буги-вуги. Парочки подъезжали в начищенных автомобилях, оставались некоторое время и уезжали, чтобы вернуться минут через десять после кратковременной поездки в никуда, как оперившиеся птенцы летят домой в свое гнездо. Никто в такое время не мог долго оставаться вдали – не только потому, что бензин был нормирован, но и потому, что было в воздухе что-то такое, что требовало шума и компании. Уединение, двое влюбленных вместе – это для другого времени, но, возможно, и для этого вечера, да и про футбольный матч едва вспоминали: он был всего лишь барьером, который надо преодолеть, перед тем как начнется настоящее веселье. Итак, рояль тоненькими звуками состязался с фонографом, повсюду стоял приятный запах спиртного, раскрасневшиеся лица девушек появлялись то у одной двери, то у другой, то в одной комнате, то в другой, словно фривольные цветы среди смеха и приглушенных звуков саксофонов.
Вот в такую атмосферу, чувствуя себя стариком и не в своей тарелке, вошел Лофтис с Хьюбертом Макфейлом, хромавшим рядом с ним. Там была россыпь седых мужчин, и Лофтис поздоровался с каждым за руку и называя по имени, хотя и без особого воодушевления, поскольку большинство из этих однокурсников он видел не дольше чем месяц назад, на футбольном матче в Норфолке. Хьюберт, хромая, отправился на поиски своего сына Баззи. Лофтис высматривал Пейтон, но ее тут не было, и один юноша, покровительственно, с видом эрудита, посмотрев на него и назвав его «брат Лофтис», сказал, что она и Дик Картрайт уехали в центр города за льдом. Лофтис поблагодарил юношу за принесенный напиток и устало прислонился к стене между бархатной занавеской и очень пьяной девушкой-блондинкой, дожидавшейся своего кавалера; она жеманно посмотрела на него и от его небрежно произнесенного слова вдруг разразилась пронзительным истерическим смехом. К нему вернулось состояние приятной меланхолии, он стал по-отечески заботливо обращаться с ней и даже попытался помешать ей съехать в приступе смеха по стене, но в этот момент появился ее молодой человек и потрудился спасти ее, после чего, обнявшись, они исчезли из виду.
Еще не было часа дня, а настроение было уже праздничное, словно матч – ну, формальность – был уже выигран; по крайней мере проигрыша быть не могло, раз игроков поощряет такое головокружительное празднование. На дворе становилось все более серо и холодно, а здесь, согретому близостью других лиц и братским теплом алкоголя, Лофтису казалось, что на каждой щечке пылает красивое пламя. Фонограф играл громче и громче, рояль гремел синкопами, и с полдюжины юношей, танцевавших сейчас, кружили по залу своих партнерш все более широкими, более рискованными кругами. В папиросном дыму бродили девушки с наивными глазами, с флажками и колокольчиками для коров, жаждущие пообниматься с кем-нибудь или оказаться в объятиях седеющих бывших студентов; они осаждали новоприбывавших и весело болтали о приеме-приеме-приеме в Ричмонде в прошлом году или в прошлом месяце – они не помнят. Тем временем юноши начали собирать то, что требуется для футбола: одеяла, плащи, фляги, чтобы согреться, – а музыка продолжала звучать – теперь это была печальная баллада о любви, звуки гитары звенели в воздухе словно серебряные десятицентовики.
Дверь вдруг распахнулась. Влетел порыв холодного ветра, и появилась Пейтон с Диком Картрайтом и двумя круглолицыми юношами по бокам, размахивавшими бутылками с виски.
«Мы из старушки Виргинии, – пели они, – где все – блеск и веселье…»
Толпа развернулась в их сторону, раздалось «ура!», а двое юношей, обняв Пейтон и Дика, прогремели на бис:
– «Вы готовы? Устраивайтесь!»
Ва-ху-а
Ва-ху-а,
Ун-т, Виргиния;
Ур-р-ра!
Ур-р-ра!
– Пейтон! – крикнул кто-то.
– Выпивка!
– Любитель!
И часть толпы проплыла мимо Лофтиса к квартету, смеясь и крича, и поднимая стаканы, и Пейтон с Диком и круглолицыми парнями, скрытые толпой, исчезли из виду. Лофтис пытался увидеть Пейтон, но не смог. Выпитые две порции виски, обе неразбавленные, затуманили мозг Лофтиса и увеличили, а не облегчили, усталость; он вспомнил, что со вчерашнего вечера ничего не ел. Пробираясь сквозь толпу к Пейтон – «Извините, – говорил он с фальшивой улыбкой, – я отец Пейтон», – он вспомнил, что есть два момента, которые должны страшно тревожить его: ну конечно, Моди, о которой он должен тотчас рассказать Пейтон, и… что еще? Неважно. Главное было – увидеть Пейтон, и почему такое столпотворение, розыгрыш, церемония? Локоть какого-то парня проехался по его щеке, и среди сгрудившихся тел, среди криков и смеха его – с застывшей глупой улыбкой на лице – стали медленно выдавливать, направлять к холодному серому прямоугольнику раскрытой двери. Чье-то вино плеснулось через его плечо, чей-то ботинок отдавил ему ногу – казалось, навсегда, – и теперь, в то время как черноволосая девица с глазами, от которых голова шла кругом, сочувственно посмеялась над ним, он потерял равновесие, и его вынесло на крыльцо. Он стоял там и моргал.
– Пейтон! – слабым голосом произнес он, подняв руку.
Но она даже не видела его. Она уже сидела с Диком Картрайтом в открытой машине, которая ехала по подъездной дороге, и он увидел, что она смотрит в заднее стекло и машет оранжевым с синим флажком.
В доме Хьюберт Макфейл стоял у потрескивающего огня, фея покалеченную ногу.
Лофтис подошел к нему.
– Хьюб…
– Привет, Милт. Вы что-нибудь выпили? О да, могу не сомневаться. Милт, это мой сын Баззи. – Он бесцеремонно ткнул локтем в тощего и бледного юношу, довольно красивого. – Баззи не идет на матч, – продолжал Хьюберт, не глядя на юношу. – Баззи отказывается от места в этой чертовой пятидесятиярдовой очереди, чтобы быть в тепле. Верно, Баззи? Баззи не любит футбол, Милт.
Юноша положил вялую нежную ладонь на руку Лофтиса и одарил его вымученной улыбкой. Хотя юноша ничего не сказал отцу, он метнул на него нервный, обиженный взгляд, и в его глазах несомненно отразилось особое отвращение.
– Как вы, сэр? – произнес он.
– А ты как, сынок? Скажите, Хьюберт… – начал было Лофтис, но Хьюберт, положив руку ему на плечо, уже говорил:
– Ну, что вы на это скажете, Милт? Три месяца ждем важнейшей игры года и обнаруживаем, что собственный сын отступился от тебя. Я полагаю, это поколение просто лишилось чертова духа кавалеров-рыцарей, верно? Правда, Баззи никогда особо не интересовался футболом, верно, Баззи? Одному Богу известно, что с ним будут делать в этой чертовой армии…
А Лофтис на протяжении этой тирады наблюдал, как юноша, чувствуя себя неловко, переминался с ноги на ногу, стиснув зубы в жалкой улыбке, и почувствовал жалость к Баззи, а к Хьюберту – вдруг неприязнь, однако что-то смущало его, мучило: Пейтон, Пейтон, куда же она отправилась и зачем, и как этот день действительно стал кошмаром, чего он так боялся и инстинктивно – со смутным фатализмом – чувствовал, что это неизбежно? Музыка перестала звучать, молодые люди покидали помещение, отправляясь на матч – пораньше, чтобы занять места; элегантные и нетерпеливые девушки с гладкой кожей и блестящими глазами тащили за собой юношей, и юноши, хоть и пьяные, слушались, потому что в этот день и на эту игру вы приглашали девушку, которую считали любимой. В одной из ниш, согнувшись над ведром для мытья пола, одинокий кавалер шумно исторгал из себя рвоту.








