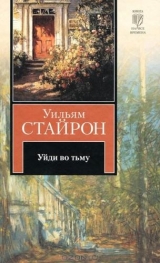
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
– А я не видел вас тут раньше? Вы не живете рядом с Принцем? По-моему, я видел вас тут раньше.
Он был смуглый и красивый, но когда он открывал рот, зубы у него были гнилые, и от него пахло чесноком, а я пыталась думать, я молчала, глядя на него в зеркало. После первого глотка кое-что произошло: оно возникло в моем чреве. Когда я была девочкой, я думала – это понос, а она сказала: «Прочитай про это на упаковке от „Котекса“». Потом я вышла и села на крыльце с Моди и смотрела на залив, думая о смерти. Солдат сказал:
– Так видел я вас тут?
Я повернулась и сказала:
– Да, я живу недалеко, на авеню.
– Откуда вы? По манере говорить, похоже, вы с Юга. Я служил в Форт-Брэгге. Это в Северной Каролине.
– Нет, – сказала я, – я англичанка. Я из южной части Англии. Точнее – из Дорсета.
– Вы говорите с этаким акцентом. Немножко.
Он положил на бар руку – под ногтями у него была грязь, а я подумала, как он мог служить в армии с такими зубами. Я сказала:
– Нет, это английский акцент!
– Вам холодно? – сказал он. – Вы трясетесь. Хотите, дам свой мундир?
– Нет, спасибо, – сказала я, – мне вполне уютно. – Я еще глотнула мартини, чувствуя, как жидкость заливает мне глаза. «Нет, – подумала я, – нет».
– А я не видел вас тут с Тони – как же его фамилия? Чеккино? Мы с Тони учились в государственной школе номер два…
Но я сказала: «Нет», – и повернулась к нему.
– Нет, – сказала я, – я не знаю никакого Тони Чеккино. Я иностранка. Я из Дорсета, что в Англии, приехала навестить тетю и дядю Лакорацца.
– Вы не похожи на итальянку, – сказал он, – вы выглядите скорее как если бы вы были, может, из Ирландии или Германии.
– Я из Тосканы, – сказала я, – они там все тощие. Я из Перуджи, а когда мне было четыре года, родители переехали в Дорсет, в Англию.
– Перуджа не в Тоскане, – сказал он, – к тому же Лакорацца – это сицилийская фамилия.
– Да ладно, – сказала я, отворачиваясь, – много ты знаешь.
Он положил свою руку на мою, но я ее отдернула.
– Не мучай меня, детка, – премило сказал он, – разве я не видел тебя с Тони Чеккино? Ты же знаешь Тони.
Но все, казалось, снова началось: вода подступала, и шуршали крылья. С минуту я вообще не могла думать. Что? И когда? Возможно, он видит, как у меня трясутся пальцы, и «Боже, – подумала я, – не дай мне так страдать»; они подошли так спокойно по темневшему песку, мои бедные бескрылые; как могли они это вынести и испортить этот день? Они степенно и неспешно шуршали за стенами своими крыльями, такими же бесполезными, как волосы. Я дрожала, думая: «Нет, нет», – и были невысказанные слова, которые я старалась не произносить или не думать о них весь день: «И неужели он снова не придет? И неужели он снова не придет?» Нет-нет, он мертв. Неразбериха. Ноя могла лишь произнести:
– Нет. Тони нет. Я не знаю никакого Тони.
Но ведь зайка не умер! Шуршание отсутствовавших на крыльях перьев, нелетящих крыльев, все они степенно расхаживали в сгущавшихся сумерках. «Как ты можешь быть такой, Пейтон? – сказал он мне. – Неужели ты не видишь, какой ты нам наносишь удар? Неужели не видишь? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я не твоя горничная. Это же сотрудничество: не твоя зависимость от моей, так называемой, здоровой, успокоительной силы. Иногда я думаю, что ты такая же пикантная, как так называемый фруктовый торт». Что я имела в виду, говоря, что он подтолкнул ту девицу, – ведь он так сказал. И мне это было просто невыносимо после такого – мы напились у Алберта Берджера, и я чувствовала, что тону, погружаясь в летнюю ночь, а Алберт Берджер, протирая очки, прогнусавил: «Эрнст Геккель – ты его никогда не читала, красотка? По сравнению с ним Спенсер – осел, трус и карлик; ну кто, кроме Эрнста, знал абсолют: Бог – это автомат для молитв, газообразное позвоночное?» Я чувствовала, что тону под воздействием жары и джина, однако в мозгу у меня звенели колокола, и я вспомнила: «Как долго, Господи, ты будешь вечно скрываться, неужели твой гнев будет жечь как огонь?» «Запомни, – сказала я Алберту Берджеру, – как краткосрочно мое время». И встала и пошла по прокуренной и наводненной болтающими очкастыми лицами комнате в поисках Гарри. Он целовался на кухне с девушкой-беженкой; ее звали Марта Эпштейн, и рука его лежала на ее заду, и я возненавидела всех евреев. И он сказал: «Извини». «Извини меня», – сказал он. Он сказал это мне, стоя на коленях, а у меня в мозгу по-прежнему звонили колокола, и я тонула, и я понимала: что-то не в порядке с Землей. Что-то во мне было не в порядке, и это что-то отказывалось прощать, и я считала – навсегда; я сказала: «Ты занимался этим, а я тонула – вот что ужасно. Я никогда не прощу тебя». Я тонула: тем летом было еще жарче, чем этим, и я была по горло в жаре; я могла умереть, увидев его руку на ее заду, но не простить, – разве это не хуже? Под конец он сказал: «То, что так расстраивает тебя, ну, это вообще не что-то существенное, это сидит в тебе, раз ты полна такой горькой мстительности». И я понимала, что он прав: такое мелкое ренегатство, как он выразился, не должно было сильно задеть. Он был прав, и я ненавидела его за это, раня не столько его, сколько себя: его руки на ее заду, обтянутом блестящим черным атласом, – я видела, как волоски на его пальцах топорщились, будто усики бабочки, и эти его пальцы ночью и днем стояли у меня перед глазами. Если бы я не тонула, я бы так не ненавидела, я бы простила, но жара и джин действовали: потом я даже целовала сонного на вид пьяницу на глазах у Гарри, хотя он, по-моему, был парень со странностями: мы оба столько выпили, что были как слепые, и я, по-моему, даже проникала языком ему в рот. Вот это подействовало на меня и в баре – не Марта Эпштейн, а то, что я тону. Я не могла думать, и солдат сказал: «В чем дело, крошка?» – но перья снова зашуршали и длинные ноги спокойно, небрежно шаркали по песку; я не могла думать – только вспоминала, и я вспомнила, как лежала в Дарьене с Сандерсом – мы лежали, оба голые, на террасе, разговаривали о Дороти Сэйерс, и у нас была целая кварта виски с мятой; потом он не дождался, когда я буду готова, и мне было больно – вот тогда я впервые увидела птиц, живых, а не во сне, как они собирались плотной массой – точно метелка из перьев – на лугу, под кленами. Я закрыла глаза, чтобы не видеть уродливого коннектикутского солнца, и я понимала, что отплачиваю Гарри за его такое маленькое ренегатство, я тонула на террасе, а когда спала потом, видела во сне, что тону. А сейчас я подала сигнал – помахала одним вытянутым пальцем, и бармен принес мне еще одно мартини.
– Разреши, я заплачу, детка, – сказал солдат, дыша чесноком.
– Нет, благодарю вас, – сказала я.
– Да ну же… скажи нам свое имя, детка, – сказал он.
– Меня зовут Мэри, – сказала я, – Мэри Риччи.
– Приятно познакомиться, Мэри.
– Мне тоже, – сказала я.
– А меня звать Микки Павоне.
– Рада познакомиться с тобой, Микки, – сказала я.
– Куда ты сегодня вечером идешь? – спросил он.
– Мне надо встретиться с Гарри, – ответила я.
От мартини у меня заболели зубы; где-то стучали молотком, и штукатурка сыпалась между стенами. Я начала понемногу тонуть: вода была не столько во мне, как если бы я ее наглоталась, а вокруг меня, не касаясь меня, – она блестела от блуждающих, но ярких окружающих огней. Свет словно плескался в окна, в зеркало, отчего воздух казался опаловым и вроде молочным; однако не эта вода представляла для меня беду, а мой мозг – вода, как и птицы, была вне меня и даже далеко, на границах моего сознания стояла, но не угрожая мне, подводная стена – мне хотелось не думать о ней.
– Я должна встретиться с Гарри, – сказала я, точно он без конца спрашивал меня об этом, а он этого не делал. – Я должна встретиться с Гарри.
– По-моему, детка, ты повторяешься. А кто такой Гарри?
– Гарри – это мой брат, – сказала я. – Гарри Риччи.
– Вот как? У тебя есть брат?
– Да, три брата.
– А у меня пять, – сказал солдат. – Чем он занимается?
– Он из Филадельфии. Он очень богатый. Он биржевой маклер.
– Я когда-то жил в Филадельфии, – сказал солдат, – это, знаешь ли, унылый притон. Я жил в «Дэрби». А в какой части Филадельфии живет этот Гарри?
– В Шейкерхайте, – сказала я и подумала: «Нет», – закрыв глаза, чтобы не видеть воду.
– Ты меня не обманешь, детка, – сказал он. – Я работал в Кливленде до войны. Шейкерхайте – это около Кливленда.
– Я знаю, – сказала я, – он сейчас в Кливленде, он был из Филадельфии.
– Ой, детка, – сказал он, – постой-ка, что это ты пытаешься скрыть? Да ну же, просвети Микки. А теперь скажи мне: если этот Гарри работает в Кливленде, то в каком доме?
Я отвернулась, думая: «Такое от черных десен, стертых зубов»; я была совсем сбита с толку: «Теперь ты упорно и чудно врешь об этом, Пейтон, почему ты сейчас сказала „Гринвич“, когда я, черт возьми, прекрасно знаю, что это Дарьен», – и я снова повернулась к солдату. Не знаю, почему мне захотелось плакать, но я подумала: «Нет».
– Он работает дома, он не работает ни в каком здании, а кроме того… – Я умолкла.
– Кроме того – что, детка?
– А кроме того, это едва ли ваше дело.
Солдат откинулся назад и рассмеялся, хлопнув себя по ноге, а я смотрела на его раскрытый рот, где блестели пеньки зубов, исчерченные чернотой десны, дрожащий поднятый язык.
– Ты убиваешь меня, детка. Ты настоящая сказочница!
– Да, – сказала я и проглотила остаток своего мартини, обжегшего мне горло, – а теперь мне пора: надо встретиться с Гарри.
Солдат продолжал смеяться.
– Гарри! Это убивает меня, детка. Я скажу Тони Чеккино, что он у тебя на втором месте.
Я открыла рот. «Лучше не смей…» – но я этого не сказала, и я вспомнила, что забыла про Тони. У вины есть крылья; птицы вернулись с затаенным шелестом, расправляя свои нелетящие крылья, и мне не хотелось думать.
– Сегодня вечером, детка.
Волосы у него на плечах были как проволока. Гарри, я поступила так потому, что мы любили друг друга, однажды мы пролежали без сна всю ночь, и он сказал: «Благословенная Беатриче», он сказал: «Леди, я видел венок, рожденный тобой, прелестный, как наикрасивейший цветок».
– А теперь ответь, почему ты плачешь? – сказал солдат. – Выключай слезы. Не стану я на тебя доносить.
Я тотчас перестала плакать, глядя сквозь воду вверх.
– Лучше не надо, Микки, – сказала я, – пожалуйста, не надо.
Потом я подумала: «Что ж, все в порядке: когда Гарри вернется, все будет в порядке с Тони. Только. Есть только одно „но“. Нам придется переехать, поскольку Гарри и Тони не смогут жить по соседству. И миссис Марсикано – Гарри заплатит за квартиру, и я рада, что там так красиво и чисто».
– Да, скажи Тони, – сказала я, – если хочешь. Только…
– «Только» что, детка?
– Только подожди до завтра.
– О’кей, детка.
Я поднялась, чтобы идти, прижав к груди сумку и часы, – от этого мне всегда становилось спокойнее. Мне казалось, я слышу, как они там, над моим сердцем, тикают – чистое, упорядоченное множество драгоценных камней и пружинок.
– Что ты стоишь тут, детка? – сказал солдат.
– Я слушаю радио, – сказала я. – Я общаюсь с душами мертвецов.
– По-моему, ты чокнутая, – сказал он.
– До свидания, Микки, – сказала я.
– Пока, Мэри, – сказал он.
Я вышла за дверь – это было все равно как войти в кухню, где горит печь и все конфорки: колоссальная, и удушающая, и насыщенная запахами жара – пахнет из пекарни; воздушной кукурузой с жженным сахаром – из театра; бензином, и заводским дымом, и канализацией. Я пыталась подумать – тут все стало очень странно, поскольку мне потребовалось много времени – полминуты, а может быть, даже минута, – чтобы решить, идти мне налево или направо. По крайней мере тысячу раз мы ходили тут к Ленни: я знала, что надо идти на север, однако мне казалось, что бар находится в другом краю – разве я уже не прошла достаточно далеко на север? Я вынуждена была спросить у девушки. Она лизала рожочек мороженого, с которого разлетались черные букашки.
– Туда, – указывая на север, – второй поворот.
– Вы уверены?
– Конечно, уверена.
– Тогда спасибо, – сказала я. И я снова пошла, глядя вниз, на асфальт, и волоча ноги. Окруженной водой, идти было трудно, но боль во мне спустилась вниз и стала невидимой – мне посчастливилось в этом месяце: тошнота была совсем маленькой и не было головных болей. Тут я подумала: «Даже если я стану совсем тонуть и день накроет меня как целый океан – а так было в прошлый раз, – Гарри все-таки сумеет удержать мою голову над водой – это моя гордость и моя радость, и во всяком случае – к черту Тони». Я прошла мимо аптеки, где пахло медикаментами и кока-колой, – отлично, но я продолжала идти; в витрине, среди испачканных сажей голубых и белых креповых лент, висела реклама: «ЛАКСАТИН – Навсегда избавляет от нерегулярности испражнения». У Алберта Берджера был геморрой. Тут я остановилась, встала под навес и подумала: «Ох, Гарри». Я подумала: «Ох, нет». Потому что он как раз это сказал. «Ты просишь о совершенно невозможном. Ты унаследовала это от своей матери, только наоборот. Ты словно Элен с ее навязчивыми идеями, направленными в другую сторону. Ты говоришь, что мой разум неверно ориентирован, а как насчет твоего: ты хочешь переспать с любыми штанами – только и всего…» Только я тогда сказала (а это было два месяца назад – неужели он не понимал, как я была тогда близка к тому, чтобы потонуть?), я сказала: «Ох, Гарри, дорогой». Я сказала Ленни: «Верни мне его, Ленни. Я обещаю. Я тону». Только они не могли понять, просто не могли понять… «Отправляйся к своему итальянскому дружку», – сказал Гарри… Я просто не могла заставить их понять, что с Тони все было другое – что это сделала жара и джин, и то, что я тону. Мы выбросили какие-то отбросы в мусоросжигатель, и тут я увидела, что в его волосах уселся святой Христофор – он был золотой или какой-то, и я выпила весь джин, тогда он приткнулся ко мне и заставил меня… Трезвая часть меня вскрикнула от страха, однако крики «О Господи!» не проходили через воду, а он уже вложил в меня руку – да неужели Гарри не видит? «Маленькой измены не бывает, – сказал он, – есть большая разница между похлопыванием по заду и быстрым соитием на сене с молочником». Неужели он не видит? «Я никогда больше не стану этого делать! – завопила я. – Я тону! Ты мне нужен!» Неужели он не понимает? Но он сказал: «Ты просто пьяна. Я давал тебе все шансы в мире. Ты говорила то же самое, когда вернулась из Гринвича, или Кос-Коба, или Дарьена, или откуда-то еще, куда ты уезжала с этим разгильдяем-писателем, так что проваливай к черту». Бедный мой Гарри, неужели он не может понять? «Нужен, нужен, – сказал он. – Я отказываюсь быть нужен, если меня не любят, так что пошла ты к черту». Под навесом было прохладнее. Мимо прошли две толстые монахини по-летнему в белом, тихо бормоча по-французски: «Monseigneur O’Toole… la-la… gras comme un moine…»[32]32
Монсеньор О’Тул… ля-ля… жирный, как монах (фр.).
[Закрыть], – они потели, они исчезли за углом – две маслобойки в белых одеждах. Бой часов в моей утопающей душе. «О нет, Господи, – подумала я, – он вернется со мной». И я подумала, приподняв сумку к уху – часы там тикали точно и упорно, как раньше: «Тогда вся наша вина исчезнет среди этих упорядоченных рычажков и колесиков, под водянистым, сверкающим как рубин солнцем». Тут я сказала:
– Помогите мне, пожалуйста.
И аптекарь рядом со мной, подставивший солнцу свое желтоватое лицо, сказал:
– В чем дело, молодая леди, у вас заболело ухо? – Он был пожилой, маленький, и у него торчали волосы из носа.
– Да, – сказала я. Мне было трудно сейчас сориентироваться, как сказал бы Гарри: человек хочет помочь, потому что я попросила. – Да, – сказала я, – это у меня в ухе. – Я приложила сумку к голове. – Вот тут.
– Вам лучше показаться доктору, – сказал аптекарь, – это опасно. Это может попасть вам в мозг и убить вас.
– Да, – сказала я, – ужасно больно.
– Вы подождите здесь, – сказал он, – и я принесу вам пару таблеток аспирина.
Он ушел в аптеку. А я осталась стоять на жаре с сумкой, прижатой к голове, слушая тиканье и жужжание колесиков, – о, он вернется, я знаю, и я пыталась думать о чем-то другом, о музыке или стихах, или часах – о музыке и стихах в часах, – о чем угодно, только не о Тони и о том, как я лежала с Эрлом Сандерсом, и обо всем плохом, что я делала. «Он мягкий и нежный, – подумала я, – мой Гарри: связать его первоцветом и привести домой». Но существует решение. Решено, что я никогда не найду его. Когда я была маленькой, у меня заболело ухо, и зайка держал мои ноги, а мистер Льюис, что живет на нашей улице, держал мои руки, и доктор Холкомб вставил мне в ухо эту штуку, чтобы сделать пункцию; я громко вскрикнула – так было больно, и она сказала: «Бедная Пейтон, бедная маленькая Пейтон, но неужели действительно так больно, что ты не могла не закричать?» И тут они с зайкой заспорили, а у меня поднялась температура, и я заснула, и мне снилось, что на мне сидит толстая женщина, а потом я увидела, как маленький мальчик собирал в поле фиалки.
– Вот, молодая леди. Примите это и идите прямо к доктору. Вы меня слышите?
– Да, – сказала я. Я приняла таблетки с водой, принесенной им в стаканчике.
– Идите прямо к доктору, поняли? Допустите распространение этой инфекции, и у вас будет мастоидит. Доктор займется вами.
– Спасибо вам, – сказала я. – Большое спасибо. Где Корнелия-стрит?
– В двух кварталах вверх, но вы идите прямо к доктору. – Нос у него дернулся, как у зайца.
– Спасибо, – сказала я. – До свидания.
– До свидания, молодая леди.
Я пошла вверх по авеню, держа часы и сумку. Я потела и понимала, что это нехорошо для встречи с Гарри, я пожалела, что забыла употребить «Одороно» – это спасает одежду от пятен, не портит платья. Но на мне было красивое платье – шелковое, кремовое с голубыми полосками, – оно мило облегало меня: разве Гарри не порадуется? С угла, где я ждала, чтобы переменились огни светофора, я почти видела конец Корнелия-стрит и дом Ленни, а Джанет Макдональд, знаменитая звезда театра, кино и радио, держала сигарету на ободранной и отслаивающейся доске для афиш – в тени под ней мальчишки играли в бейсбол, а одна из ее рук была оторвана, она лежала в траве под доской, и мальчишки садились на нее отдохнуть. Я наклонилась, чтобы увидеть то, что за доской, но видно было лишь одно окно на третьем этаже – в нем висела зеленая занавеска: Гарри там я не могла разглядеть. И тут я подумала: «Что я ему скажу? Часы появятся последними, в качестве подарка-сюрприза». Возможно, он будет один. Сначала нажать на зуммер, потом долго карабкаться наверх; я услышу его голос сверху: «Кто это… кто?» Я не стану отвечать, подожду. Затем, слегка задыхаясь, я постучу в дверь, и он откроет ее. «Привет, – скажу я. – Привет. Уверена, ты удивлен, видя меня». И он скажет: «Нет, я знал, что ты придешь». И я скажу: «Извини, Гарри! – А потом скажу: – Я люблю тебя, Гарри», – и мы запрем дверь и закроем ставни и ляжем, несмотря на жару и темноту, днем позже будем смотреть, как наступают сумерки, будем лежать, вытянувшись на пружинах, и немного подремлем, будем держаться за руки под нескончаемое тиканье колесиков; темнота будет столь же идеальная, как если б мы были в центре Земли, – только будут сверкать рубины и бриллианты, сияя фосфоресцирующим светом, безупречным и божественным. «Благословенная Беатриче, мужчина при таком свете, – сказал Гарри, – испытывает такое удовлетворение, что выбрать другое зрелище, а это отбросить невозможно, так что он согласен». Однажды он понес меня наверх в Ричмонде – я покачивалась у него на руках, а потом он положил меня на незнакомую кровать, и я позвала: «Папа, папа», – поскольку тогда я еще не звала его «зайка». Однако. Я знала, что не должна об этом думать: я прижала часы к груди и сошла с тротуара, глядя на окно. Тут раздался чудовищный и неистовый взвизг шин за моей спиной – так близко, что я их почти видела, – искры, изуродованный асфальт, разъезжающаяся резина, – и я повернулась, увидела решетку грузовика с улыбающимся металлическим лицом и наступающее на меня, возрастающее грозное слово – всего в двух дюймах от моих глаз: ШЕВРОЛЕ.
– Ты чокнутая? Хочешь, чтобы тебя убили!
Он высунул в окошко голову – мужчина с расплющенным, точно ложка, на которую наступили, носом и вытаращенными глазами. Он не брился – под щетиной были красные пятна.
– На виду у всех! – выкрикнул он. – Ты что, чокнутая? Ты же видела, что я еду: я видел, как ты подняла на меня глаза!
– Я безусловно не видела, – сказала я. – И пожалуйста, не кричите.
Но он продолжал говорить, и я стояла, держа мои часы, а машины позади него начали гудеть.
– Таким, как ты, лечиться нужно. А если бы я тебя сбил?
– Не кричите на меня, – сказала я, – я не глухая.
Но тут подошел полицейский, и я стала смотреть, как темнеет от пота его рубашка.
– А ну, что тут происходит?
– Да эта психованная дамочка шла против света, и я чуть ее не переехал. Такие вотлюди вроде нее – чистая болячка.
– А ты следи за своим языком, – сказал полицейский.
Это был голос Майо, или Дауна, или Антрима; я вдруг подумала о зеленом и о далекой фантастической лужайке.
– А теперь скажите мне вы, мисс, как скоро ехал этот малый?
– Быстро, как ветер, – сказала я, – еще быстрее!
– Быстрее, вы говорите, чем ветер сейчас?
– Да, – сказала я.
Он, потея, пристально, с подозрением посмотрел на меня.
– Ну в таком случае скажите-ка мне, мисс, как это быстро – быстрее ветра?
– Я не знаю, – сказала я. Я держала часы и сумку около груди, и мне снова хотелось плакать, но я удержалась. – Я не знаю, – сказала я, – очень быстро.
– Послушайте, мисс, вы должны быть более внимательны. Вы можете так перепугать своим поведением человека, что доведете его до беды.
Гудки продолжали звучать вверх и вниз по улице, они становились все громче, превращаясь в хор хроматического воя. Полицейский подал грузовику знак, чтобы он ехал, и шофер поехал, включив скорость, сердито поглядев на меня, все еще бледный от страха.
– Вы должны смотреть, куда идете, мисс.
– Я буду, – сказала я и крепче прижала часы к груди.
Он посмотрел вниз, на меня, сопя.
– А вы не выпили лишку, мисс? – спросил он.
– Да, – сказала я, – я выпила два мартини в баре «Наполи».
– Вы не должны меня бояться, – сказал он, – я вас не обижу. Могу я спросить, куда вы идете?
– Я иду к зайке.
– Зайке?
– То есть, – ответила я, – я хочу сказать: к Гарри.
– Что ж, мисс, я уверен, что это отлично, но я хочу сказать: не могу ли я помочь вам найти дорогу? У вас такой вид, будто вы потерялись.
– Нет, – сказала я, – я иду на Корнелия-стрит, вот туда, выше.
Взяв меня под руку, он перешел со мной улицу. Я видела, как на авеню поднимается вода, сверкающая, но чистая, которая затопит меня; я почувствовала, как подкрадывается спазм.
– В этом городе надо быть очень осмотрительной, мисс, – они несутся как сам дьявол.
– Да, верно, – сказала я. – Они не ездят так в Виргинии.
– А-а, так вы оттуда?
– Да, – сказала я, – из Порт-Варвика. А Гарри – это мой дядя из Порт-Варвика. Он приехал погостить к Ленни на Корнелия-стрит.
– Ах вот как, и кто же этот Ленни?
– О, это наш двоюродный брат.
– А могу я спросить, мисс, что вы так заботливо держите в этой сумке?
Я посмотрела вверх и улыбнулась ему.
– Мы с Гарри на прошлой неделе обокрали тот банк на Девятой улице. Они этого не знают. А деньги тут, у меня.
Мы стояли на краю тротуара – он откинул голову и расхохотался.
– О, отличная вы девица, это уж точно! – Он потрепал меня по спине. – А теперь будьте осторожнее, мисс.
– Буду, – сказала я. – И большое вам спасибо.
– Прощайте.
– Прощайте.
Шагая вдоль квартала к Ленни, я вновь почувствовала спазм – борясь с тошнотой, я прижалась к фонарному столбу так, что на руке у меня отпечаталась ржавчина, и тогда я ни о чем не могла думать, кроме как о том, чтобы снова стать распутницей, птицы зашелестели вокруг меня, пролетев сквозь тихую сверкающую воду, замахали крыльями, суша их, и появилась туча, затянувшая небо, и похолодало, словно включили вентилятор, остудив пот на моей спине; я постояла, прислонясь к столбу, пока в чреве трудилась боль. «Одна капелька чего угодно, – подумала я, – может спасти жизнь бедной пропащей Пейтон», потому что все было так беспутно, и, может, в конце концов он скажет: «Нет!» «Нет, – сказал он однажды с гораздо большим огорчением, чем чувствовала я, – нет, я этого не понимаю. Я слышал про мужчин, которые за один-два года становятся странными, но никогда не слышал, чтобы такая хорошая, приличная девушка, так замечательно мыслящая, вдруг сломалась. Вот чего я не могу понять, Пейтон, – а ты можешь? Что случилось с тобой?» Он не понимал, что я вдруг стала тонуть, не понимал про птиц – я никогда не говорила ему про них. Гарри не знал про птиц или про то, как я относилась к Марте Эпштейн – он стал ренегатом в столь малом – неужели он не мог простить мне то, что я не прощала его, и то, что я наделала? Неужели он не мог понять, как я страдала от собственной ненависти и в каком я была отчаянии? Он никогда не мог понять этого или чего-либо другого; или когда я стала спать в Дарьене с Эрлом Сандерсом, мы стояли с ним однажды под душем, и тут крылья и перья все собрались и пролетели сквозь желтую полупрозрачную занавеску – так я повисла на нем под сильным душем, и я думала: «Ох, Гарри, ох, моя плоть!» Я думала: «Бедное голодающее существо, бедная частица Бога, бедный человек». Спазм прошел. Я оторвалась от фонарного столба, взяла свою сумку и пошла по улице. Свет спустился с крыш зданий, и люди сидели на солнце в дверях, почти не шевелясь и оцепенев, как спящие кошки; мне хотелось выпить еще мартини, но, подойдя к дому Ленни, я забыла об этом. Так сильно у меня стучало сердце. Я остановилась. Наверху, в чащобе пожарных лестниц, какая-то женщина вытряхивала одеяло, посылая вниз тучу пыли, и где-то заплакал ребенок; улица в основном была пустынная и мирная – я понимала, что не должна думать о доме. Я вошла в вестибюль и нажала на кнопку, услышала, как наверху зазвонил звонок, – здесь было так тихо, словно ты услышала во сне отдаленный телефонный звонок: раз, и два, и еще раз; по авеню проехали, урча, грузовики и потом автобус – я его слышала: с шипением открылась дверь, снова зашипело, когда она закрылась, и с нарастающим грохотом заработал мотор, замирая вдали. Затем я уже сама была в автобусе, потея среди всех этих посетителей магазинов, чувствуя запах, исходящий от испарений, от кожаных сидений в пятнах от пота, которые с шипящим грохотом уносит автобус в центр и вдаль от этих мучений и моего колотящегося сердца. Только теперь звонок звонил по крайней мере пять раз, а я по-прежнему стояла в вестибюле, пот струился по моему лицу, и я была одна. Я позвонила еще раз, но никто не ответил. И я подумала: «Ох, Гарри». Я присела на приступок у двери и вытащила из сумки часы, но нет: я почувствовала, что успокаиваю себя как ребенок – когда слишком много хорошего, это плохо, даже мои часы, так что я выбросила… выбросила из головы мысли даже об этой успокоительной прохладной тьме и безостановочно движущихся колесиках. Их я сохраню для Гарри. Но Гарри. Ох, Гарри. И неужели он снова не вернется? Я положила часы обратно в сумку, ощупывая их снаружи – все рычажки и кнопочки, которыми можно пользоваться. За дверью раздался топот ног, стук каблуков, два луча света на взбитых волосах и женский голос:
– Дети… возвращаемся… Дороти… Томми… возвращаемся… дети… возвращаемся… возвращаемся.
Я тихо сидела, почти не шевелясь, и я думала так же уверенно, как была уверена, что утратила любовь: «О Господи, я, должно быть, умру сегодня, но неужели я не воскресну в другое время и не встану на Земле чистая и незапятнанная?» Я постаралась помолиться без слез, но когда я молюсь, я плачу, поскольку я не знаю, о чем или кому я молюсь. Я сказала, что Бога нет. Бог – это газообразное позвоночное, ну и как могу я молиться чему-то похожему на медузу? Словом, я перестала молиться и, вынув из сумки бумажную салфетку, вытерла слезы – я буду хорошей девочкой, как всегда говорил зайка; однажды в школе ставили пьесу, и я была там Духом Света, и на мне было серебряное платье, сквозь которое все было видно, и зайка посадил меня к себе на колени, и когда я спрыгнула, то увидела его лицо – оно было красное и напряженное, как у ребенка, написавшего в пеленки. «Ты должна быть хорошей девочкой, дорогуша, – не обращай внимания на то, что я делаю, не обращай внимания на то, что она говорит. И помни, что говорила бабушка: тех, кто держит штанишки на месте, на небе ждут пироги» – так, по его словам, она сказала, и однажды мы с зайкой отправились кататься на яхте, я тащила по воде морскую водоросль, глядя на то, как крабы разбегаются по мелководью, – она потом ударила меня щеткой для волос или чем-то еще. Все было очень путано, но она отшлепала меня, потому что я заставила зайку коротко подстричь мои красивые волосы, как у Марлен Дитрих, а потом мы поехали кататься на яхте – руки у меня были все в пузырях и полны улиток, и я думала о бабушке, которая держала табак за губой. Schlage doch, gewunschte Stünde. Дети вернулись – они вошли в дверь с серьезным видом. У мальчика был игрушечный жестяной бидон – красиво нахмурясь, он нес его под мышкой. На улице голуби баламутно кружили в солнечном свете, и мимо с грохотом проехала мусороуборочная машина. Я не могла придумать, чем заняться. Я пыталась молиться: «Освети мою тьму, молю Тебя, о, Господи, очисти меня, сделай невинной и безгрешной; Боже, верни мне моего Гарри; потом: Гарри, верни мне моего Бога, потому что где-то я сбилась с пути, сделай меня такой, какой я была ребенком, когда мы гуляли по песку и собирали ракушки. Аминь». После этого я открыла глаза и тут увидела записку – сложенный кусок бумаги торчал из почтового ящика. На нем значилось: «Лора». Я развернула его, прочла каракули Ленни: «Уехали к А. Берджеру, не знаю зачем, кроме того, что нам скучно. Гарри говорит, если П. придет, сказать, что он уехал в Перу. Любим и целуем». Я прочитала это трижды – просто чтобы быть уверенной: мое спасение. По крайней мере я в точности знала, где искать его. Я тщательно сложила записку и снова засунула в почтовый ящик. Тут дверь хлопнула – вошел Томми Гивингс в твиде, со своей трубкой, с добрыми голубыми глазами, замечательный, благородный инглишмен.
– Вот так сюрприз! Чем это вы занимаетесь, Пейтон? – спросил он.
– Читаю записку, – сказала я, – то есть читала записку.
У него была лысина – он нервно поспешил прикрыть ее завитком седых волос, такой же эмигрант, как и я, счастливый ученый цыган.
– Дорогая плутишка, что случилось? У вас такой вид, точно вы в беде.








