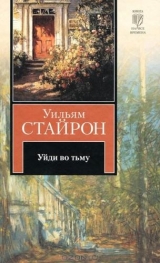
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Уильям Стайрон
Уйди во тьму
Посвящается Сигрид
Неси меня, папа, как носил на ярмарке игрушек.
Джеймс Джойс. Поминки по Финнегану
И коль скоро смерть должна быть Zucina[1]1
Светоч (ит.).
[Закрыть] жизни, и даже безбожники могут сомневаться, не лучше ли умереть, чем так жить; коль скоро в самый долгий наш день солнце садится, медленно опускаясь, и лишь зимой уходит быстро, и значит, недолго нам ждать, когда мы будем лежать во тьме, а наш огонь станет пеплом; коль скоро брат смерти ежедневно напоминает нам о себе и время, которое само собой стареет, не дает нам надежды на долгий срок, – долгая жизнь – это мечта, и безумие на это надеяться.Сэр Томас Браун. Погребение урны
1
Когда едешь из Ричмонда в Порт-Варвик, поезд, выбравшись из города, начинает набирать скорость и мчится мимо табачных фабрик, вечно окутанных облаком едкой, сладковатой пыли, и мимо одинаково бурых дощатых домов, которые выстроились, похоже, на мили по сбегающим вниз с холмов улицам, мимо сотен крыш, отражающих бледный свет зари; мимо пригородных дорог, где движение ранним утром всегда вялое и сонное, и вот уже, промчавшись по мосту, соединяющему два последних холма, быстро едешь над лежащей внизу долиной, где видна ре ка Джеймс, вьющаяся под ядовито-зеленым пенящимся смрадом, выбрасываемым в воздух химическими заводами, и снова ряды дощатых домов и за ними – леса.
Поезд внезапно углубляется в сосновый лес, и по вагону идет кондуктор, пожилой респектабельный мужчина, похожий на чьего-то любимого дядюшку, проверяя билеты. Если вы в этот дремучий час пребываете в бдении, то заметите, что голос у него несколько гортанный и негроидный – как-то глупо звучащий по сравнению с тем, как говорят в Колумбусе, или Детройте, или же там, откуда вы сами, – и когда вы спросите его, далеко ли до Порт-Варвика, и он скажет: «Около восьмидесяти миль», – вы убедитесь, что находитесь на морском побережье. Тогда вы откидываетесь на спинку дивана, чувствуя, как неумытое лицо опухло от ночного сидения, а челюсти болят от излишнего количества выкуренных сигарет, и пытаетесь заснуть, но голубой фетровый подголовник царапает вам шею, и вы снова выпрямляетесь и скрещиваете ноги и сонными глазами смотрите на торговца новинками из Аллентауна, штат Пенсильвания, сидящего рядом с вами и сообщившего вам вчера вечером, что у него есть хобби – модели поездов, а потом рассказавшего анекдот про двух студенток колледжа в отеле «Астор», – сейчас его гладкое лицо с однодневной седой щетиной разгладилось и застыло во сне, а из слегка приоткрытых губ легкими вздохами вырывается дыхание. Или же, повернув голову, вы смотрите на сосновый лес, проносящийся мимо со скоростью шестидесяти миль в час, – зеленые деревья сонно теснятся друг к другу, а ковер леса, усеянный бурыми иглами, весь в ярких пятнах от утреннего солнца, но тут, завихряясь, летит белый дым из машинного отделения и рваным шарфом застилает окно, закрывая вид.
И вот уже солнце взошло, и видно, как туман поднимается с полей, и посреди полей стоят одинокие хижины, из оштукатуренных труб которых вырываются тоненькие струйки дыма, и в открытую дверь видно слабое сияние огня, а у перекрестка вдруг возникает неф и его повозка с сеном, запряженная вислоухим мулом, – неф, разинув рот так, что видны розовые десны, смотрит на мчащийся поезд, пока и его не затягивает дым, и на виду остается лишь поднятая в воздух темно-коричневая рука.
Торговец новинками, вздрогнув, просыпается, сонно смотрит в окно и буркает: «Где это мы?», и вы шепотом отвечаете: «Надеюсь, недалеко от Порт-Варвика», и он поворачивается на бок, чтобы еще поспать, а вы перелистываете «Таймс диспетч», которую газетчик продал вам час назад и которую вы еще не читали, да и не будете читать, потому что мысли ваши заняты другим, – вместо этого вы снова смотрите на пейзаж позднего лета и на печальную красоту мелких ручейков на побережье, прорезающих болото, где полно вдруг возникающих еле слышных звуков, а к полудню все застывает в тишине – лишь вода блестит да иногда вдали раздается свисток и доносится стук колес. И наверно, когда поезд проезжает мимо маленьких станций с такими названиями, как Апекс или Бриллиант, в лесу двое негров пилят деревья, и они слышат свист вашего поезда, и один из них распрямляется над своим концом пилы, вытирает бусинки пота со лба и говорит: «Послушай-ка, ведь это чу-чу едет в Ричмонд», – а другой говорит: «Не-а, он едет в По-от Ва-а-вик», – и первый весело произносит: «Ху-у, точно: это он едет в город шлюх», – и оба весело хохочут, а пила снова жарко врезается металлом в дерево, и солнце жжет кишащую насекомыми, звенящую тишину.
Порт-Варвик – город судостроителей, и дома рабочих начинаются там, где кончаются болота: светлые дешевые фанерные домики появляются среди деревьев словно грибы-поганки, а сейчас мужчины отправляются на работу – их машины ползут по шоссе на восток мимо других сгрудившихся домиков, постепенно распространяющихся по безлюдным болотам до стены леса, – там на крошечных задних дворах женщины развешивают одежду для просушки, не спеша поворачивая бледные лица к проходящему поезду. Поезд замедляет ход, и торговец новинками просыпается, озадаченно и громко зевая, и берет у вас газету, а когда вы снова поворачиваетесь к окну, девственная природа уже исчезла, мимо проносятся пригородные дома, и серые безликие улицы, и вывески супермаркетов; затем – склады, и наконец поезд, вздрагивая, медленно останавливается в станционном доке, где оканчиваются пути, поскольку за доком – залив, глубокий, зеленый, шириной в пять миль.
Вы встаете и прощаетесь с торговцем новинками, который дальше поедет через залив на пароме, а вы стаскиваете свою сумку с полки и выходите из поезда в док, где так освежающе пахнет водой после удушающего тепла вагона и где в тридцати ярдах от вас стоит с улыбкой встречающая вас девушка или ваши друзья: «А-а, вот и он!» – и, шагая к ним, вы уже забыли и торговца новинками, и всю поездку вообще. День будет жаркий.
* * *
Ровно в одиннадцать утра в будний день в августе 1945 года черный блестящий катафалк беззвучно, словно у него и нет мотора, останавливается в станционном доке Порт-Варвика; вслед за ним туда въезжает автомобиль, который в похоронном бизнесе именуют лимузином, – тоже начищенный до блеска «паккард». Шофер лимузина мистер Лльевеллин Каспер – тощий мужчина в очках и перчатках цвета домовой мыши, чье лицо выражает ветревоженность и сочувствие. Лицо у него некрасивое, слегка усыпанное веснушками, со светло-голубыми глазами – такой отсутствующий взгляд часто встречается у ярко-рыжих людей, а он как раз ярко-рыжий, и то, как он вылез из машины в док и осторожно открыл заднюю дверь, свидетельствовало, что это спокойный, бдительный и благопристойный человек – человек, которому в подобный день можно доверить печальные хлопоты, связанные со смертью члена семьи.
Наклонившись к заднему сиденью, он произнес:
– До прибытия поезда еще пятнадцать минут, мистер Лофтис. Вы желаете подождать на станции?
С заднего сиденья появляется Милтон Лофтис, вслед за ним – женщина по имени Долли Боннер и старая негритянка в черном шелковом платье с белыми кружевными воротником и манжетами. Ее зовут Элла Суон.
– Я думаю, мы подождем в доке, – сказал Лофтис.
– Отлично, сэр. Я через минуту буду с вами. Послушайте, Барклей!
И он, беззвучно шагая, направился к своему помощнику, бледному молодому человеку в мешковатом черном костюме, который, склонившись над капотом катафалка, всматривался в дымящийся мотор.
Остальные трое молча прошли под навес станции, где уже стояли люди в ожидании поезда. Откуда-то снизу с пронзительным свистом вырывался пар. Небо над навесом было ясное и безоблачное, и ярко-голубое – такое небо обещает жару и ленивую неспешную деятельность в течение всего дня. В воздухе, уже влажном, пахло солью, что присуще южному побережью, – малоприятный запах креозота и дегтя, и рыбы с легкой примесью чего-то жареного. Напротив дока, отделенное от него двадцатью – или около того – ярдами грязной воды, стояло у пирса грузовое судно. Команда грузчиков начала загружать в его трюм бокситы. С пирса долетали треск и гудение электрокрана, запах паленого металла. Из трюма раздался голос рабочего, слабый и замогильный точно эхо из пещеры: «Давай ее сюда!» – и с судна поползло густое облако пыли, накрыв волнистой пеленой навес в доке и пространство под ним и осев на все тонким слоем, слегка шершавым на ощупь. Большинство людей поспешили укрыться на станции, отряхивая одежду, а Лофтис и две женщины продолжали терпеливо стоять возле путей, в то время как пыль бесшумно накрывала их, пропитывая одежду и превращая лицо старой негритянки в пыльную маску.
– …и она не приедет. Она вообще не приедет, – говорил Лофтис. – Я упрашивал ее, умолял. «Элен, – сказал я ей, – простое приличие требует, чтобы вы приехали. Ну хоть на один день, – сказал я. – Неужели вы не понимаете, – сказал я, – это же наша дочь, наша дочь, а не только моя. Как, по-вашему, я могу вынести… – сказал я, – …просто как, по-вашему, я…»
Голос его повысился, в нем появилась отчаянно зазвеневшая нотка горя, и обе женщины, словно им одновременно пришла одна и та же мысль, похлопали его по плечам и разразились потоком нежного шепота.
– Ну не надо так… – начала Элла.
А Долли сказала:
– Милтон, дорогой, держись. Милтон, дорогой, – тихо добавила она, – ты считаешь, что я действительно должна быть тут? Я так хочу быть с тобой, дорогой мой. Но Элен и всё вообще, и…
Это была женщина лет сорока, в черном платье и с печальными глазами.
– Я не знаю, – тихо произнес он.
– Что? Что не так, дорогой?
Он ничего не сказал. Он не расслышал ее, а кроме того, его мозг был слишком занят обрушившимся на него ошарашивающим горем. Вчера он был счастлив, но это горе, свалившееся накануне вечером, похоже, безнадежно сбило его с толку, поскольку впервые в жизни он не мог отсечь его от себя, отбросить, как пугающий и нежеланный кокон, а потом говорить об этом: «одно из таких дел». Лицо его обвисло от горя, и когда он смотрел на воду, в глазах появлялось удивление, словно он впервые такое видел. Ему было за пятьдесят, и в молодости он был, несомненно, красив, и хотя некоторые прежние черты сохранились, лицо его стало дряблым и неухоженным: черты молодого мужчины расплылись от нездоровья, кожа покрылась большими порами и сильно покраснела. Седая прядь, бывшая у него с детства, не только не портила его, но делала более эффектным, притягивая восхищенные взгляды.
А он немало гордился этой своей прядью и потому редко носил шляпу.
Элла Суон сказала:
– Поезд скоро придет. Пейтон приезжает на том, что приходит в одиннадцать сорок. Бедный драгоценный ягненочек.
И она тихо заплакала, прикрывшись огромным кружевным носовым платком. Лицо у нее было худое, морщинистое, как у пожилой обезьяны, и хоть она и плакала, но мокрые глаза поверх кружев обозревали все вокруг.
– Ш-ш-ш, – шепнула Долли. И положила руку на плечо Эллы. – Ш-ш-ш, Элла. Не надо.
Пыль опустилась до земли, накрыв док словно туманом; на путях появились двое одиноких мужчин в красных фуражках, переправлявших со станции багаж, и словно призраки исчезли, а Лофтис, смотревший на них, подумал: «Не стану я об этом много думать. Постараюсь занять мозг, думая о воде». На судне одинокий мужчина, красный как кирпич, тащил канат и, прыгнув на узкий мостик, крикнул в трюм:
– Отпускай!
«Возможно, – думал Лофтис, – если я стану думать только об этой секунде, об этом моменте, поезд и вовсе не придет. Буду думать о воде, о том, что сейчас происходит». Тем не менее он знал, что он человек слишком пожилой, слишком усталый для парадоксов, ему не избежать того, что сейчас произойдет, и поезд все-таки придет, принеся с собой свидетельства судьбы и обстоятельств, – этих слов он никогда до конца не понимал, принадлежа к епископальной церкви – по крайней мере, номинально – и не будучи склонным долго размышлять над абстракциями. Поезд придет, принеся с собой свидетельство всех его ошибок и всей его любви, поскольку он любил дочь больше всего на свете, и мысль, внезапно поразившая его – что он увидит ее сегодня утром безмолвную, слившуюся с гробом, – наполнила его ужасом. «Поезд, – подумал он, – подъезжает сейчас к предместьям города и со страшным грохотом пересекает последний рукав реки, минуя стоящие на берегах негритянские хижины».
– О-о Господи, – тихо произнес он.
Элла Суон повернула к нему лицо. Осторожно промокнув глаза, она сказала:
– Да не волнуйтесь вы так, миста Лофтис. Мы с миз Боннер обо всем позаботимся. – И снова принялась плакать. – Господи Боже мой, благослови нас, Иисусе, – простонала она.
– Ш-ш-ш, Элла, – сказала Долли.
Удрученный, испуганный, Лофтис отвернулся и стал смотреть на воду, прислушиваться к ней. «Я не собираюсь убеждать тебя, – говорил его отец (в слабом свете мартовского дня тридцать лет назад, до того как дом был окончательно признан непригодным для жизни, но незадолго до этого; когда даже легчайшая нога, ступив на лестницу, порождала жалобный стон во всех балках и стыках, напоминая не только о том, что дом быстро стареет, но и о том, что уходит лучшее, более спокойное время), – я не собираюсь убеждать тебя с помощью родительского совета, от которого ты со своим своевольным представлением о сыновнем долге в любом случае отвернешься, – я лишь надеюсь, что ты примешь во внимание предупреждение человека, который видел много воды, протекшей под мостом, – человека, на которого соблазны плоти оказали сильное и многообразное воздействие, и, может быть, ты в какой-то мере откажешься от того образа жизни, который даже в самой благоприятной ситуации может привести лишь к горю, а возможно, и к полному краху. Я теперь уже старик…»
Значит, отец каким-то образом понял, что его молодость со временем предаст его, хотя и не мог предвидеть последней беды – что его сын, уже пожилой и немного рыхлый мужчина, будет стоять сейчас и ждать символа своей судьбы, – как не мог предугадать, что новая и более жестокая война перевернет мир или что через много лет после его смерти демократы необъяснимым образом возьмут власть в свои руки, возможно, навсегда. Его отец. Теперь уже лишь тень. И волна жалости затопила Лофтиса. Он чувствовал, что потерпел поражение и попал в ловушку, и ему казалось, что горе огромно и он его не вынесет.
«Не только это, папа. Есть и другое. Жизнь ждет момента. Не только плоть. Я не поэт и не вор – я никогда не смогу поступать по своей воле».
«А кроме того…» Он смотрел на корабль, на пыль, на трех чаек, устремившихся вниз, ныряя на мелькающих в воздухе крыльях. А кроме того… он ведь был молод. Ты забываешь свою молодость, а она вдруг возникает и предает тебя. Это твоя молодость, о которой ты за эти годы забыл, о которой ты в конечном счете сожалеешь, – молодость жизни, начавшейся пятьдесят с лишним лет назад в Ричмонде, в доме, похожем на захламленный музей, где его первое воспоминание связано с залитой солнцем комнатой, куда доносятся унылые приглушенные звуки воскресного дня и отдаленные звуки парада с духовым оркестром, – музыка звучит звонко и нагоняет уныние, и мама шепотом говорит: «Это музыка, милый Милтон… музыка… музыка… музыка… послушай, дорогой». Солнечный свет пробивается сквозь тихо шелестящие жалюзи, и где-то бесконечно далеко, над ними, маячит ничего не выражающее лицо его матери, которую он не видел и не знал, потому что она умерла до того, как он мог запечатлеть в своем сознании эти черты, которые, как говорил потом отец, были такими благородными и красивыми. А какие были прогулки с отцом по парку, и как пахло в лесу папоротником, и какой у него был закадычный друг: мальчик по имени Чарли Квинн; у него было такое бледное лицо и ввалившиеся щеки, как у изголодавшегося, а на лбу родимое пятно словно цветок с коричневыми лепестками, – его убили на Сомме. «Сын мой…»
«Твой первейший долг, сынок, запомни: прежде всего перед самим собой (отец был адвокатом, потомком длинной цепи адвокатов и вплоть до своей смерти в 1920 году носил крахмальные воротнички и эдвардианские усы), – я не собираюсь что-либо навязывать тебе вопреки твоим убеждениям – у тебя, как я понимаю, они есть в изобилии, унаследованные не от меня, а от твоей матери, так что когда ты выйдешь в широкий мир, я могу лишь увещевать тебя словами Шотландца, а именно: задирай подбородок вверх, а килту[2]2
Килт – юбка в складку, предмет мужской национальной одежды в Шотландии. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть] не давай задираться – тогда и ветер не страшен».
Но у его отца не хватило ума не избаловать сына и понять: отправив его в университет в семнадцать лет, он получит то, что и получил, – в девятнадцать сын его стал известен всему университету как Забулдыга, горький пьяница даже по университетским стандартам, который пил виски не только потому, что хотел напиться, а потому, что, будучи вдали от отца, обнаружил, что свобода слишком гнетет. Он был разговорчив, по природе любознателен. Говорили, что из него выйдет отличный адвокат. А окончив юридический факультет, он с приятным удивлением увидел свои документы, свидетельствующие, как хорошо он преуспел, принимая во внимание, сколько он пил и сколько времени провел в городском беспутном доме, где обслуживали главным образом студентов, – он помнил, что в этом особняке с люстрами на абажурах стояла печать университета и заправляла в нем опытная проститутка по имени Кармен Метц.
Он был на Большой войне, сделав жест и поступив в армию, что, как он со стыдом признался себе годы спустя, было несерьезно; с каким облегчением он вздохнул, когда отец благодаря связям в правительстве перевел его в юридические службы армии. Всю войну он провел на острове Говернор, где простейшим путем, о каком и помыслить не мог, получил звание лейтенанта, а потом капитана, окончив воину с этим званием и с дочерью полковника.
Они познакомились на острове, на офицерских танцах. Ее звали Элен Пейтон. Отец ее был выпускником Вест-Пойнта из старой виргинской семьи. «Не странное ли это совпадение, – спросила Элен Милтона во время танца, – что мой дед окончил тот же университет?» Тем вечером они шли вдоль дамбы под мелким дождем, и когда он, очень пьяный, пошатнувшись, нагнулся, чтобы поцеловать ее, огни города поплыли перед его глазами словно красные угольки в темноте. А Элен бросилась бежать – за нею сверкающим дрожащим хвостом слетали с плаща капли дождя.
Возможно, они были слишком молоды, чтобы понимать, что делают, однако через несколько месяцев были уже помолвлены. Оба были красивы, и оба безумно влюблены. Они любили сборища, любили танцевать; по субботам ездили верхом в Центральном парке. Однако она во многом была пуританкой и весьма строгой: «Нет, Милтон. Надо подождать». И насчет выпивки. Она любила хорошо проводить время, но при этом оставаться трезвой.
– Да ну же, маленькая мисс Недотепа, – с улыбкой говорил он ей, – не бойся, ну немножко…
– Ой, Милтон, прошу тебя: хватит. Нет. Нет. Я не буду! – И убегала, всхлипывая.
Ну разве вам не ясно? Перед вами армейский бесстыжий парень. Псих из психов, и все из-за непутевой жизни. Вечно где-то болтается. Но он любил ее. И долгое время не пил. Ради нее.
Они храбро, оптимистично смотрели в будущее. У его отца было немного денег, и он устроил Милтону практику в Порт-Варвике, «растущем городе», как говорили. Они могли неплохо проводить там время. Отец давал им не так много денег, но на какое-то время хватит. Они сумеют прожить.
Тогда она сказала ему: когда умрет ее мать, она унаследует сто тысяч долларов. «Ой, девочка!» – сказал он, как бы протестуя, но в то же время обрадовавшись, и они обвенчались с шумной, ненужной помпой, присущей военным свадьбам; церемония эта встревожила его тем, что он получил от нее удовольствие. Сладостное возбуждение, вызванное флагами и музыкой, породившее в нем легкий стыд, объяснялось не просто патриотизмом. Скорее это была гордость, вызванная достигнутым им рангом, а получил он его только благодаря своей невесте, и он это знал и тем не менее чувствовал, как в нем сильной струей зафонтанировала юношеская надменность; еще бы: две серебряных полосы на безупречно белой, отутюженной парадной форме. Ощущения окружающего притворства и фальши не перекрыло известие, сообщенное отцом, ставшим мягким пожилым мужчиной, который по-прежнему не чаял в нем души и чье терпение перестало быть достоинством, войдя в привычку, – он застенчиво стоял в уголке на приеме в офицерском клубе, кончики его некогда горделивых усов печально подрагивали, и он сказал Милтону извиняющимся, похоронным тоном, что Чарли Квинна убили за океаном, – худо это, очень худо.
Невысказанное возмущение тихо закипало в молодом человеке, хоть он и выразил легкое сожаление по поводу смерти юноши, чей след давно потерял, – он едва скрыл досаду от того, что ему сказали такое в день свадьбы, словно отец, в компенсацию за устройство сына, произнес эту новость в напоминание о том, что война – это не только шампанское, и цветы, и звонкий смех офицерских жен. И Милтон еле сдержался, чтобы не сказать отцу что-то очень горькое, издевательски оскорбительное, а пожилой мужчина стоял, моргая мокрыми глазами, как воплощение слабости, которую Милтон всю жизнь тихо презирал. Он хотел увести его и отправить назад, в Ричмонд. Он презирал отца. Старик слишком много ему отдал. «Сын мой (отец жил в то время в пансионе: их прежний дом был снесен – на его месте построили папиросную фабрику, и теперь стальные двери преграждали путь призракам мирной жизни и ушедшим в небытие традициям или даже воспоминаниям о дюжине старых кедров, пропускавших нежный, дрожащий свет на исчезнувшую землю), – сын мой, твоя мать была моей радостью и спасением, и я надеюсь и молюсь, хотя бы в память о той, что произвела тебя на свет, что ты, как сказал священник, будешь жить в радости со своей женой и любить ее все дни суетной жизни, отпущенные тебе под солнцем, ибо это твой удел. Сын мой…»
Внезапно волна жалости и грусти захлестнула Лофтиса, он неуклюже попытался найти какие-нибудь слова для отца, но лицо Элен возникло поблизости, поднятое к нему, предлагающее поцелуй, и она потащила его за собой – знакомить с кем-то из его гостей. Отец как неприкаянный стоял в уголке, стараясь поддержать разговор со скучающим молодым лейтенантом, а Лофтис, новоиспеченный капитан, слушал монотонную свадебную болтовню генеральской жены, кивал, улыбался и думал о бледном мальчике с родимым пятном, похожим на цветок, о братике, которого у него так и не было, и о своем отце, которого он так и не узнал.
– Право же, Элен, – болтала генеральская жена, – я считаю, вы выбрали цвет армии. Такой персик! – И смех ее потряс воздух, словно на мелкие кусочки разбилось стекло.
«Думай о том, что происходит сейчас». С какого-то парохода прозвучал громкий свисток. Лофтис поднял взгляд на облако пыли, прочерченное кривыми рамками света.
– Элен, – рассеянно произнес он, нащупывая ее руку, но это оказалась одетая в перчатку рука Долли, успокоительно лежавшая на его плече. Он повернулся, чтобы встретиться с ней взглядом, и услышал далекий грохот поезда. – Нет! – воскликнул он. – Я этого не вынесу!
* * *
Катафалк стоял возле грузового лифта для угля. Всякий раз, как мистер Каспер нагибался к Барклею, чтобы объяснить ему, что случилось с мотором, лежавший на путях над ними перевернувшийся полувагон заглушал его слова бешеным грохотом угля, сваливаемого к морю и гулко поглощаемого трюмом.
– Лайл, – начал мистер Каспер, – может, ремень вентилятора перестал вращаться. ЛАЙЛ! – Нервничая, он стряхнул пыль с манжет, пытаясь сохранять спокойствие.
Барклей залез в кабину катафалка, включил на несколько минут мотор, но вентилятор не работал. Он выключил мотор.
– Ты проверил…
– Ри-и-пп. ПОЛОМКА!
Горькое отчаяние парализовало Каспера. Накануне ночью он почти не спал, и сейчас все вокруг него колыхалось и казалось абстрактным.
– Послушай, Барклей, – сказал он, – ты уверен, что проверил воду?
– Да, сэр, – сказал тот с мрачным видом.
– Я ведь тебя в прошлый раз предупреждал. Катафалк, сынок, стоит почти шесть тысяч долларов – мы же не хотим, чтобы с ним что-то случилось, верно?
Барклей поднял взгляд от мотора. Мистер Каспер мягко улыбался, глядя вниз. Он тепло и по-отечески относился к Барклею – у него ведь не было своих детей. Лайл был туповат, но славный малый, – славный малый, но… что ж, туповатый. Сегодня не тот день…
– А ну, – сказал мистер Каспер, снимая перчатки, – дай-ка я погляжу.
Руки у него были в веснушках, крупных красных веснушках, из которых торчали пучочки морковного цвета волос. Он нагнулся над мотором, и кислый дым ударил ему в ноздри. Он стал шарить вслепую, на ощупь, пачкая сажей манжеты. Затем он потерял равновесие и, пытаясь схватиться за что-то, ударился рукой о радиатор. Руку пронзила невыносимая боль.
– Проклятие, Барклей! – Мистер Каспер резко отпрянул и схватился за руку. Он испуганно смотрел, как вздувается кожа – обожженное место было совсем маленьким, но болело, и боль вызывала в нем безрассудную злость. – Наладь его, мальчик, – мягко произнес он, так мягко, как только мог. – Наладь этот радиатор. Если не сумеешь, то это сделаю я.
Два негра – рабочие с доков – прошли мимо, погромыхивая связывавшей их цепью. Мистер Каспер услышал, как один из них насмешливо фыркнул.
– Сдох твой фургон, приятель!
И мистеру Касперу стало стыдно, что он разозлился.
Он стоял и лизал обожженное место, а тем временем Барклей нашел поломку: резиновая кишка, ведущая от радиатора, вывалилась из своего гнезда, и большая часть воды вытекла. Он снова вложил кишку. Барклей отправился на станцию «Эссо» за ведром воды, а мистер Каспер закрыл капот и выпрямился, стирая с рук масло. Он надел перчатки и услышал вдали слабый свист. Взглянул на часы: одиннадцать двадцать. Значит, это поезд. Над ним по наклонной плоскости элеватора покатилась угольная вагонетка, скрежеща колесами о рельсы. Этот звук невыносимой болью отозвался на нервах мистера Каспера. Проклятие! Он быстро направился к группе людей, стоявших в доке, и столкнулся с носильщиком, выскочившим с чемоданами из багажного помещения:
– Извините, сэр!
Мистер Каспер поднялся по ступеням в док, и в лицо ему ударил чистый, прохладный соленый воздух. Глубоко вдохнув, он услышал донесшийся издали хриплый голос Лофтиса, визгливый и взволнованный, вибрировавший на грани печальной истерии, которую он так хорошо знал.
– Я этого не вынесу! – сказал Лофтис столь громко, что проходивший мимо мистера Каспера толстяк остановился и, обернувшись, вопрошающе посмотрел на него. – Я же говорю вам… мне этого не вынести… я не пойду!
Мистер Каспер был человеком добрым. Страдание воспринималось им с быстротой света: человек, познавший горе, имевший горький опыт, он сразу увидел разницу между мукой настоящей и наигранной. В данном случае все было настоящим. Он подошел к Лофтису и похлопал его по плечу.
– Хватит, хватит, мистер Лофтис, – сказал он. – Приободритесь.
– Нет, я туда не пойду. Нет, я не хочу это видеть. Нет, не пойду. Не могу. Я просто подойду…
– Ладно, старина, – мягко произнес мистер Каспер, – можете туда не ходить, если не хотите. Пойдите посидите в лимузине.
Поезд с грохотом вошел в док, извергнув белое облако, которое, заклубившись, окутало их. Паровоз, вздрогнув, остановился, тяжело дыша, словно появившийся рядом с ними огромный зверь, а солнце ярко засверкало на дюжине смазанных маслом колес.
– Да, – тихо произнес Лофтис, успокоившись. – Я пойду посижу в машине. Я не хочу это видеть.
– Правильно, старина, – отозвался мистер Каспер, – просто посидите в лимузине.
– Точно, бедный мой человек, – всхлипнула Элла, – пойдите посидите в лимузине.
– Да, дорогой, – добавила Долли, – в машине.
Лофтис повернулся к мистеру Касперу, глаза у него были испуганные, лицо светилось облегчением и благодарностью, что тронуло мистера Каспера, и он повторил:
– Да, сэр, пойдите посидите в лимузине, если хотите. Я все контролирую.
И Лофтис заспешил к машине, шепча:
– Да, да. – Словно слова мистера Каспера разрешили проблему.
Когда он ушел, Долли разразилась слезами.
– Бедняжка Пейтон, – плакала она, – бедная, бедная девочка.
«Это ее горе несколько наигранно», – подумал мистер Каспер. Хотя трудно судить о женщинах: они часто бывают такими. В общем, он ожидал, что они будут плакать… но как она связана с Лофтисом? Что-то – какое-то высказывание или услышанное слово – мелькнуло в его сознании, но быстро исчезло. Надо было браться задело. Он пошел по путям, всматриваясь сквозь пыль в поисках багажного вагона, и им овладела волнующая неуверенность. Он чувствовал ее все утро и ворочаясь ночью в постели, но лишь минуту назад – увидев странное выражение в глазах Долли Боннер? – по-настоящему обеспокоился. «Неладно что-то в Датском королевстве», – подумал он. Мистер Каспер гордился своей работой. То, что мистер и миссис Лофтис так не по-христиански создали атмосферу секретности вокруг останков своей дочери, глубоко шокировало его и в какой-то мере казалось оскорблением не только ему, но и всей его профессии.
Звонок от Лофтисов поступил накануне вечером не ему домой, а в похоронное бюро, где из-за глупой ошибки, допущенной им в отчетах месяц назад, он сидел, проверяя свои книги с мистером Хаггинсом, аудитором Тайдуотерской лиги гробовщиков. Голос был миссис Лофтис. Он тотчас ее узнал, поскольку время от времени имел с ней дело в Объединенном благотворительном фонде, – голос был интеллигентный, говорила она педантично, вежливо, но слегка высокомерно. Она сообщила ему все – и он записал это в блокноте – странно спокойным, лишенным какого-либо чувства голосом, и только после того как повесил трубку, выразив под конец обычные соболезнования, он сказал себе, а потом и мистеру Хаггинсу:
– Как странно: она говорила так… холодно.
Мистер Каспер не любил прилива эмоций, обычно обуревавших женщин в периоды напряжения; он часто говорил Барклею, что «плачущая женщина хуже дикой кошки с крыльями», делясь с юношей одной из забавных эпиграмм, которые он старательно собирал, надеясь с их помощью – подобно солдату, вспоминающему перед боем развратные софизмы, – немного облегчить суровость своей миссии. Но в то же время было в нем что-то – чувство достоинства, сочетавшееся с природой его работы, – требовавшее, чтобы потерявшие близких – особенно женщины – выказывали пусть немного горя, хотя бы чтобы их бледные сжатые губы мужественно пытались улыбнуться, а глаза – пусть сухие – выражали бесконечное страдание. С превеликим любопытством – вспоминая тон, каким Элен Лофтис произнесла свои слова, холодно, бессердечно, – он подошел в то утро к их дому. Она встретила его у входной двери с таким лицом, словно ждала бакалейщика. «Правда, – подумал он, – выглядит она измочаленной». Смертельно бледное лицо было прочерчено тонкой сетью морщинок. «Печально, – подумал он, – печально». Но ведь эти морщинки и мелкие складочки и припухлости были и прежде. Они – вместе с красивыми, белыми как снег волосами, хотя ей еще и пятидесяти не могло быть – появились от какого-то другого горя. И тут он мгновенно вспомнил: кое-что еще произошло несколько лет назад – другая дочь, калека. Которая умерла. Она, кажется, была слабоумной? Ее хоронил Барнс, его конкурент… «О великий Боже!» – подумал он.








