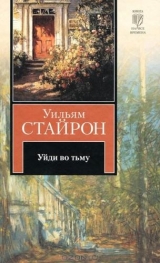
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Тони сказал:
– А ну, детка, сними их.
И я сказала:
– Нет, я не могу, Тони, просто не могу.
И он снова сказал:
– Почему?
– Да потому что мне больно! – громко произнесла я, и он с улыбкой нагнулся и поцеловал меня; я закрыла глаза и не разжала зубов, так что его язык попал мне под щеку.
– Нет, – сказала я, – нет.
Но когда я это произнесла, его язык прошел внутрь – я почувствовала запах молока. Он всегда говорил, что не может избавиться от этого запаха, сколько ни моется в ванне; сейчас, когда он был так близко, он него пахло как на молочной ферме, или в детской, или у фонтанчика с содовой водой, где давно не чистили, – запах молока обволакивал меня как жара. Я начала потеть. Я понимала, что поцелуй будет долгий с таким языком и непрекращающимся запахом молока, – я подумала о птицах. Бабушка была тоже из Лингбурга; зайка часто говорил, что лицо у нее было, как у ангела; он сказал, что она любила готовить печенье с орехами и изюмом и называла его «зайка», так что, когда он мне это рассказал, я стала тоже называть его «зайка»; «как прелестно и волнующе, – думала я, – быть бабушкой твоего отца и позволять ему взбираться к тебе на колени, такому же румяному, я полагаю, как сейчас; интересно, – подумала я, – эта прядь волос, что свисает на лоб, была там и тогда, серая, как пепел сигареты», тут Тони провел рукой по моему боку – молочной рукой. Вместо щекотки появилась боль, а щекотно не было; меня лихорадило, возможно, кожа у меня пожелтела, подумала я, как когда у меня была желтуха, потому что лихорадило меня также, и рука Тони причиняла мне боль, а не щекотала. Сейчас я чувствовала его язык – гладкий низ языка и мякоть под ним, болтающуюся, как гребень петуха, и я дала ему волю; я сказала ему однажды, что он как Прайд[29]29
Прайд – английский полковник, участвовавший в 1648 г. в парламентском бунте в Англии.
[Закрыть], как Овидиева блоха: он может пролезть в любой уголок девчонки, сесть на ее лоб, как завиток парика XVIII века, целовать ее в губы – как кто? Перья птицы. Фу, что это за запах тут! Я вспомнила, но он не понимал или считал, что я подразумеваю молоко. Он перестал меня целовать, смотрел вниз на меня, глаза янтарные, как капли от кашля, с голубыми точечками. Однажды я заплакала, когда Гарри привез меня на реку и сказал, что я прекраснее вечернего воздуха, наделена красотой тысячи звезд.
– Да ну же, черт бы тебя побрал, – сказал Тони.
Он снял мои штанишки, приподняв меня. Я думала о перьях, птицах, и когда он вошел в меня, стало больно, но не больнее, чем та, другая боль, постоянно теперь присутствующая, словно коготь ждущей птицы, – я обвила его руками, чувствуя его волосы. Я слышала стрекот часов так близко, точно они были у самого моего уха: тик-тик-тик, – минутная стрелка шагала по своей идеальной орбите, неся нас по небу, словно на грузовом поезде; мы с Гарри лежим, растянувшись у ручья, и дремлем, зеваем, потягиваемся и поворачиваемся, и смотрим на передвигающиеся бриллианты, рубины, красные, как кровь с перерезанного горла голубя, идеально расставленные среди точно размеренных, божественно тикающих колесиков. Укрытые от неба, словно тонущие, только лучше: водянистое солнце в подводной лодке освещает вечным, дневным светом полированную сталь, которая вспыхивает и сверкает, так что у нас всегда будет свое солнце весной и наша любовь. Когда все кончилось, я заплакала.
– В чем дело, детка? – сказал он.
– Ни в чем, – сказала я.
– Ну так прекрати, – сказал он. – Можно подумать, что мы не знаем друг друга. Ты сейчас скажешь: «Но я недостаточно хорошо тебя знаю». Ты так скажешь?
– Я недостаточно хорошо тебя знаю, – сказала я.
Он сказал:
– О, ради Христа, меня бросает от тебя в дрожь. С тобой так весело, как с палкой.
Я повернулась на бок и стала смотреть на часы – я больше не плакала. Я услышала, что Тони включил воду: моется, снова напевает, – и я попыталась вспомнить, сколько же времени я его знаю – может быть, месяц, неделю, – трудно сказать, только в первый раз это было как-то связано с печью для сжигания отходов в коридоре, потом мы с ним пили пиво, разговаривая о птицах, а когда проснулась, я почувствовала гнездо на его плече, где волосы. Я имею в виду – птичье; происходило что-то непонятное – я это понимала. Я вытащила кнопку из будильника и посмотрела в дырочку, но увидела лишь маленькую каемку белого металла – под этот колпачок проникает свет, – а снаружи стрелки, светящиеся точки; все это будет на моей совести, и мы с Гарри, слава Богу, избежим этого. Ленин сказал, что нет Бога, а Сталин сказал: коллективизация + электрификация = Советская власть, все работают как часы: – тик-так, а когда Алберт Берджер сказал это, глаза его полны были слез, точно он надышался газа.
– Бога нет, – сказал он. – Он существует лишь в духе творчества, в электронах на радарном экране или в молекулах ДДТ.
– Да, – сказал Гарри, – но ДДТ – это смерть, а Бог – это сила жизни, любви – чего угодно, но не смерти.
– Откуда вы это знаете? – спросил Алберт Берджер.
И я сказала – вспоминая что-то, чего я не знала; я, наверное, была пьяна и потому сказала, как Гарри всегда это называл, с желанием поразить остроумием алкоголички:
– Теперь, когда Христос воскрес из мертвых, это первые плоды тех, что спят. – Произнесла слишком громко, и с пола ко мне повернулись мудрые, вопрошающие, психоанализирующие лица, поднятые в воздух бокалы с мартини, светлые, как горная вода; тишина, все замерли в ожидании. И я снова сказала: – Первые плоды тех, что спят и, соскользнув с дивана, больно проехали по моему заду!
Сама не знаю, почему я это сказала. Я подумала о Кэри Карре. На улице голуби ворковали и суетились, их горла раздувались как мочевой пузырь; если перерезать их ножом – хлынет кровь; Мальчик-Дикки никогда не станет большим после своей первой попытки – его пипка такая маленькая и никчемная, но у него теплые руки, и когда мы в темноте ложились, я чувствовала его ребра. Тони прошел по полу, я не могла его видеть, но на нем были шорты: он всегда их надевал, когда брал бутылку пива.
– Зачем ты смотришь на часы? – сказал он. – Меня начинает трясти.
Я услышала, как ответила ему. Странно. Так отвечать, подумала я: голос какой-то бесплотный, ни к кому не обращенный, исходящий из ниоткуда, говорящий с голубями или со всем необъятным голубым воздухом:
– Я общаюсь с мертвыми душами. – Я слышала, как у моего уха тикали часы – идеально, упорядоченно и вечно.
– Ах ты, смешной ребенок. А ну, дорогуша, любящий поцелуй.
Он приложил бутылку пива к моей спине – мне следовало поостеречься: у меня было такое чувство, точно по мне провели лезвием – только это лезвие было изо льда, и оно выкопало тот страшный коготь: спазм с рыком прошел по моему чреву, и я вскрикнула. «О, Иисусе!» – «Ах, детка, я не хотел». Я легла на спину, схватившись за живот, массируя кожу, жаждя больше всего на свете большой и мягкой бутылки горячей воды – большой, как комната, и такой горячей, чтобы жгло кожу, и я собиралась попросить Тони, но я вспомнила: бутылка, которая была у меня, разбилась.
– Просто дай мне горячее полотенце, – сказала я, – пожалуйста, Тони, найди его мне.
– Извини, детка, – сказал он, нагибаясь надо мной: в волосах на его груди были пушинки и мой волос, длинный и каштановый – я увидела это, когда он нагнулся надо мной, а также медаль Святого Христофора, которая висела, дрожа, на тонкой золотой цепочке: малыш, вцепившийся в шею несущего его Христа своими маленькими бронзовыми ручонками, море, и ветер, и тьма – «Путешествуйте благополучно». Иисусе-Спаситель, направь меня. Боль снова отхлынула к коже, мягко, благодатно, и я подумала: «Какое чудо, что наши внутренности не разрушены».
– Теперь все в порядке, – сказала я.
– Я ухожу к соседям, – сказал он тогда, – мне надо поспать. Сегодня мы ведь всю ночь будем на ногах, да?
– Если ты этого хочешь, Тони, – сказала я.
Он поцеловал меня в щеку, приподняв мою грудь рукой. Я снова почувствовала запах молока, прогорклый и кислый, а он выпрямился и запел:
– Субботняя ночь – самая счастливая в неделе. Так говорят…
– Только дай мне немного отдохнуть, – сказала я.
– О’кей, детка.
Не знаю, когда он ушел – мне это трудно вспомнить: в какой-то момент дверь щелкнула, и я осталась одна – лежала плашмя, потела, слушала, как тикают часы. Я долго лежала так, слушая: где-то в комнате зажужжала муха, громко, словно в тяжелом сне, села и перестала жужжать. Я представила ее себе: она прилетела с фруктов разносчика, перепачкав ножки в банановом соке, ее длинный хоботок движется взад-вперед, работая как насос, ножки волосатые, как у норки, и все в микробах; я оставила на столе апельсин и подумала, не обнюхивает ли его муха. Вот сидели бы мы с Гарри в моих часах и были бы на всю жизнь в безопасности: они жужжали бы над нашими головами, закрывая небо, пытаясь проникнуть внутрь, суя свои носы в слуховое окошко; мы бы видели бородатые призмы их лиц, их сердитые взгляды, но мы были бы навсегда в безопасности, охраняемые хромом и неизменной, неустаревающей сталью. Сверху что-то свалилось – дамский халат от «Ригли» упал с небес; он попал в кучу пыли, пронесся по улице, над домами. Я приподнялась на локте, думая, прислушиваясь к тихому тиканью часов. Поезд метро с ревом промчался с юга, поехал куда-то под землей, сотрясая здание, исчез. Я пыталась думать. В голове у меня были птицы, несущиеся к земле, – дронты, и пингвины, и казуары, страусы, пачкающие свои красивые черные перья, и они, казалось, были связаны с зайкой. «Не будем говорить о зрелости и возрасте, и, в конце концов, ты уже переступила через черту возраста, когда человек отвечает за свои поступки, – сказал он. – В двадцать два года молодая дама должна знать, чего она хочет, – говорилось в письме (правильно ли я это помню?), – забудь о зрелости и возрасте, моя прелесть, ты должна постараться утрясти всё с Гарри; как юрист я скажу тебе одно, как отец – другое, позволь мне сказать тебе как отец: пережив столько больших разочарований, сколько хватило бы на десяток мужчин, могу тебя заверить, что за любовь – а ты знаешь в душе, что она настоящая, —стоит бороться, хотя хорошо мне так говорить сейчас, находясь связанным на плавучем плоту, с которого видно, как дорогие, сохранившиеся в памяти берега ранней, лучшей любви безостановочно отступают в туманы времени». И я пыталась быть хорошей, но я не знаю, просто не знаю: когда я легла в Дарьене с графом Сандерсом, а он держал в руке бокал с вином, я крикнула: «Нет, нет, я хорошая девушка, я правильно воспитана». Это прозвучало так по-детски, но я не знала, что еще сказать. Его плечи были в печеночных пятнах величиной с серебряные доллары, и я плакала как ребенок, думая: «Видел бы меня Гарри думающей о святой Екатерине, об Оресте и Ифигении и ее ноже». «Я жила без отца, – закричала она, – любая дорога может привести к любому концу», – а снаружи машины спокойно ехали по весенним гравийным дорогам, и я слышала, как перекликались под деревьями дети. Я заткнула кнопку будильника и села на край кровати. Голуби взлетели в облаке пыли и перьев. Я подумала о письме зайки, а потом о письме, которое я ему написала, но я вспомнила: я послала его домой, вместо того чтобы в клуб, а почему? Это перепугало меня, но я все равно об этом думала: возможно, она перешлет его ему, а потом – опять-таки, может, и нет. Потом я об этом забыла. Я подошла нагишом к печке и поставила воду для кофе. Теперь на минуту мне стал о лучше, я села у печки на стул и стала смотреть, как от кастрюли поднимается пар, думая, что стало лучше. Дремала, была осторожна, поглядывала, как одноглазый кондор, – боль внутри, вне моего чрева, оставила меня: пилюли держали ее на расстоянии, и я уткнулась лбом в руку и закрыла глаза, слушая, как шипит газ. Теперь появились моа и эму, большие птицы с изогнутыми кулдыкающими шеями и кожей, висящей на ногах, больших, как ходули, и чопорно расхаживали по песку, однако эти, как и другие, птицы не летали, насколько я помнила, и не шумели, и оставляли меня в покое – я чувствовала себя лучше. Было уже почти три часа. Внизу прогрохотал поезд подземки, я включила радио: «Это была большая бомба, – сказал мужчина, – которую бросили вчера: двадцать тысяч тонн, сто тысяч жизней, – а Мальчик-Дикки, находящийся на Филиппинах со своей лодкой, избегнет беды». У Мальчика-Дикки было милое, прелестное лицо, но ум – словно лист бумаги, на котором не написано ни единого глубокомысленного слова, и он не мог его придумать, но на реке было так красиво, и я подумала – не ошиблась ли я; что-то расцветало, как время, в моей душе, и я была снова ребенком, и Мальчик-Дикки водил меня по пляжу, и мы собирали ракушки; на Раппаханноке заря появлялась красная, и я помню: у меня пошла кровь, и я отправилась в ванную привести себя в порядок. Это был мой последний раз. Я вымыла лицо и причесала мои чудесные волосы – ведь я должна быть красивой для Гарри: он побранит меня за забывчивость. «Тебе всегда чего-то не хватает, дорогая, – сказал бы он. – В чем дело – ты что, совсем не думаешь о завтрашнем дне?» Или: «Хватит уже, я вовсе не придираюсь к тебе, но неужели я прошу тебя, я прошу тебя слишком о многом, чтобы ты почистила под кроватью?» Или: «Говорят, ревность – самое подлое из чувств, но как отнестись к великой сегодняшней идее?» Это больше всего меня задело, и я подумала: «Будь проклят Гарри, будь он проклят», – и перестала причесываться, поскольку разозлилась, не пойду я, несмотря на все решения, принятые накануне вечером. Я считала, что ты только что вернулся ко мне, а тут… разум, словно электричество, включился в моем мозгу, задрожали крылья, по песку полетели птицы – быстро, словно их несло ураганом к горизонту, и я улыбнулась себе в зеркале, на минуту почувствовав себя хорошо и такой пристойной. «Ведь это ты всегда так горько жаловалась, – сказал он, – до того как мы поженились. Жаловалась на то и на это. На то, что я пренебрегаю тобой и как я тебя игнорирую, чего, – и он ударил в свою руку кулаком, – никогда не было. А теперь это. Кто из нас теперь дегенерирует? Кто вскипел?» Это больше всего обидело – тогда, – когда он это сказал, потому что он был прав, но он не знал моего плана насчет часов, я не могла сказать ему это – тогда, – я не хотела, меня бесило то, что он прав, и когда я легла в Дарьене с Эрлом Сандерсом, я была под ним и весь день потела; я могла видеть свет сквозь фальшивые окна замка – зеленый миллион листьев, и я укусила Эрла за ухо, представляя себе, что это Гарри, которого я возненавидела, так что он вскрикнул – мне это понравилось, потому что кусался-то Гарри. Когда все кончилось, Эрл включил симфонию; тут я услышала, как дети перекликались под деревьями, и подумала о Моцарте, умиравшем под дождем. Я положила щетку назад в шкафчик – Гарри сочтет меня красивой. Но я знала, что не должна думать об Эрле Сандерсе: на меня нападает грусть, и я попадаю в тупик по поводу Гарри, а кроме того, вернулись птицы и немного потемнело – казалось, день померк и птицы разбежались по потемневшему песку, снова окружили меня в ванной, за сбивающим с толку зеркалом. Я выключила свет и стала одеваться, неохотно – надо было мне подождать и потом причесываться. Кофе мой остыл, но я его все равно выпила и съела пончик. Бабушка тоже пекла пончики, говорил зайка, – как бы мне хотелось увидеть ее и залезть к ней на колени. Затем я вымыла чашку и два блюдца: Гарри это понравится, когда он вечером вернется домой, – он любит, чтобы все было чистое; я ему покажу. Я прошлась по комнате, приводя все в порядок, вытерла пыль с книжного шкафа, и с книг, и с полок. Он забрал все свои картины, кроме одной – меня. «Зеленоглазая, красивая, в стиле Ренуара, но лучше», – сказал он. Это было два года назад. Я старательно смахнула пыль, посмотрела на мои глаза – они были нежные, как и я, наверное, тогда, и он не взял портрет, потому что не хотел вспоминать меня такой. «Слишком, черт побери, больно, – сказал он, – видеть такое живое существо на полотне, когда ты знаешь, что оно все еще живет вдали от тебя, потерянное и испорченное». Я пыталась рассказать ему про часы – неужели он не видит? Но он сказал, что я пьяна и развращена. «Я пытался изо всех моих сил помочь тебе, Пейтон. Но ничего больше сделать я не могу». Я посмотрела на мои глаза: свет в них прошел, как проходит утро. Я протерла их тряпочкой, и пыль на них была чистая. «Нагасаки», – сказал мужчина и стал говорить о грибах и мистере Трумэне; «в воздухе всюду атомы», – сказал он и начал объяснять, но я мало что понимала. Мои глаза стали чистыми, они были, как я запомнила, шарообразными от медленно или быстро распадающихся атомов; я вижу солнца, я вижу, как образуются горные системы. У Лукреция, говорил Гарри, сердце было такое большое, как все дворы вместе взятые, но и он тоже – как все империи, страны и моря, – он тоже, как и они, стремительно полетел в вечный дрейф. Я знала, что мне надо уйти оттуда – там было жарко, я чувствовала, как пот катится у меня по спине. Я вычистила пепельницы с помощью бумажной салфетки и аккуратно поставила их в раковину. Далеко внизу, в вентиляционной шахте, раздался голос, звучный и сицилийский, женский, насыщенный, как мандариновый сок: «Ви-то!» «То-то», – подхватило эхо и понесло вверх, к закрытым окнам, мимо трещин и холодных, перепачканных в саже кирпичей, растрескавшихся, замерзших окон ванных комнат, дренажных труб, и радиопроводов, и стен. «Ви-то!» Стало тихо, мимо проехал грузовик; я подумала: «Кто этот Вито?». Я бросила бумажку от пончика в мусорное ведро, включила радио: симфония conzertante[30]30
Концертная (ит.).
[Закрыть], как нечто упорядоченное и надлежащее, и пришедшее с другой земли, утра, созданные невидимыми мужчинами, и дальняя фантастическая заря, но все не очень ясно. А на другой станции были негры, далекие, еле слышные и забиваемые фантастическими флейтами, и гобоями, и восходящими звуками струнных: «Исцели их, Иисусе, исцели их!» – и отдаленное «аллилуйя», голос и абсолютная тишина, как негритянская церковь в залитой солнцем, убогой рощице. «Исцели их, Иисусе!» Я выключила радио: мне был дан знак или что-то, и я устала, несмотря на то что столько спала; боль ожила, вернулась в мое чрево, но это было лишь, всего лишь что-то непонятное. Комната выглядела чистой, и это понравится Гарри. Я подошла к двери, но вспомнила – вернулась к подоконнику и взяла часы. Я обхватила их ладонями, глядя на точечки и стрелки, которые блестели яркой зеленью в темноте; «мы были неправильно воспитаны, – думала я, заглядывая в дырочку будильника, – там, в солнечном гроте, мы могли бы приходить в экстаз среди болтов, и пружинок, и запрограммированных тикающих колесиков, вечно нацеленных на мир». Гарри они бы понравились – он любит рубины и дорожит ими; в этом свете они блестели бы как красные шапочки брейгелевских танцовщиц. Мне слышно было спокойное и равномерное тиканье, я приложила их ближе к уху, чтобы послушать эту тикающую, неуместную, искусную гармонию – идеально упорядоченную, цельную. Потом я взяла часы и положила в сумку. Я открыла дверь и вышла в коридор; здесь пахло кухней – спагетти и острый чеснок, – но день снова затянуло тенью, по вентиляционной шахте загрохотала жестяная банка, и по стенам, словно чаща из лоз, спустилась темнота – я посмотрела, как потемнели мои руки, и слегка вздрогнула, подумав о доме, однако я знала, что и об этом я не должна думать. Я закрыла дверь, услышала шуршанье: они, видно, последовали за мной, эти нелетающие птицы, которых я не могла увидеть, шуршащие крыльями и спокойные, с немигающими глазами; они перелетали через пески, мирно и без угрозы, ероша свои немые перья, – мне хотелось плакать. Этого не должно быть. И вот я пошла вниз по лестнице, думая не о доме, а снова о бабушке: она закладывала табак за губу.
– Ты собираешься платить за квартиру? – спросила миссис Марсикано внизу лестницы.
– Я заплачу, миссис Марсикано, – сказала я.
Я улыбнулась ей. У нее были усики и две родинки, и от нее пахло кислятиной и тухлятиной, как от сырой, начинающей портиться телятины.
– Я сейчас как раз иду к мистеру Миллеру. Мы вернемся вечером. Он возвращается в квартиру, и он заплатит…
Но она сказала:
– Ты мне все время это говоришь. Чему я должна верить? Мистер Миллер… его нет уже два месяца. А ты все время говоришь, что он заплатит. Откуда же мне знать? Чек, который ты дала, мне не оплатили, а ты должна мне сто восемьдесят долларов…
– Мы вам заплатим, – сказала я, продолжая улыбаться ей. – Не волнуйтесь, миссис Марсикано, я вам дам хороший чек…
Но она сказала:
– А-а, меня от тебя тошнит, – и, повернувшись, пошла вразвалку, почесывая руки, а ее собака-дворняга, черная, с глазами с красной каемкой, подняла ногу и написала на ступени.
Я слышала, как миссис Марсикано протопала по коридору, видела, как она исчезла в темноте, и собака скрылась за ней. Она была права, и я это понимала, и птицы где-то шебуршились в коридоре – я послушала, как они шумят, но я знала, что Гарри позаботится обо мне. Я ни минуты не могла подумать, что так будет – ведь в банке полно денег, моих денег, а потом я вспомнила: все, что зайка прислал мне ко дню рождения, я истратила, и я вспомнила, что купила фонограф, и все пластинки, и часы «Бенрус», – в моей утробе полно ценностей и все в сохранности, и стоило мне это тридцать девять долларов девяносто пять центов. Слишком дорого для часов, но я знала, что это хорошие часы и красивые, с изящными стрелками; в какой-то пьесе кто-то сказал: «похабная стрелка часов указывает на полдень». Я заглянула в сумку: Гарри был прав. Однажды он спросил меня, кто лишил меня невинности, и я сказала: «Велосипедное седло по имени Мальчик-Дикки». Когда мы легли в тот день, я услышала во сне, как пел Папагено, и мне снились люди, танцующие на зеленом фантастическом лугу, и песок, и пирамиды; тогда мне впервые приснились птицы – они степенно пролетели над песком, и когда мы проснулись, Мальчик-Дикки не мог этого понять. Я посмотрела – часы были в порядке. Я прошла по коридору и вышла на тротуар. Волна жары поднялась с асфальта, виден был ее дымящийся и прозрачный след на жилых зданиях, и она потом прилепила платье к моей спине. Чарлз Марсикано был дурак, и он смотрел на меня своими глупыми глазами, и лицо у него было потное, словно смазанное жиром. Губы у него были всегда раскрыты, они облупились и потрескались, и он спросил:
– Куда это ты отправилась, Пейтон?
– Я пошла на Корнелия-стрит, Чарлз, – сказала я.
– Зачем, Пейтон?
– Найти Гарри, – сказала я.
– Хочешь, чтобы я забрал твой мусор, Пейтон?
– Нет, спасибо, Чарлз, – сказала я, – подождем до понедельника.
– О’кей, Пейтон.
Я ушла, оставив его стоять у ведра с водой, потея от жары и солнца, играя с чертиком на ниточке. У него глаза были как у Моди, а доктор Страссмен в Ньюарке сказал: «Спокойно. Спокойно. Мы должны это вместе выработать». Но: «Я не думаю, чтобы вы мне нравились», – сказала я. Помещение, как я и представляла себе, было антисептически, терапевтически чистое, с металлическими венецианскими ставнями, и у доктора Страссмена нос был красный от холода. «Но, понимаете, я считаю, что я умнее вас», – сказала я. «Возможно, но вы безусловно менее целенаправленны», – сказал он. «Возможно, – сказала я, – ноя, безусловно, больше понимаю причину моего состояния». – «Возможно, это и так». – «Возможно, это и так». Какое-то время мы так переговаривались, а потом он сказал: «Я хотел бы, чтобы вы не бросали лечение. Я хотел бы, чтобы у вас было больше терпения…», – а потом я забыла, что он говорил. Потом он сказал: «Дело не в том, что вы чувствуете себя виноватой по поводу сестры, это что-то другое, с нею не связанное». Когда я дала Моди упасть, я увидела, как синяк стал сине-зеленым, с крошечными порванными венами, но она не сильно плакала. Однажды зайка и я пошли погулять с Моди и стали спорить по поводу птиц. «Это дрозд», – сказала я ему, а он сказал: «Пересмешник». Птица лежала мертвая, и глаза ее были закрыты – ее подстрелил мальчишка из ружья, – Моди подняла птицу и стала гладить ее крылья. Страссмен сказал, что я неоткровенна и все путаю: «Вы опасно рассеяны, но что там такое было с птицами?» Он заинтересовался, а я не захотела ему говорить. Я шла по авеню, тени от зданий ложились на восток, и я шагала по этим теням, держа у сердца сумку и часы. «Вы слышали про бомбу?» – сказал какой-то парень и с криком помчался в кафе, где старый итальянец, парализованный и бледный, продавал лимонный лед. Мы каждое воскресенье вечером пили там эспрессо – тогда не было часов или необходимости в них; стены были голые, стулья железные, и Гарри цитировал Данте по-английски: «Теперь послушай, какой любви удостоена она» (глядя в мои глаза). Я сама видела, как он должным образом склонялся над неподвижным, дорогим мертвецом и часто устремлял взор в небо, ибо теперь там сидит любовь, которая (когда в ней теплилась жизнь) сосредоточивала внимание на радостной исчезавшей красоте. Благословенная Беатриче. И я сказала: «Пророчество?» И Гарри взял мою руку, а итальянец подошел вытереть парализованной рукой пролитое эспрессо, и Гарри сказал: «Ты никогда не умрешь, ты любовь, которая движет солнцем и всеми звездами». А я думала о смерти и бездеятельности, и я отняла у него руку, и мне показалось, что я услышала за стенами спокойный, мирный шелест нелетящих крыльев. Почему Гарри сказал, что я не могу любить? Он должен знать про мои часы; я вошла под тент над кафе и вынула их из сумки, приподняв к свету.
– Почему ты так смотришь на эти часы?! – сказал маленький мальчик. Лицо у него было перепачкано сажей, с влажными желтыми полосами от лимонного льда.
– Потому что я только что купила их, – сказала я, – и они красивые.
– И сколько тебе это стоило?
– Двадцать девять девяносто пять, – сказала я, – включая федеральный налог.
– А где ты их взяла? – спросил он.
– В «Мэйси», – сказала я.
– А моя мама… – произнес он, но я уже не слушала: похоже, свет не проникал, как надо, в дырочку. В конце концов, возможно, там стало темно, как смена дня и ночи – то светло, а то темно; мы тоже увидим сумерки и зарю, лежа в полудреме на пружинах, темнота вокруг нас будет чернее черного угля, и мы будем пошевеливаться и дремать, и держаться за руки поверх постоянно тикающих, сверкающих колесиков. Ночью света не будет, поэтому вибрация колесиков зазвучат громче, более успокоительно, убаюкивая нас; заря даст красный солнечный свет и голубое небо, и Гарри поцелуем разбудит меня. Может, у нас там будут дети; он сказал: «В твоем состоянии ты не только не хочешь ничего естественного – ты полностью все отрицаешь. Хорошо, не будем иметь детей», – но я подумала, что все-таки надо, и когда я пошла к тому доктору на Саттон-плейс, он воткнул в меня трубку с теплым светом. Он был венгром, и когда я скорчилась, потому что мне было жарко от трубки, он сказал: «Щекотно? Все в порядке, мы только обследуем». И он продолжил обследование, и мне было так горячо – я еле терпела, глядя на напудренное лицо венгра и его пушистые усы, и его надменную породистую физиономию, – тут птицы зашуршали на песке, расставив ноги, накренив шеи, глаза – круглые, немигающие, нелюбопытные, а я лежала где-то в придуманной мною пустыне – только это был его диван, и он держал мою руку, а я дрожала от страха и чувства вины и сказала: «Все в порядке, не чувствуйте себя пристыженным, это просто коварный маленький инструмент». Я положила часы назад в сумку – только на этот раз горизонтально, под зеленый шелковый платок. Из решетки, прикрывающей подземку, вырвался клуб дыма, пахнущего серой, обжигающего, необъяснимого. Я подумала: «Что-то умирает». И я смотрела, как вырывается из решетки дым, а маленький мальчик бежит сквозь него прочь, оставляя позади себя брызги лимонного льда. Вдалеке раздался звон колоколов, напоминая мне о доме, ноя знала, что я никогда не должна думать о нем. Я пошла вверх по авеню, глядя вниз и волоча ноги, в общем, думая ни о чем – это было очень трудно. В воздухе летали чайки и, несмотря на жару, чувствовался запах моря; я увидела, как чайки свернули на юг, к реке – у одной изо рта выпала рыбина; чайки продолжали лететь. Мне захотелось выпить, и я подумала, что надо зайти в бар; потом я почувствовала, что не просто хочу выпить, и поняла, что хочу выпить больше одного бокала. Но если я выпью больше одного, я снова начну тонуть – здесь, в жаре, и жара, а также то, что я выпью, захлестнет меня грозно, как морская волна, но я буду погружаться медленно, жутко в утепляющий день, как осьминог в водоем. Тогда я подумала очень решительно: «Я не должна, я не должна», – чтобы избежать чувства, будто я тону, а также из-за Гарри: он должен видеть меня такой, какая я есть, – трезвой, веселой, достойной уважения и любви. И «я не должна», думала я, проходя мимо театра – «Внутри на 20° холоднее», – возвещал голубой плакат с айсбергами, уютно устроившись в кассе с кондиционированным воздухом и холодно, мечтательно глядя на жару, словно орхидея в холодильнике цветочницы. «Я не должна», но на вывеске значилось: «БАР», – и я открыла дверь. Из нее вышли два цветных парня, неся деревянную доску; я услышала внутри стук молотка и, отступив в сторону, прошла мимо цветных парней.
– Этот дядька вечно посылает меня куда-то среди дня, когда солнце, – сказал один из них; он улыбался, и у него были усы цвета его кожи.
Я чувствовала его запах – острый, как от дикого лука, растущего в тени; мне хотелось до него дотронуться. Она всегда говорила, что я никогда не должна звать их «дамы», а надо говорить «женщины», и когда мы с зайкой возили стирку к Ла-Рут, в сумеречной пыли копошились цыплята, и я чувствовала этот запах, глядя на двоих бедолаг, – у них была синеватая кожа, и я подумала, как странно они будут выглядеть на фотографии. Дверь закрылась, другая открылась, и я оказалась в баре, где было не на двадцать градусов прохладнее, а на тридцать или сорок, и я чихнула, и пот исчез с моей спины. Бар был почти пуст. От холода меня проняла дрожь, я снова чихнула, но бармен с лицом форели ничего не сказал, вытирая бар.
– Сухое мартини, пожалуйста, – сказала я.
Я села на красный кожаный табурет, который пошатывался. Молотком работали где-то внутри; я чувствовала запах джина. По радио говорили про бомбу, но я не слушала, – подумала, может, дадут музыку: «Schlage doch, genunschte Stunde»[31]31
Спи, божественный час (нем.).
[Закрыть], где голос взмывает все выше и выше, трагический, как ночь без звезд, – так Гарри и я… я нащупала часы в сумке, провела по ним, лежавшим у меня на коленях, пальцами, по нужным кнопкам и рычажкам. И я подумала: «Неужели нет таких часов, чтобы можно было завести навечно? Что, если мы задремлем среди пружин, колесиков, винтиков и рычажков, и все они встанут, остановятся, – тогда наше чрево будет убито, мы услышим роковую тишину, страшное трепыхание и рывок на восток, вместо того чтобы ввысь». Потом я посмотрела на свое лицо в дрожащем мартини, а тут появился солдат и сел рядом со мной. «Не тони, – подумала я, – это в прошлом». И он сказал:








