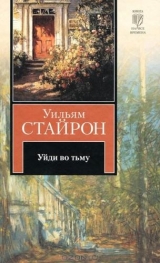
Текст книги "Уйди во тьму"
Автор книги: Уильям Стайрон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
– Ничего, – сказала я, – я просто читала записку.
– А-а, да, понимаю. – Он пожевал свою трубку, сосредоточенно глядя на меня.
– Я охотилась за Гарри, но он уехал, – сказала я.
– А-а, да. – Он вытащил большой льняной платок. – У вас все лицо в саже. И в слезах. Томми вытрет. – Он стал вытирать мне лицо, что-то напевая, от него пахло табаком. – Теперь все в порядке. Как насчет того, чтобы выпить у меня? Вы сможете там подождать Гарри.
– Нет, благодарю вас, Томми, – сказала я. – Я должна прямо сейчас пойти отыскать его. Он уехал с Ленни.
– Дорогая плутишка, вы считаете, что вам стало лучше? Выглядите вы, знаете ли, совсем разбитой. Что вы такого натворили? Пойдемте со мной…
– Нет, – сказала я, – спасибо, Томми. Мне надо найти его. – Я пошла назад по вестибюлю мимо почтовых ящиков, держа сумку у груди, наблюдая за ним: трубка была теперь у него в руке, брови подняты, на губах улыбка, вид озадаченный и озабоченный. Он вытянул костлявую руку.
– Дорогая плутишка…
Но я потянула на себя дверь и вышла на улицу. Жара стояла в воздухе словно горящее пламя. Дети и их мать ушли. Голуби ворковали и шебуршили на крышах. Мимо, пошатываясь, прошел старик итальянец, согнувшись под тяжестью кресла, охая, потея; дальше по улице взорвался фонтаном серебряной воды водоразборный кран, и трое мальчишек в шортах резвились, прыгая туда-сюда, впрыгивали под серебряную струю и отскакивали точно ловкие коричневые пчелы. Пронзительные крики разрезали воздух, а над головой рокотал самолет, но на остальной части улицы было тихо. Мимо медленно проехало такси – я подняла руку. Шофер протянулся назад и открыл мне дверцу, и я сказала: «Сорок, Вашингтон-Мьюз». Я положила сумку рядом с собой на сиденье, придерживая ее пальцами. За запыленным стеклом значилась его фамилия: Стэнли Козицки, 6808, – и он проговорил:
– По радио сказали, что бомба мигом закончит войну.
Я промолчала. Я вынула компактную пудру и запудрила следы слез, потом накрасила губы.
– Я воевал в Первую мировую войну. Во Франции. В Аргонне – Белло Вуд, Шедоу Терри. Знаешь, сколько раз я был ранен? Попробуй угадать.
– Я не знаю, – сказала я. – А сколько раз?
– Попробуй угадать, – сказал он.
– О-о, – сказала я, – три раза.
Я посмотрела в окошко: мы были на авеню – остановились у светофора, и я стала смотреть на тех, кто переходил улицу: парень из «Вестерн юнион», распихивающий соседей; двойняшки в детской коляске и их мать, пьющая коку; еврейка лет пятидесяти – шестидесяти с красными румянами и зеленой вуалеткой, толстой, как рыболовецкая сеть, – у нее был страдальческий вид, а за всеми ними, потевшими, включая вялых, зажаренных солнцем двойняшек, тащились две лесбиянки в брюках, чьи грубые унылые голоса громко звучали в удушливом воздухе. Вспыхнул зеленый свет, мы поехали дальше. Он сказал:
– Три раза! Попробуй угадать еще.
– Два, – сказала я.
– Четыре раза, – сказал он, – больше, чем кто-либо в моем подразделении.
– Это лихо, – сказала я.
– Я все видел, – сказал он. – Аргонну, Белло Вуд, Шедоу Терри. И начал-то я рядовым. Догадайся, кем кончил?
– Я не знаю, – сказала я.
– Догадайся.
– О, – сказала я, – майором.
За его ушами сквозь щетину седых волос пробились капельки пота.
– Майором! Гадай дальше.
– О, – сказала я, – не знаю. Капитаном?
– Капитаном! Не-а. Старшим сержантом. Я пришел в армию рядовым и получил звание выше всех, с кем я поступил в подразделение.
Я не могла думать. Я устала молиться и плакать тоже, и мне было стыдно, что Томми Гивингс видел меня в таком виде; почему, когда я думаю о молитве, я думаю о доме, почему они всегда вместе и мне всегда становится так горько? Так, без единой мысли в голове, я какое-то время ехала по авеню, слушая шофера, довольная тем, что ветерок охладил меня. А шофер говорил о Шедоу Терри, мы проехали Четвертую улицу, и я подумала – эта мысль пришла мне со скоростью света, я поддалась ей: Гарри снова встретит меня у двери Алберта Берджера. «Это я, – скажу я, – я, Пейтон, твоя дорогуша, пришла домой, в мир живых». Ну, будет нерешительность, что только естественно, когда его лицо немного помрачнеет, он покачает головой, но это будет лишь озадаченная прелюдия к улыбке – он возьмет меня за руку, выйдет в коридор. «Действительно мир живых!» – подхватит меня и станет кружить так, что каблуки застучат о стены. «Действительно мир живых!» Возможно, мы не войдем в квартиру – нет, мы не войдем в квартиру Алберта Берджера и его компании пропащих моральных вольнодумцев, как любил говорить Гарри. Нет больше кондиционированного воздуха, сухого мартини, мокрых фрейдистских душ, как любил говорить Гарри. «Пошли отсюда, крошка», – скажет он. И я скажу: «Пошли на траву». И он возьмет машину Ленни, и мы помчимся сквозь сумерки туда, где трава, и деревья, и скалы – возможно, на Лонг-Айленд, в дом его дяди, или в Коннектикут, где есть знакомая нам гостиница. Но сначала часы – в коридоре. И снова, возможно, позже, в темноте: «Милый, я купила нам подарок, слишком дорогой – он стоит тридцать девять долларов девяносто пять центов, но ты не будешь против». Вот так оно и будет: созданное из атомов во вращающейся тьме, среди пружин и драгоценных камней и спокойно действующих, светлых небесных колесиков. Наша кровать стала другой – в ней свернулась пружина, стала мягче пуха одуванчика, укрытая сталью от бог знает чего. Тем не менее мы легли. И мы слышали, как всегда, треск кузнечиков в деревьях в пропахшей сосною, наполненной лягушачьим кваканьем коннектикутской ночи. Это произошло в гостинице, где были мы с Гарри. Однако лежали. И только я знала, что это был совсем не Гарри, и таксист, всматриваясь в меня сквозь зеленые стекла солнечных очков, должно быть, услышал звук, вылетевший из моего горла, поскольку сказал:
– В чем дело, леди?
Только я-то знала, что это был вовсе не Гарри. Я вспомнила, что, когда лежала с Эрлом Сандерсом в Дарьене, во вторую ночь, это было вовсе не в Дарьене, а в гостинице около Торрингтона, и в ночи сильно пахло хвоей и звенели кузнечики; потом он отбросил простыни и сказал: «Детка, а ты в этом деле хороша», – и я ощутила в воздухе запах горящего леса и погладила его мягкую жирную плоть; снизу доносились звуки музыкального автомата: «Сегодня вечером… мы… ЛЮБИМ (пока светит луна)», – затем в моей тонущей душе торжественно запрыгали по поляне птицы, и их перья, хоть они и не летели, шуршали вечером, но издавали звук холодный, капризный, как стрекот кузнечиков. «Как долго, о Боже, будешь ты таить себя?»
– Что с вами, леди, вы больны? Вы трясетесь как лист.
Я посмотрела прямо в его стеклянные глаза.
– Помните, что коротко мое время, – сказала я.
– Хотите, чтобы я остановился у аптеки? У вас такой вид, будто у вас колики, – сказал он.
– Нет, все в порядке, – сказала я. – Я в порядке. Просто у меня мало времени.
Он сделал крюк, объезжая автобус, и свернул на Восьмую улицу.
– Не волнуйтесь ни чуточки, – сказал он, – я доставлю вас за две минуты. Точно. – Он положил себе что-то в рот, выплюнул в окошко; в угасающем дне прошли два молодых человека – один с серьгой, оба в шелковых, цвета яри-медянки брюках. «Будет твой гнев гореть как пламя!» Я снова не могла думать, затем мысли нахлынули на меня с шелестом перьев, соскребая что-то – наверно, крылышки кузнечиков. Да. А что, если всего этого просто не было, но он сказал лишь: «Пошла ты к черту». Что, если все так повернулось? Тогда, значит, я никогда не поеду домой, снова на Юг, а только в центр города, как сейчас, – вечно на Север, и он никогда больше не придет. Ничего я тут не могу поделать с тем, что Гарри уйдет; однажды ночью у дяди Эдди в горах – это было летом, и было холодно, и я была наверху одна, – кузнечики пугали меня: она закрыла дверь, запечатав меня в темноте одну, с детской боязнью, – будильник у моей постели зажужжал, ярко засветился ядовито-зеленым, засверкали точечки и стрелки. Тогда я не знала ничего про птиц или про вину, но у меня был только страх, что меня унесет куда-то на крылышках кузнечиков, они будут тыкаться своими мохнатыми мордашками в мое лицо, и их хрупкие, растрескавшиеся когти будут портить мою кожу, а над головой зашумели крылья, унося меня вдаль, и вдаль, и вдаль, в чужую северную ночь; ничего больше я не знала – лишь то, что приземлилась среди скал и дрожащих, недружелюбных папоротников, теряя сознание в темноте, навечное дитя-раба у кузнечиков. Ну и я плакала в постели – беззвучно, боясь позвать (боясь ее гнева), слова застревали у меня в горле. Вместо того я накрыла голову подушкой и посмотрела из-под нее на часы – друга и врача: я знала, что, перестав сознавать, что происходит – перестав видеть эти нехорошие светящиеся точки и стрелки, – я найду мир и покой среди успокоительных колесиков. Однако увы – и я знала, что такое «увы», об этом сказано в книжках сказок, – меня удерживали эти порочные, светящиеся глаза; они не давали мне войти в мои часы, и нарастающий резкий шелест крыльев кузнечиков так пугал меня, что я громко закричала: «Мать, мать, мать». И она явилась в ночной рубашке – такой красивый силуэт на фоне двери. «Стыдись, Пейтон. Стыдись. Стыдись. Стыдись. Стыдись». Дверь закрылась, и я осталась одна. Затем пришел зайка с вечеринки внизу, прокладывая себе путь среди мебели; я чувствовала запах виски и пота у него под мышками; он лег в темноте со мной рядом и стал рассказывать про цирк кузнечиков – их никогда не надо бояться. Потом он заснул, и я положила руку ему на грудь, и чувствовала, как бьется его сердце, и слышала, как он храпит – могла ли быть когда-либо еще такая любовь, как наша?
– Вот что, леди, держитесь-ка вы старика Стэна Косицки, – сказал он, – я знаю этот город как свою ладонь.
И мы снова остановились на углу Пятой авеню у светофора. Мне виден был вход на Мьюз вниз по улице, я захотела выйти.
– Я тут выйду… – начала я.
Но он поднял руку и грандиозно скривил губы, командуя:
– А ну подождите-ка, леди, мы мигом туда доедем. Вид у вас больной. Так что предоставьте все старику Стэну Косицки.
Итак, мы ждали, и я старалась не думать о доме. Но. О, я старалась не думать, – вот если бы Гарри. Итак, мы ждали. Я посмотрела в окошко – день клонился к вечеру, но прохладнее, казалось, не становилось. На углу унылый мужчина, перепачканный чем-то белым, продавал с тележки «Хорошие комиксы»; две маленькие девочки в летних платьицах протягивали мелочь за апельсиновый лед, и женщина в брюках, с острым надменным лицом – совсем как у афганской борзой, которую она держала на поводке, – купила мороженое; она поднесла его собаке, и та мигом проглотила мороженое, подцепив его жадным розовым языком. Уставшие от жары люди медленно передвигались по дню, обмахиваясь газетами, – мне снова захотелось пить, и я подумала о доме. Алберт Берджер сказал: «Конечно, ты от этого страдаешь – ты выдала мне куда больше, чем представляешь себе, моя красавица, – в конце концов (глаза его увлажнились) я ведь изучаю людей: для данного общества, из которого ты происходишь, симптоматично то, что оно производит разрушающуюся семью – а-а, терпение, моя красавица, я знаю: ты скажешь: симптоматично не для этого общества, а для нашего, для машины культуры, однако это архитипично для данного Юга с его канцерогенной религиозностью, его утомительной потребностью ставить манеры выше морали, отрицать все этносы… Считай это наносным в культуре. Еще удивительно, моя красавица, что тебя не заставили трудиться с шести лет, зарабатывая себе на хлеб, как детей некоторых племен». – «Да. Да». Вот что я ответила. Но я помнила траву и чаек.
– Итак, леди, – сказал шофер, останавливая машину перед Мьюз, – старик Стэн Косицки привез вас к месту назначения в целости и сохранности.
Счетчик в последний раз щелкнул, он выключил его, подняв флажок: 0.50. Я порылась в сумке, но насчитала только тридцать центов. Ужас. Это все испортит мне с Гарри, и я помнила, как он сказал перед тем, как у нас действительно пошло все плохо: «Мне неприятно поднимать этот вопрос, дорогая, но ты должна быть более аккуратной с деньгами. Мне неприятно говорить это, дорогая, но это становится частью синдрома вместе с грязью под кроватью. Ты меня понимаешь?»
– У меня только тридцать центов, – сказала я шоферу, и сердце мое так и колотилось – не из-за него, а из-за моего Гарри: что он скажет, когда ему придется расплачиваться? Но тут я сказала: – Но вы подождите минутку – я пойду добуду денег.
– Конечно, леди, старик Стэн Косицки – воплощенное терпение. – Он поднял руку, закурил сигарету и откинулся назад.
Или это было, думала я, сидя на краешке сиденья и беря сумку, или это… Это Страссмен говорил про синдром. «Вы опасно рассеянны, – сказал он и вытер нос. – Вам, знаете ли, нужна моя помощь». – «Фу, да вы спятили», – громко произнесла я.
Шофер повернулся и хихикнул:
– Правильно, леди. Это спятивший мир. Иногда я думаю, не спятил ли старик Стэн Косицки.
– Не вы, – сказала я и вышла из такси. – Одну минутку, – сказала я. И пошла по асфальтовой дорожке к квартире Алберта Берджера – первой двери, выкрашенной белым, с бронзовым фаллическим молотком из Испанского Марокко. На мой звонок тотчас ответил тощий индус, прежде чем я успела подумать. О том, что к двери подойдет Гарри, или о чем-либо другом. Его звали Сирил Какой-то-Там; у него был акцент одновременно балийский и индусский и вечная улыбка, в руке он держал мартини.
– Алло, Пейтон, – сказал он.
– Хелло, Сирил, – сказала я. – Гарри тут?
– Вы это про миистера Гарри Ми-и-лаха?
– Да, – сказала я. – Гарри Милах. Он тут?
Индус с минуту постоял, покачиваясь, глядя на меня и думая, наморщив лоб и выпятив синие губы.
– Не-а, – сказал он. – Боюся, нет.
Я не могла думать; я стояла, глядя на него, потом повернулась боком к авеню и увидела воробьев, слетевших с дерева, – они вынеслись из листвы, как рой ос, пронзительно чирикая, и исчезли за крышей. Автобус проехал на юг, на верхней палубе сидели шесть человек, вбирая в себя солнце, – а я не могла думать. Потом подумала: «Ох, Гарри». Я прижала сумку к груди, наклонила голову, услышала терпеливое, упорное щелканье и жужжание колесиков. Ты… быстро замирающее. Куда же он ушел?
– Почему, Пейтон, почему вы плачете? – с хитринкой спросил меня Сирил.
– Я тону, – сказала я.
– Тонете?
– Нет, – сказала я, – я имею в виду, что не тону. Я имею в виду: я плачу, потому что я так счастлива. Война кончилась, и мы спасли мир для демократии.
– Странная девушка. Не войдете ли? Алберт, знаете ли, задерживается.
– Да.
Я вытерла слезы сумкой и пудру сняла тоже. Я вошла, увидела свое отражение в зеркале в коридоре – полный кошмар. Сирил открыл другую дверь – он слегка пошатывался. Он положил руку мне на талию, легонько подтолкнул вперед.
– Мы так давно не видели вас.
– Я знаю… – начала я, а потом подумала: «Зачем я тут? Ведь Гарри нет». И я повернулась, крепко держа часы. – Нет, правда, Сирил, я не должна заходить сюда.
– А почему нет, могу я спросить? – У него были редкие зубы, и его толстые губы окружали их как большие синие подушки.
Я сказала:
– Потому что его нет здесь.
– Кого? – Он снова озадачен, этакий мистифицированный Восток.
– Гарри, – сказала я, – Гарри!
– А-а, – он хитро посмотрел на меня, – ми-и-стера Гарри Милаха. Ну подождите немного, может, кто-нибудь даст вам информацию.
– Может быть, – сказала я.
Он снова развернул меня и подтолкнул в комнату – кондиционированную морскую пещеру с удушенным болезненным солнечным светом и тьмой, уходящей ввысь, где молочными завитками завивался сигаретный дым, и сквозь темноту ко мне приближался со смесителем для коктейля Алберт Берджер, точно Посейдон со своим трезубцем, обходя кучки камней.
– Ах, Пейтон, – сказал он, – моя красавица, ты вернулась к нам.
– Да, – сказала я, – где Гарри?
– О, дорогая, тебе придется спросить об этом Ленни. Он в кабинете с баронессой де Луайль.
– О-о, – произнесла я.
Он кружил вокруг меня со своей впалой грудью, слезящимися от аллергии глазами, прикрытыми стеклами, с белой, как репа, кожей.
– И Гарри тут нет? – сказала я.
– О, дорогуша, нет. Он уехал почти сразу, как приехал. Что-то у бедняги с работой. Присядь со мной, красавица!
Голос у него был высокий и глухой, бесполый, безвозрастной, почти угасший, как пустой клик металлической птицы.
– Пойдем со мной, моя красотка, – сказал он и взял мою руку пальцами, холодными от смесителя для коктейлей и от чего-то еще, тоже холодного и внутреннего, точно сердце его качало не кровь, а ледяную, темную подземную воду. Так я прошла с ним через комнату, крепко держа свои часы, думая о доме. Я видела в темноте их лица: Дафну Гулд, которая однажды каталась на пони; Марио Фишера, сына миллионера; Дёрка Шумэна, Луи Пески и Шуйлера ван Лира – студентов-антропологов; Пьера Льебовица, богатого торговца цветами, который красит себе волосы; двух негров с тихими голосами, которых я не знала; Памелу Оатс и Лили Дэвис, влюбленных друг в друга; Эдмонию Ловетт, которая однажды чуть не задохнулась в своей ложе; четырех случайно зашедших солдат. Все эти люди мельком взглянули на меня и отвернулись. А мы с Албертом уселись на подоконник; у меня в руке было мартини, а он говорил – я слушала вполуха, смотрела на красивый день, начинавший угасать с последними желтыми лучами; на той стороне узкой улицы крытые шифером крыши домов освещало солнце, а стены были в тени, скоро и щипцы, и птичьи гнезда, и вьющийся плющ будут в тени и в темноте. Облако медленно проплыло на восток, окрашенное розовым, похожее по форме на Африку – на страны, которые я никогда не увижу, далекие берега, вечера с фламинго, желтую чахнущую зарю в джунглях. Я сказала:
– Какой был прелестный день.
А Алберт Берджер сказал:
– Весьма романтический. Ты думала, как раньше, о лесах, и о странах чудес, и о книжках сказок? Думала ли ты о разных немыслимых вещах?
Я сказала:
– Я думала об утрах, каких люди не видели. Я думала об одной далекой фантастической заре… – И на меня накатился спазм, я согнулась, слыша в крутящейся, пронизанной вспышками темноте один-единственный голос, грубый и нахальный, звучавший с пола:
– Малиновский! Как вы можете говорить такое? Старик Бронислав?
Я прижала сумку и часы к животу, стараясь вытолкнуть пульсирующую боль – более сильную на этот раз, чем когда-либо прежде; я прикусила язык. Она прошла.
– Извини, – сказала я. – Мне надо быть дома. – Я выпрямилась, глядя не на Алберта Берджера, а на улицу, на солнце.
– Бедная красотка, – сказал он, – даже самым прелестным приходится нести двенадцатиричное бесчестье, волноваться, занимаясь черной работой. Следует мне написать книжку сонетов о бедных пропащих красотках: возможно, Клеопатра воспользовалась шариком из толченых роз, и я подозреваю, что Елена…
Но я не могла его слушать; я смотрела на солнечный свет, думала о Гарри: сначала Елена, потом блаженная Беатриче, милая Елена, поцелуй меня и сделай бессмертной; однажды я пряталась под розовым кустом возле кухни. Это было тоже летом, и я слышала пение Эллы в кладовке и неумолчное жужжание пчел; потом я увидела, как вода потекла по земле подо мной – целая речка текла в сад, и Элен схватила меня на руки среди запаха роз: «Ты не должна так, не должна так, неужели ты не можешь быть чистой. Бог наказывает нечистоплотных детей». Я чувствовала запах роз и слышала, как жужжат на жаре пчелы; потом пришел зайка, и мы сели на дамбу, и он стал читать мне Джеймса Моррисона Уэзерби…
– Так что жизнь, должно быть, трудная штука, красотка, – сказал Алберт Берджер.
– Что не так? – сказала я.
– Что? – спросил он – его кожа на солнечном свете становилась все бледнее и бледнее.
– Что не так? – сказала я.
– Дорогая девочка, – сказал он, – какой же у тебя, должно быть, ленивый, блуждающий ум. Я не говорил: что-то не так, – я сказал: трудная.
– О-о, – произнесла я.
– Я сказал: тебе должно быть трудно?
– Что трудно? – спросила я.
– Жить в этом тревожном мире, оставшись сейчас одной, без настоящей интеллектуальной поддержки, которая успокаивала бы твой мозг. Ты слышала про бомбу?
– Да, – сказала я.
Он откинулся на стуле и издал слабый бесполый смешок.
– Чокнутый! – произнес он. – Победа человека. Я предсказывал это многие месяцы. Луису и Шуйлеру. Сейчас они потрясены, такие милые мальчики, но с головой у них слабовато; упрямые, сидят спокойно в своей социальной антропологии – учти: социальной; наука так забита боковыми отростками, что становится похожей на волосы Медузы – не желает принимать в свою среду исторический детерминизм, трагичный для умов неогуманистов; может, мне следует воспользоваться твоим словом и назвать исторический детерминизм уместным? Они даже не в состоянии признать чистый факт во всей его красоте. Победа человека! И вот теперь по кровавой каше шагают дети Японии… и тем не менее… и тем не менее… – Глаза его увлажнились, он изящно глотнул мартини. – И тем не менее, – продолжил он неожиданно грустным тоном, – даже Луис и Шуйлер, они не обязаны соглашаться. Мой взгляд на Вселенную жесткий и грубый. Каждым актом сотворения – будь это оргазм простейшего уличного мусорщика или взрыв атомов – человек отдает себя циклу эволюции: под этим я подразумеваю смерть – ледяную, жестокую и окончательную. Таким образом, не прошу тебя больше, моя красавица, верить вместе со мной, что зло в человеке красиво и предопределено. В обществе – я католик, и у меня самый толерантный ум. А ты, моя красавица, оставайся, какая ты есть, на своей земле, где Иисус, хныкая, осторожно ведет Винни-Пуха по дорожке, обсаженной сливовыми деревьями в цвету. Ты всегда будешь… ой, красотка, да у тебя же слезы в твоих больших карих глазах.
– Да, – сказала я, – помни, как коротко мое время.
Он положил свою руку на мою, словно какой-то полип из арктического моря.
– О Господи, – сказал он, – мне очень жаль. Правда, Пейтон, мне очень жаль. Могу я что-нибудь сделать?
Я заглянула в сумку, чтобы вытереть чем-то нос, увидела часы, поспешила их накрыть. Алберт Берджер протянул мне платок – я высморкалась; молодой парень, откинувшись на ковер, выкатил глаза на одного из солдат. «Но понимаешь, – услышала я, – я рад, что стал гомосексуалистом. У меня идеальные отношения с Анджело – ну просто идеальные».
– Да, – сказала я Алберту Берджеру, – ты можешь сказать мне, где Гарри. Вот чем ты можешь мне помочь.
– Красавица. Ты такое потерявшееся дитя. Ты хочешь вернуть Гарри, да?
Я сказала:
– Да. Да. О да.
Он хихикнул.
– Такая храбрая новоиспеченная девица. Ты многого хочешь. Могу я высказать предположение – об этом мне рассказал, конечно, не Гарри, а крошка Лора, которая наконец склонила меня предложить тебе это, – так вот, могу я предложить тебе освободить свой дом от молочников, как ты могла бы освободить его от тараканов, тогда, я не сомневаюсь, твой Гарри займет другую позицию. Ведь Гарри такой замечательный малый, у меня были такие надежды…
«Нет», – подумала я. В другом конце комнаты Эдмония Ловетт, кряжистая женщина в зимнем твиде, тяжело поднялась на ноги, поправила свои крашеные хной волосы.
– Почему он встречается с ней, – пронзительным голосом произнесла она, – когда он может встречаться с дамой, прошедшей психоанализ, как я, которая может достичь климакса?
Я видела, как она, пошатываясь, подошла к фонографу, поставила пластинку – блюз «Ванг-Ванг», но наблюдала я за ней с минуту сквозь воду, мое потопление, подводный погреб, какие-то карлики на полу, и все залито прозрачным, водянистым светом. Голоса звучали словно со дна моря: Алберт Берджер сказал, что я должна изгнать своих молочников, но ведь он не знал, да и не мог слышать, как я, где-то в занавесях за моей спиной суету и шебуршение нелетящих крыльев. Алберт Берджер, должна сказать, неужели ты так и не узнаешь, каково это – лежать в чужой постели с чужим человеком и в чужой стране; нет никакой угрозы в том, как они передвигаются, с такой опаской – они шагают по потемневшему песку на упругих ногах, вытянув шею, величественные и царственные, взъерошив свои прелестные перья. Так что, даже прижав к себе его жаркую, недружелюбную плоть, ты не можешь найти покоя на заре, а крепко смыкаешь веки, чувствуешь его Христофора на своей груди, но даже и тогда они преследуют тебя по поляне, нелюбопытные и скучающие, словно короли в перьях. Алберт Берджер, о Господи! Я готова громко запротестовать: я что, не знаю собственных мучений и злоупотреблений мной? Сколько раз я ложилась и грешила из мести, говоря: «Значит, он не любит меня, а вот тут, который любит», – потом засыпала, и мне снились птицы, а потом просыпалась, открывала один глаз на знойную безрадостную зарю и думала: «Моя жизнь не знала отца, любая дорога может привести к любому концу»; думала о доме. Я не стану молиться полипу или медузе, как не стану молиться и Иисусу Христу и лишь той части меня, которая была неиспорченной, а теперь утрачена, когда он и я ходили по берегу моря в направлении Хамптона и собирали ракушки. Однажды он обнял меня и дал мне выпить пива, и я услышала ее голос из-за мимоз: «Позор, позор, позор».
– Стыдно, красавица, – сказал Алберт Берджер со ртом, полным мартини. – Почему ты так терзаешь этого чудесного парня? Страссмен сказал только, что у тебя опасная рассеянность или же ты психогенетически не способна быть сексуально верной…
– Замолчи-ка, – сказала я.
Он причудливо поднял вверх палец, этакий бледный Ишабод Крейн, готовящийся произнести речь, но тут появился Ленни, в рубашке с рукавами, закатанными на его красноватых загорелых руках.
– Привет, милочка, – любезно произнес он. – В чем дело? Ты выглядишь совсем паршиво.
– Ленни, скажи мне, пожалуйста, где Гарри, пожалуйста.
Я взяла его за пальцы, моя сумка упала на пол со страшным лязгом – я увидела сквозь воду вытаращенные глаза – они настороженно, как испуганная пучеглазая рыба, смотрели на меня с пола сквозь кольца дыма, тянувшиеся словно морские водоросли. Будильник, однако, зазвонил, хоть и заглушенный сумкой, но громко. Я потянулась к нему, услышав в комнате медленно нараставший смех. Тут я нашла кнопку и выключила звон. Ленни, рассмеявшись, сел рядом со мной.
– Что там у тебя, лапочка? – спросил он. – Мина с часовым механизмом?
– Нет, – сказала я, – часы. Для Гарри и для меня. Это подарок.
– О, – произнес он. Улыбка исчезла; он по-доброму, но с подозрением посмотрел на меня. – Ты собираешься подарить это ему сегодня, Пейтон? – спросил он.
– Да, – сказала я. – Скажи мне, Ленни, где он. Пожалуйста, скажи.
По комнате прокатился смех, затем затих; лица в очках с интересом смотрели на меня. Кто-то прошептал. Кто-то сказал: «Бог мой», – глядя на меня, – те, у кого нет Бога или есть меньше моего, кто автоматически не молится или молится меньше, чем я, кто живет в стране, которой я никогда не увижу снова. Алберт Берджер передвинулся от меня по воде.
– Послушай, Пейтон, – сказал Ленни. – Почему бы тебе не переехать на Корнелия-стрит и не пожить немного с Лорой? Ты выглядишь безусловно ужасно. Что ты делала? Судя по виду, ты будто две недели пила! – Он помолчал. – Я обещал Гарри, что не скажу. Все так просто. Пойди поживи с Лорой…
– Нет, – сказала я, дернув его за рукав. – Нет, Ленни, пожалуйста, скажи мне, где он. Пожалуйста, скажи.
– Я не могу.
– Пожалуйста, скажи.
– Я не могу. У тебя такой вид, точно тебе необходимо поесть. Пойди скажи Лоре, что я велел приготовить яичницу с беконом…
– Но Лора меня больше не любит, – сказала я, – так что я не могу.
– Она действительно тебя не любит, – сказал Ленни. – Она просто разочаровалась в тебе, и ты раздражаешь ее, как всех…
– Ох нет, – сказала я, но нет, нет, даже Ленни, он не понимает. Так что я скажу Ленни: «Подожди, я расскажу тебе о страдании». – Мне жаль, Ленни, что я такое наделала, сегодня я пытаюсь очиститься от молочника и от моей вины. – Неужели он не понимает? Но я сказала: – Прошу тебя, Ленни, я тону.
Он взял меня за руку и заглянул в мои глаза – это был разочарованный взгляд, сверхраздраженный, но не полный отвращения.
– Пейтон, честное слово, пожалуйста, не устраивай нам сегодня все снова. Право же, Пейтон…
– Но я тут, Ленни, – сказала я.
– Ты можешь винить его, – спросил он, – действительно можешь его винить? Да он сделал для тебя все, что мог. Он чуть не заболел от волнения, он похудел, он чуть не сломался. Всякий раз, как ты возвращалась, он выслушивал тебя, соглашался с тобой. Потом ты начинала все сначала – со своими поддельными чеками, со своим Тони или с этим малым – Сандерсом. Ты даже не держалась за Страссмена. И самое ужасное, Пейтон, – то, что несмотря на все, что ты творила, он по-прежнему любит тебя. Но он просто не может больше это выносить…
Ленни всегда первым все понимал, но сейчас он не понимает, а я не могу рассказать ему все, причину; когда я легла в Дарьене с Эрлом Сандерсом, мне это было неприятно – на террасе, лежа на том одеяле, я почти не слышала раздутые, шуршащие крылья, поскольку меня волновало другое: я жалела, что так наказываю Гарри за его совсем маленький проступок, а там пахло краской перил на террасе, и я думала о давно минувших летах. Однажды мы спустились вниз – туда, где на берегу красили лодку: я помню руку зайки и то, как песок забирался между пальцами моих ног, – краска была химическая и раскаленная на жарком летнем воздухе, а в море купальщики, и чайки летают в слепящей голубизне. Он тогда сжал мою руку, и я подумала: «Я запомню это навсегда». Но раздался стук в дверь, и индус Сирил открыл, впустив прямоугольник света. Там стоял тот шофер – Стэнли Косицки; он сказал:
– Вон та дама – она должна мне пятьдесят центов.
А я совсем забыла об этом.
– Ленни, – сказала я, – я забыла. Это шофер такси. Я должна ему пятьдесят центов, а у меня только тридцать. Вот. Можете доплатить ему остальное?
Ленни посмотрел на меня с разочарованием и отвращением.
– Господи, Пейтон. Ты берешь такси, когда у тебя даже на метро денег нет, а потом заставляешь человека ждать. Да что это с тобой?
– Извини, Ленни, – сказала я. – Я правда забыла. Вот, возьми, пожалуйста, тридцать центов и заплати ему остальное. Я тебе верну.
– О, ерунда. – Он встал, прошел к двери, его плечи наконец заслонили сердитое бормочущее лицо шофера. Я отчаянно старалась заставить губы заработать, сказать шоферу: «Извините», но дверь закрылась. Я сидела молча, отклонив сумку вверх, слушая запрограммированное тиканье колесиков, затем в другом конце комнаты я увидела, как Алберт Берджер раскрыл, точно акула, рот в беззвучном смехе, сказал:
– Да ну! И ирония состоит в следующем: при том отвращении, какое мы, человеки, питаем к своему телу, секрециям, и жизненным силам, и плазмам, даже самые слабые продолжают лежать во влажных и пахучих супружеских объятиях. Да ну! И однако же…








